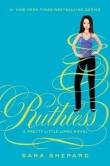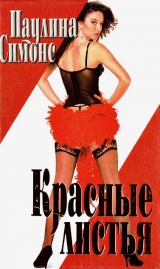
Текст книги "Красные листья"
Автор книги: Паулина Симонс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
– Подумай о том, что я тебе посоветовал. – И, оглянувшись, добавил: – Счастливо.
– Если Конни упрячут в тюрьму, это все равно не вернет Кристину, – проговорил Джим очень тихо.
– Конечно, нет. Мертвые не возвращаются. – Спенсер был уже у двери. Он обернулся и, посмотрев на Джима, веско добавил: – Ты позволил своим чувствам к Конни заслонить все остальное. Виновные должны предстать перед судом. – Спенсер сделал паузу. – Ты хоть осознаешь, что случилось? Жизнь Кристины кончилась навсегда. Понимаешь?
Джим поднял глаза и почти простонал:
– Нет.
Спенсер приблизился к Джиму:
– Что, черт возьми, ты такое говоришь? Что значит «нет»?
Джим попятился.
– Бог простит Конни, – прошептал он. – Он ее накажет и простит.
– Вот именно накажет, – сказал Спенсер. – Обязательно. Но это потом. А здесь, на земле. Божьи заповеди должны выполнять люди. И первая из них гласит: не убий.
Джим пристально посмотрел на Спенсера.
– Интересно знать, детектив, – хрипло произнес он, – как должен чувствовать себя человек, который вот так вот бесцеремонно явился и испортил людям жизнь, да кой там черт испортил, поломал их жизни. Как вам сейчас от этого – хорошо?
– Ты и понятия не имеешь об этом, парень, – проговорил Спенсер сквозь сжатые зубы, посмотрев на Джима сверху вниз. – Да если бы я захотел сломать тебе жизнь, я бы ее сломал в два счета. Понял? А так ты еще нормально проведешь свои рождественские каникулы.
Спенсер чуть не сказал ему о Натане Синклере, но потом решил не расходовать на этого типа ни грана своих усилий.
Во вторник утром Спенсер съехал со своей квартиры и снял номер в «Хановер инн». Здесь же, в одном из залов ресторана, Говард намеревался в среду устроить поминки, сразу после похорон.
Спенсер собирался остаться на похороны, а затем отправиться на Лонг-Айленд. Что-то было такое в этом совпадении, в том, что в свой последний день в Хановере Спенсер был вынужден остановиться в той же гостинице, где останавливался в свой первый день.
В номере мебели было больше, чем во всей его квартире. Из двух высоких окон открывался вид на колокольню башни Бейкер и на Дартмут-Холл. После обеда Спенсер немного вздремнул на постели королевских размеров с плетеным покрывалом-макраме. Он проснулся точно в три от звука колоколов на башне. Они играли мелодию: «Пусть идет снег, пусть идет снег, пусть идет снег».
Он выглянул из окна. Снег не шел.
Когда Спенсер вышел на улицу, было холодно, но солнечно. Он посмотрел на башню Бейкер, на ее черные стены и почувствовал укол сожаления: «Что я наделал?»
Он двинулся дальше, и боль от этого укола стала понемногу рассасываться. Он глядел на снег на крыше библиотеки Бейкер, на ее белую башню с часами, на студентов, мельтешащих вокруг Дартмут-Холла, и не чувствовал былой привязанности к Хановеру. Спенсер двигался по Норт-Мейн-стрит. Хановер казался ему сейчас чем-то вроде старой любовницы. Когда-то она была красивая, но теперь, глядя на ее лицо, он испытывал только скучное раздражение, и ничего больше. Пошло оно все к черту.
Он влез в свою «импалу». Он увидел на сиденье полицейскую переносную радиостанцию и сирену с маячком. Надо будет как-нибудь их вернуть.
Он поехал в «Красные листья». По пути Спенсер думал о том, как Кристина чуть не погибла под насыпью у водохранилища, и замедлил движение, когда проезжал мимо места, где случилась та авария. Ему сразу же засигналила ехавшая сзади машина, и он прибавил скорость, пытаясь не обращать внимания на жжение в желудке.
Спенсер проехал через Ливан и взял вправо, свернув на тихую улицу. В «Красных листьях» он бывал дважды. Оба раза чтобы привезти сбежавших из дому беременных девочек. Во всем их районе это было единственное такое место. Неудивительно, что Кристина полюбила «Красные листья».
Он вышел из машины, прошел мимо доски с названием заведения, которая была прибита к столбу, вцементированному рядом с подъездной дорожкой, и постучал в дверь. Открыла женщина. Она переадресовала его к другой женщине, а та к другой. Владелицы «Красных листьев» сегодня не было – так его проинформировали, – но, может быть, кто-нибудь другой окажется ему полезен?
Когда выяснилось, кто он такой, то его окружили воспитатели и девочки, как прихожане – пастора. Они закудахтали вокруг него, тут же сунули ему в руки чашку чая и все время прерывали его рассказ восклицаниями о том, как это невероятно, как в это невозможно поверить, как это могло случиться, потому что такого рода вещи никогда здесь не случались! Спенсеру хотелось им сказать, что такого рода вещи случаются везде.
Ему хотелось рассказать им, как много значили для Кристины «Красные листья», но он не нашел нужных слов. Заплаканные женщины сами рассказали о том, как много значила для них Кристина Ким.
«В принципе, – подумал Спенсер, – если бы никого не нашлось, тело Кристины можно было вполне отдать им. Они бы устроили ей достойные похороны».
Спенсер объяснил, что преступление скорее всего совершено на почве страсти, что та девушка, которую подозревают в убийстве, очень неуравновешенная, что уже несколько лет она терзаема ревностью и поэтому вполне могла на этой почве временно потерять рассудок. Одна из женщин заметила, что поскольку Кристина была очень красивая, то, наверное, для ревности причин было предостаточно. Спенсер нехотя с ней согласился. Потом разговор плавно перешел на обсуждение Кристины живой, и ему полегчало.
Он спросил, придут ли они завтра на похороны. Потом поинтересовался, дошло ли до них известие о том, что их заведению пожертвованы деньги.
Вперед выступила помощница владелицы приюта.
– Конечно, нам все известно, – сказала она. – Кристина была замечательная и добрая. Правда? Подумать только, она вспомнила о нас и завещала нам свои деньги! И так много.
Она рассказала Спенсеру, что после того, как местная газета в воскресенье написала, что все состояние Кристины перейдет к «Красным листьям», было очень много откликов. И каких! К сегодняшнему дню уже получено пятьсот конвертов с чеками. Одна из воспитательниц принесла три корзинки для почты, чтобы показать Спенсеру. На него это произвело большое впечатление. Кристина все же оставила след на земле. Ее доброе деяние породило другие добрые деяния. На самом деле это было доброе деяние Альберта – нет, Натана, – что породило другие, но Спенсер отказывал этому негодяю даже в малейшей признательности.
Спенсер посидел некоторое время, вежливо кивая, слушая их славную милую болтовню. В кресле было удобно, в комнате тепло и необычно приятно. Из окна на него падали последние лучи заходящего солнца. Спенсера потянуло в сон. Он и на самом деле закрыл глаза на мгновение, а когда открыл, все его нутро болело и стонало: «Домой! А где он, мой дом? Да где бы ни был этот мой дом, одно я знаю точно – это не Хановер».
Распрощавшись с ними и выйдя к машине, Спенсер вдруг осознал, что первый раз в жизни пил чай. Так уж случилось, но до сегодняшнего дня он ни разу не пробовал чая.
В ресторане Спенсер угостил себя дорогим ужином. Он знал, что это его последний вечер в Хановере.
Обстоятельства, заставившие его уйти с работы, которая была для него единственной отрадой в жизни, Спенсера пока не трогали. Даст ли шеф хорошую рекомендацию или ему придется ходить в охранниках до конца жизни?
Вот с Уиллом получилось плохо. За эти годы они сдружились. Спенсер сожалел, что не смог уйти как-то иначе. Не так грубо. Приветливее. Может быть, надо было поступить по-людски – устроить проводы и прочее?
Он подумал о том, что, может быть, стоит возвратиться в управление и попрощаться, хотя бы со своим верным напарником, да и с остальными, а заодно отдать полицейское имущество, которое осталось у него в машине, но вспомнил, что там, где-то совсем рядом, в камере томится Конни Тобиас, и отказался от этой мысли.
С Конни Спенсеру не то что встречаться, даже близко находиться сейчас не хотелось. Потому что как только он закрывал глаза, то видел Кристину. Вот она, обнаженная, не очень твердо ступает по перилам моста, и вдруг к ней устремляется фигура, приглядевшись к которой можно узнать Конни. Она в модной куртке и вязаной шапочке. Вот она выбрасывает вперед руки и с силой толкает Кристину. Та падает…
Интересно, какое объяснение придумала для себя Кристина, если смогла в течение двенадцати месяцев жить, постоянно общаясь с человеком, который хотел – она это точно знала – ее убить?
«Слишком долго жила Кристина рядом со своей смертью. Слишком долго», – подумал Спенсер, пытаясь вызвать аппетит к тушеной утке, которую он заказал. Он много пил. Он сидел за столом один, и, когда его бокал оказывался пустым, он делал знак официанту принести другой. Спенсер сидел тихо, никого не беспокоя, сидел и просто пил, чтобы залить свою боль, пил, чтобы забыться. Кдвум часам ночи он принял виски достаточно, чтобы забыть очень многое, может быть даже большую часть того, что помнил.
Кроме, пожалуй, одного – того, что рассказала ему Кэтрин Морган Синклер. Такое он забыть не мог.
Глава 8
ОДНАЖДЫ В ГРИНВИЧЕ, ШТАТ КОННЕКТИКУТ
Воспоминания о рассказе Кэтрин Синклер давили на переполненную виски душу Спенсера.
Он вошел и увидел ее. Она тихо сидела в инвалидном кресле у окна в белой раме.
Наверное, раньше она была красивой и стильной женщиной. Даже теперь можно было разглядеть – если, конечно, очень стараться – слабый намек на прошлое. Волосы Кэтрин были распущены. Он представил, как они выглядели, когда имели цвет и по ним регулярно проходилась расческа и, конечно же, шампунь с кондиционером каждый день. Эти волосы (не эти, конечно, а совсем другие), наверное, завивались, а может быть, свободно лежали светлыми локонами на плечах. Кэтрин Морган Синклер. В самом звучании этого имени чувствовалось очарование, оно имело какой-то романтический ореол. И не важно, где Кэтрин находится теперь, как она выглядит, как одета или как говорит. Единственное, что имеет значение, так это ее имя. Оно говорит все.
«Я Кэтрин Морган Синклер, – говорит оно. – И я когда-то жила».
Это было чудо, что Спенсер ее нашел. В воскресенье утром он потратил два с половиной часа, обзванивая все больницы штата Коннектикут, пока не отыскал Кэтрин Синклер в Норуолкской государственной больнице. Директор разговаривал со Спенсером очень неохотно, сказал, что Кэтрин очень слаба, и был категорически против того, чтобы разрешить Спенсеру увидеться с ней, – не важно, полицейский он или не полицейский. Спенсеру пришлось пригрозить, что Кэтрин вызовут повесткой; только тогда его впустили.
Он шел на встречу с ней, просто не зная, чего ожидать.
– Мне сейчас намного лучше, – сказала Кэтрин. – Я могу выписаться в любое время, но здесь так хорошо, и они так хорошо обо мне заботятся.
Узнав о приезде Спенсера, она немедленно согласилась с ним увидеться, не зная, кто он и с какими вестями пришел, и теперь сидела молча, с прямой спиной в кресле на колесиках. Время от времени она поворачивала лицо к окну, туда, где, как она, видимо, знала, находились парк, луг и озеро.
Кэтрин была слепа. Она сидела тихо, сзади инвалидного кресла была прикреплена белая трость. Спенсер предположил, что эта белая трость была излишней. Ее прикрепили, наверное, сестры. А сделали они это потому, что она попросила. Но было видно, что Кэтрин Синклер уже очень давно не поднималась со своего инвалидного кресла. Весь ее облик свидетельствовал о давней и полной атрофии мышц и кожи.
Спенсер откашлялся.
– Не беспокойтесь, детектив О'Мэлли, – тихо произнесла Кэтрин ровным голосом. – Я знаю, что вы пришли сообщить мне о ее смерти. Так ведь?
Спенсер кивнул, а затем, осознав, что она его не видит, подал голос:
– Да.
Кэтрин конвульсивно передернулась, справляясь с судорогой. Это началось с век и прошло весь путь вниз через рот, шею, руки, ноги и закончилось ступнями. Затем Кэтрин затихла снова.
Она смотрела в пространство, куда-то слева от головы Спенсера, а он уставился на плед, покрывающий ее колени. Смотреть на нее было невыносимо трудно.
Наконец Кэтрин попросила Спенсера подать ей воды.
Сделав глоток, она прошептала:
– Моя деточка. Деточка. – Спенсер потянулся и коснулся ее руки, но она остановила его: – Нет-нет, детектив. Пожалуйста, не надо. С вашими утешениями мне будет еще труднее. Я скоро буду в порядке. Только дайте мне пару минут.
Он дал ей две минуты, а затем пять.
– Вы знали мою дочь, детектив О'Мэлли?
Он кивнул, а потом опомнился:
– Да, миссис Синклер. Знал. Не очень хорошо, к сожалению.
– Она была все такая же красивая?
– Очень красивая.
Кэтрин улыбнулась:
– Да. Это был исключительный ребенок. У меня просто разрывалось сердце, когда я смотрела на нее. Просто не могла поверить, что это моя дочь, такая красавица. Или вы считаете, что каждая мать думает так о своем ребенке?
Мать самого Спенсера тоже думала, что ее дети самые красивые.
– Кристина была хороша собой совершенно объективно, – сказал он.
Она кивнула:
– Да. Вы знаете, я счастлива, что теперь не могу видеть. Я видела ее, и этого достаточно. Мертвой я видеть ее не хочу. – Ее глаза наполнились слезами.
Спенсер отвернулся.
– Как она умерла, детектив? Это была автомобильная катастрофа? Она замерзла? Была убита?
Спенсер хотел сказать, что верны все три ее версии.
– Она замерзла, – ответил он. – Но откуда вы знаете?
– Снег. Она любила снег, – судорожно проговорила Кэтрин. – Во время снегопада она обычно выбегала на улицу в одной пижаме. И падала на спину в снег. «Вставай немедленно! – кричала я на нее. – Ты когда-нибудь вот так замерзнешь».
Спенсер поежился.
– Это вообще чудо, что Кристина выжила, – продолжала Кэтрин Синклер. – Ведь у нее был врожденный диабет. У Кристины и ее брата-близнеца. Они родились раньше срока на восемь недель.
Затем Кэтрин добавила, что мальчика спасти не удалось, он родился слишком слабым.
Кристина тоже первые три месяца провела в больнице, отчаянно боролась за жизнь и победила. Кэтрин похоронила своего младенца сына, а затем каждый день приходила в Гринвичскую мемориальную больницу и сидела у инкубатора, где содержалось ее дитя. При рождении Кристина весила один килограмм двести граммов, но крепко вцепилась в жизнь и не выпускала ее из своих ручонок.
– Если бы вы знали, детектив О'Мэлли, – вздохнула Кэтрин Синклер. Ее глаза были застланы туманом, а пальцы неистово теребили поношенный хлопчатобумажный плед, лежащий на коленях. – Я следила за каждым ее вдохом, думая, что он будет последним. Я прислушивалась к ней, наблюдала, как она хватает ротиком воздух, как эти вдохи и выдохи становятся все короче и короче, а перерывы между ними все длиннее и длиннее, и мне казалось, что я, наверное, сойду с ума. Вот еще один вдох… Но она все же выкарабкалась. Мы забрали ее домой как раз в день ее рождения, когда ей исполнилось четыре месяца. Она весила тогда уже три шестьсот. – Кэтрин улыбнулась. – И она выросла такая хорошенькая. Ведь правда? – Внезапно Кэтрин Синклер перестала улыбаться, перестала теребить плед и повернулась к окну. – Она выросла такая хорошенькая. Такая аккуратная. И не была диабетиком. Прошло, как будто и не бывало. Она была здоровой, как и любой ребенок в ее возрасте. Даже не болела ветрянкой и другими детскими болезнями, редко простужалась, никогда не болела гриппом. Нельзя было даже поверить, что при рождении она была на волосок от смерти.
– Нет, конечно, – согласился Спенсер. – Она была немного похожа на вас, – добавил он, пытаясь – но, со всей очевидностью, напрасно – как-то утешить бедную женщину.
– За первые семь лет жизни, – продолжала Кэтрин после некоторой паузы, – наш единственный ребенок был избалован так, что вы не можете себе вообразить.
– Я могу вообразить, миссис Синклер, – отозвался Спенсер.
– У нее были две гувернантки. В четыре года она начала заниматься на фортепиано (у нее был свой большой рояль фирмы «Стенвей»), а в пять – балетом и гимнастикой. В семь она захотела учиться играть на скрипке, так что мы с мужем купили ей лучший инструмент, который можно было достать. Она училась верховой езде, у нее была своя лошадь в конюшне, которую мы построили позади нашего имения. Мой муж был очень преуспевающим бизнесменом, и я тоже, когда выходила замуж, была с деньгами. Моя мать была очень богата.
– Я это знаю, – сказал Спенсер.
– Все в ней души не чаяли. Я все время кружила над ней, где-то сзади в пространстве, она мне была постоянно нужна, мне то и дело хотелось ее видеть. Я подходила к ней, когда она, например, играла Моцарта, и начинала покрывать ее лицо поцелуями. Она увертывалась от них, тут же стирала их следы, а я не обращала на это никакого внимания. Она была моим единственным ненаглядным ребенком – вы можете вообразить, как я ее любила?
Такой достаток, такое богатство, такую материнскую опеку Спенсеру вообразить было, конечно, трудно. «Вот черт», – выругался он про себя и мотнул головой.
– Когда Кристине исполнилось семь, мы с мужем поняли, что портим ее. И что пора остановиться. Она начинает тяготиться нашим вниманием, замыкается в себе, пытается быть независимой. Ей нужны были брат или сестра. Но самим иметь детей для нас возможности практически уже не было. Можно было, конечно, попробовать, но риск был огромный – и для меня, и для будущего ребенка.
– Да, миссис Синклер, я понимаю.
– Мы взяли ребенка из приюта в Техасе. Это было трудное решение. Чтобы найти подходящего мальчика, нам пришлось доехать до Остина.
Спенсеру оставалось только кивать.
– Это был прекрасный маленький мальчик, темный, худенький, хорошо себя вел, он даже был немножко похож на нашу Кристину. Ему очень нужны были дом и семья, и все нам так чудесно подходило. Мы дали ему и дом, и семью. Сестры в приюте сказали, что он был найден три года назад ночью на развилке местного шоссе. В приюте он не говорил. В первый год ни слова. То есть он начал говорить за два года до того, как мы его усыновили. У него не было имени, он не знал своих родителей, не знал даты своего рождения. Сестры звали его Билли. Мы дали ему другое имя – Натан. Так звали нашего умершего мальчика. Дату рождения мы ему установили на день раньше Кристины. Решив, что раз мальчик, пусть будет старше, хотя бы на день. Да и наш умерший мальчик был старшим из близнецов. Он родился на десять минут раньше Кристины.
Кэтрин, должно быть, почувствовала какую-то реакцию Спенсера.
– Да, я знаю. Есть такой старый предрассудок, суеверие. Что не следует называть живого ребенка именем умершего, – так говорили мне друзья. «Ну почему? – отвечала я. – Евреи, например, на это внимания не обращают. А чем мы хуже евреев?» В общем, я настояла, чтобы его назвали Натаном. Люди мы были верующие, но не суеверные. Каждое воскресенье ходили в церковь, произносили молитву за ужином. В старые бабушкины сказки мы не верили.
– Пожалуй, я тоже, – согласился Спенсер.
– О, но нам бы следовало, – горько усмехнулась Кэтрин. – Мы усыновили его, мы дали ему нашу фамилию, мы дали ему все, что дали Кристине. Да нет же, мы дали ему больше. Он был такой маленький, и нам было его так жалко. И он всего хотел.
– Не сомневаюсь, – отозвался Спенсер.
– Кристина же, в общем-то, ничего не хотела. Как я говорила, она была у нас независимая. Она считала, что папа и мама ограничивают ее свободу, постоянно ее опекают. Впрочем, мы так и делали. Но Натан – совсем другое дело. Он жадно впитывал все, упивался нашей любовью и очень к нам привязался. Он не любил никуда ходить без нас или оставаться дома на ночь, когда нас не было. Он был ласковый мальчик. Красивый.
Дети адаптировались друг к другу мгновенно. Кристина вела себя поначалу агрессивно, и я всегда выступала на стороне Натана: «Кристина, перестань дразнить своего брата. Кристина, перестань дурачиться. Кристина, оставь его в покое. Кристина, веди себя прилично. Кристина, Кристина, Кристина…» – Кэтрин произносила имя дочери так, как будто ее ласкала.
– Я смотрела на них, любовалась ими и радовалась. Они играли, дрались, смотрели телевизор, бегали по двору. Кристина научила Натана плавать – он не умел. Она научила его бояться.
– Бояться чего?
– Всего. Если было какое-то качество, которое бы описывало его целиком, так это бесстрашие. Натан не боялся ничего. Не в пример Кристине, у которой было огромное количество детских страхов. Темноты она боялась в особенности. Натан научил ее задерживать дыхание под водой так долго, что вызывали спасателей. Натан был мальчик, настоящий мальчик. Он лазал по деревьям, перепрыгивал с одного на другое, а однажды, перелезая через забор, сломал себе ногу и не говорил никому целых три дня. Он получал отличные оценки по всем предметам, порой даже не заглядывая в учебник. Он был нашей звездой. Мы не могли поверить, что Господь одарил нас таким мальчиком.
Спенсер успел подумать, что Натан все-таки недостаточно обучил Кристину, потому что она продолжала бояться темноты.
– Кристина не ревновала?
– Вы что, смеетесь? Должно быть, она чувствовала себя очень одинокой первые семь лет жизни. Это мы ревновали их друг к другу. Они были неразлучны. У них была такая связь, которую мы даже не понимали. Это было непостижимо.
В школе они были первыми. Имели безупречные манеры, даже Натан, которого вытащили из какого-то мусорного ящика в Техасе. Прошло три года, затем пять, затем семь. Я возвратилась к своей благотворительной деятельности, муж много работал по части бизнеса, он занимался импортом тканей, мы выезжали, мы принимали гостей, и тогда Кристина играла на рояле, а Натан пел. У него был красивый голос.
Даже теперь, после всего, оглядываясь назад, на те годы, я вижу, что у нас была превосходная жизнь. У нас была жизнь, о которой большинство людей могли только мечтать. Многие наши друзья были уже разведены, некоторые по многу раз, и снова женаты; они сходились, расходились, у них были проблемы с детьми, пасынками, сводными братьями и сестрами, которые принимали наркотики в тринадцать, выходили из этого с ломкой в пятнадцать, их ловили на воровстве, на воровстве у родителей; это были грубые, испорченные, избалованные дети, это были несчастные матери и чего-то ищущие, неугомонные отцы. Мы знали женщин, которые вступали в связь, наверное, почти с каждым, кто приближался к их двери, и их мужей, которые работали дни напролет как проклятые, а ночью отворачивались к стене и засыпали. Кроме, кажется, одного, который застрелил свою жену.
Спенсер вскинул брови.
– Джон и я думали, что нам удалось оградить наших детей от всего этого. Мы думали, что дали им хорошую жизнь.
– Но это так и было.
– Да, мы тоже тогда так думали, – сказала Кэтрин. – Даже сейчас я не могу сказать, в каком месте мы ошиблись. Может быть, мне следовало уделять им больше внимания? Меньше? Уделять больше внимания Кристине? А Натану меньше? Усыновить еще одного ребенка? Что нужно было сделать?
Спенсер не знал, что сказать. Но надо было как-то отреагировать, и он потянулся и погладил руку Кэтрин. Она встрепенулась.
– То, что вы рассказали, миссис Синклер, не оставляет никаких сомнений, что вы действительно дали им отличную жизнь, – проговорил он, а в ответ она издала какой-то скрипучий звук, похожий на всхлипывание.
– Конечно, так оно и было. Мы любили этого мальчика как родного. Вы понимаете?
– Абсолютно – сказал он.
– Мой муж лелеял надежду, что придет время и Натан возьмет в свои руки семейный бизнес. Что есть кому на старости лет передать дело. И в нашем завещании мы разделили состояние между детьми поровну. Они оба имели солидные счета, которыми могли распоряжаться с той поры, когда им исполнится двадцать один год.
Спенсер кивнул, снова с опозданием поняв, что она его не видит.
– Натан и Кристина… – Кэтрин тяжело сглотнула, как будто произносить вместе эти два имени доставляло ей физическую боль. – Мало-помалу они начали от нас отдаляться. Натан перестал проявлять желание проводить с нами время. А Кристина никогда этого особенно не хотела. «Ладно, – говорили мы. – Это вполне нормально для подростков. Ведь мы для них уже старики. Что им с нами делать, в самом-то деле?» К тому времени, когда им исполнилось по четырнадцать, они были отдалены от нас как никогда. Мы относили все это к трудностям переходного возраста. Иногда подростки ведут себя именно таким образом. Во всяком случае, их дела в школе не страдали, они по-прежнему успевали по всем предметам и ужинали всегда с нами. Но что-то изменилось. Не знаю. Может быть, это все из-за моей милой девочки, из-за моей доченьки. Мне казалось, что я ее знаю. Она всегда была такая искренняя, открытая девочка, но в последнее время, ну, тогда, в те времена, – быстро поправила себя Кэтрин, – она стала замыкаться в себе и не очень показывать, что у нее на душе. Понимаете? Я еще слышала голос Натана в доме, но Крисси вообще перестала отвечать на вопросы. Обычно, слушая, как они ссорятся, я улыбалась, но теперь там, у них наверху, было тихо. Они были неразговорчивы и в гостиной, например за ужином. Очень вежливые. Слишком вежливые.
Может быть, это был подростковый бунт? Мы с мужем мучились и не находили ответа. Если это бунт, то все не так уж плохо, решили мы. Мы знали, что многие родители получали от своих детей много хуже, чем такой бунт. Когда растешь в достатке и все тебе потворствуют, это должно как-то проявиться. Оно и проявляется.
– Но в чем конкретно? – спросил Спенсер, чувствуя, что не очень желает это знать.
– Действительно, мы пока не видели в чем. Ну вели они себя замкнуто, ну и что в этом такого плохого? Мы ничего не видели – ни муж, ни я. Представляете, я со своим тогда стопроцентным зрением. Ну разве это не ирония, если посмотреть на меня сейчас? – Кэтрин улыбнулась в его направлении.
«Она, должно быть, когда-то была красивая», – подумал Спенсер.
– Я вот вам сейчас рассказываю, но тогда я была очень беспечна. Я занималась благотворительностью, устраивала у себя дважды в неделю малые и большие приемы, мы ездили в Нью-Йорк по делам благотворительности, по другим светским делам; в Нью-Йорке тоже были театры, приемы.
Ей хотелось рассказать ему о своей прошлой жизни как можно больше. Спенсер уже имел достаточное представление о том, какую жизнь они вели в своем особняке в Гринвиче, в штате Коннектикут, но она прерывать свой рассказ и не думала. Ей нужно было выговориться. Она продолжала пространно рассказывать о занятиях Кристины на фортепиано и скрипке, о ее успехах в балете, о деньгах, которые она тратила на балетную обувь и пачки, о том, как Натан создал в школе баскетбольную команду.
– В первый раз я задумалась о том, что что-то не так, когда Кристине исполнилось четырнадцать с половиной лет. И она пришла ко мне… Нет, не она, а ее гувернантка, миссис Питт, пришла ко мне и сказала, что Кристина перестала заниматься музыкой и танцами. Всем сразу. Когда я потребовала объяснений, Кристина сказала, что ей стало скучно. Это было очень странно. Вы должны понять: она играла на фортепиано с четырех лет. И теперь хочет бросить? Таких объяснений я не приняла. Мой муж тоже. Но что мы могли сделать? Она не сказала нам ничего плохого. Мы послали ее к нашему семейному психоаналитику, который сказал, что она очень замкнута. Он воспринял все довольно серьезно, и это нас озаботило. Он сказал, что ее поведение, скорее всего, является реакцией на что-то. Он спрашивал, не умер ли кто недавно в нашей семье. «Нет, – ответили мы. – Никто не умирал, у детей все есть, здесь проблем нет».
Каждое лето они ездили в Нью-Хэмпшир к моей матери, на озеро Уиннипесоки. Она обожала их обоих, была от них без ума, но Кристина всегда была ее любимицей, вне всяких сомнений. Я была у матери единственным ребенком. Мне кажется, она считала Кристину своей второй дочерью. Дети любили туда ездить, она любила их принимать. Но когда Кристине исполнилось четырнадцать с половиной, она тихо и спокойно заявила, что предпочитает туда не ехать. Это было необъяснимо. Не ехать? Но почему? «Бабушка так тебя любит». «О, ты знаешь», – сказала она, а затем, поколебавшись немного, замолкла. Я не могла вытянуть из нее больше ни слова. Но она поехала. На следующий год Кристина снова сказала, что не хочет ехать к бабушке, потому что на лето есть какие-то дела здесь. Я знала, что, если она не приедет, для моей мамы это будет удар. Кристина проводила у нее каждое лето с момента рождения. Когда Кристина не предложила мне никаких конкретных объяснений, почему она не хочет ехать, я стала настаивать. «Это смешно», – сказала я. – Кэтрин сделала паузу. – И она поехала.
– Она поехала – и?.. – спросил Спенсер.
– Нет, они оба поехали. Конечно. Они поехали оба. Я больше об этом не думала, но, когда они вернулись, Кристина была еще более замкнута, чем всегда. Даже моя мама упомянула в телефонном разговоре о настроении Кристины. Мы довольно долго обсуждали это и решили, что всему виной переходный возраст. Половое созревание. У вас есть сестры, детектив?
– Да, у меня три сестры.
– Они проходили через эту подростковую тоску, это смятение?
Он ничего такого не помнил. Для него они всегда были одинаковыми, и к тому же он находился в слишком юном возрасте, чтобы заметить, как они вели себя с другими. Сестры в какой-то мере заменяли в детстве Спенсеру мать. Когда он родился, то Кэтлин, старшему ребенку в семье, было уже двадцать, Морин, четвертой по счету, – четырнадцать, а Сайнид – тринадцать. К тому времени, когда он стал достаточно взрослым, чтобы кое-что понимать, они уже давно не только выросли, но расцвели и вышли замуж. Кэтлин вообще родила Харри за два года до рождения дяди, то есть его, Спенсера. Он доводился Харри дядей. Ему сейчас тридцать два, и он зовет его «мой младший дядя Спенсер».
– Я полагаю, что да, – ответил Спенсер. – Мне кажется, они менялись с возрастом.
– Да, это верно, – резко проговорила Кэтрин. – Я уверена, что ваша мама ни о чем таком не думала.
– Не сомневаюсь, что так оно и было, – сказал Спенсер.
– Вот и я тоже. Кристина и Натан возвратились из Нью-Хэмпшира, начались занятия в школе, все было в порядке. Я продолжала заниматься своими делами. Тогда в Гринвиче перед Благодарением и Рождеством было много благотворительных мероприятий.
– И что потом?
– Потом? Потом ничего. Как-то в октябре восемьдесят восьмого года я занималась в своей большой гостиной чем-то, сидя на новом диване, и тут приходит муж – это было в четверг поздно вечером, он только возвратился с делового ужина, – так вот, он входит в говорит: «Мне нужно поговорить с тобой. Это насчет Кристины».
Я рассеянно поднимаю глаза и говорю: «Конечно. Но в чем дело?» Я как раз не то заклеивала конверты с письмами, не то разбирала почту. Джон сказал, что люди говорят насчет Кристины ужасные вещи, невероятно ужасные, что он так был взбешен сегодня утром, что даже ударил своего брата Джеффа. Джефф, по-видимому, пустил какой-то слух.