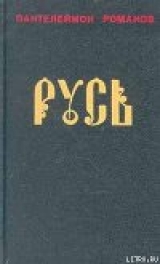
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 46 страниц)
VIII
Владимир известил друзей о том, что сегодня он задаст такой пир, какого не было у него давно. Почти с самого утра, едва пришёл из города, где охрип от криков «Ура», он начал готовиться к вечеру. В помощь Феклуше был вызван официант из «Праги», потом пришёл Исайка, которого Владимир тут же заставил работать.
У Владимира везде связи, и поэтому у него были все вина, вплоть до шампанского, которое для такого великого дня, по его словам, совершенно необходимо.
Владимир звал только знаменитых гостей и заботился, чтобы им было удобно и хорошо сидеть. Он продолжал по-прежнему поклоняться национальным талантам. Остальных он не звал, но хорошо знал, что все придут. И столько придёт, что придется ещё к большому столу подставлять другой стол и таскать из других комнат стулья. Но об этом он уже не заботился, зная, что те сами это сделают.
Теми он называл людей, не имеющих знаменитого имени, – всяких художников, музыкантов, поэтов, которые приходили к нему, как к себе домой, пили, ели.
К знаменитым именам Владимир относился с трогательным поклонением и любовью. Он не знал, где усадить, чем угодить. Они же смотрели на него, как на своего слугу, которому можно приказывать, покрикивать на него и подшучивать над ним. А сам Владимир в свою очередь смотрел на тех как на приживал и без церемонии сгонял их с места за столом, если приходил какой-нибудь более важный гость и за столом недоставало места. Но те со своей стороны считали Владимира низшей натурой, буржуем, который должен быть благодарен им за честь, что они у него пьют и едят.
Владимир на каждый звонок бросался сам открывать в надежде, что это кто-нибудь из знаменитостей, но если оказывалось, что это не знаменитость, а кто-нибудь из тех, он разочарованно-откровенно говорил:
– Это ты, а уж я думал. – и уходил в столовую.
К 11 часам вся столовая была полна народу. Тут были художники, музыканты, знакомые Владимира и незнакомые, так как к нему каждый приводил, кого хотел, и, представляя гостя хозяину, говорил только:
– Привёл к тебе будущую знаменитость. Цени.
Владимир, сам плохо разбиравшийся в искусствах, жал руку будущей знаменитости, но потом, отозвав кого-нибудь в сторону и наведя более точные справки, обыкновенно узнавал, что этой знаменитости грош цена, и уже не церемонился с ней, а подойдя в случае нужды, говорил:
– Ну-ка, ты, подвинься или пересядь туда.
В этот раз все приходившие были заражены необыкновенным возбуждением. Каждый рассказывал свежие новости. Даже стол, густо заставленный приборами, закусками и бутылками, как-то мало привлекал к себе общее внимание. Все, стоя посредине комнаты, говорили, перебивая друг друга.
Знаменитости приходили к Владимиру не для того, чтобы пить и есть у него, не из каких-либо соображений, а просто потому, что его бескорыстная преданность людям искусства, в котором он в то же время ничего не понимал, трогала и обезоруживала всех. Было уже как-то принято, что не пойти к Владимиру, когда он созывает друзей, нехорошо. Ни у кого не хватило бы духу обидеть его невниманием.
Причём у него не было строгого разграничения в области искусств в смысле его симпатий: он, например, одинаково ценил что регента, так как был большой поклонник церковного пения, что какого-нибудь необыкновенного баса из хора того же регента, что художника Коровина, которого звал Костей Коровиным и рекомендовал его как национального гения и своего лучшего друга.
Регента и баса он особо ценил из своего личного чувства, а что касается деятелей искусств, тут уж он всецело полагался на общую оценку, на общественное мнение. И всё это не из желания прихвастнуть тем, что у него бывают знаменитые люди, а из какой-то сердечной потребности поклониться и выразить свою любовь и уважение национальным талантам. Он всегда при этом унижал себя и, прибавляя к себе ещё кого-нибудь из тех, говорил:
– Мы-то что – навоз, помрём, и ничего не останется, а вот они – вся Россия их знает и никогда не забудет, потому что народ чувствует! – И он питал уважение ко всякому человеку, про которого ему говорили, что это как раз такой, после которого останется память, к какой бы области жизни ни принадлежал этот человек, – включая сюда даже общественных и политических деятелей. Было даже достаточно, если Владимиру говорили: «Это брат такого-то, того знаменитого», – и симпатии Владимира уже переходили по родственной линии, в особенности если брат того-то оказывался сам хорошим малым и хоть в будущем обещал, что от него что-нибудь останется.
Пришёл знаменитый художник с седыми пушистыми кудрями, молодецки расчёсанными на косой пробор, с большим чёрным бантом галстука, с живыми, блестящими молодым блеском и одушевлёнными глазами. У него были барские манеры, и он имел привычку, сидя в кресле и слушая собеседника или общий хор говорящих голосов, проводить рукой по своей седой раздвоенной бороде.
Его Владимир звал по имени и отчеству – Анатолий Павлович, но на «ты». Всегда сажал на первое место и больше всего за ним ухаживал. Кроме того, что он был знаменит, никто не умел так загораться за товарищеской пирушкой и так вдохновенно-молодо говорить, пить за женщин, за всё прекрасное в жизни и рассказывать чудесные вещи о светлом и прекрасном будущем человечества.
Регент Паша, как его звал Владимир, был совершенно молчаливый мужчина с очень густыми бровями и несколько красными щеками, которые ещё больше краснели, когда он пил. Пил же он бесконечно много и тоже молча, никогда при этом не пьянея. А когда Владимир, хлопая его по плечу, прославлял таланты регента, тот только скромно улыбался и останавливал его, застенчиво двигая бровями. Бас – Семён тоже был молчалив и тоже пил невероятное количество, что Владимир также относил к талантливости русской натуры.
Паша с Семёном всегда испытывали некоторое неудобство, когда приходили и нужно было как-то занимать время до ужина. Обыкновенно они стояли в сторонке, всё потирая руки и молча оглядывая гостей.
Потом явился замечательный гитарист, который вошёл, как всегда, с размашистыми жестами, приветствуя друзей, и все бывшие в комнате так же дружески и весело приветствовали его.
Никто так, как он, не мог заставить свою изумительную гитару попасть в тон общему настроению, а его глаза и вдохновенный голос то сверкали безудержной весёлостью, то звучали надрывной тоской, когда захмелевшие головы и размягчённые сердца жаждали тоски и упивались ею, как последней сладкой отравой.
Любит тоску в песне русский человек… Очищает он ею душу, как исповедью, и часто в чаду хмельного веселья останавливаются у него на одной точке глаза, и просится душа его вырваться на волю в тоскливой, за сердце хватающей песне. Любит он и слёзы, хотя бы после десятого стакана. Так как скрытен в своём самом святом русский человек, и только после десятого стакана полностью раскрывается его сердце. Потому так и любит он доходить до десятого стакана. И нет ничего хуже, как не допить. Потому что душа уже запросилась на волю, слова уже готовы вырваться, рука уже занеслась, чтобы обхватить за шею сидящего рядом и излить ему свою тайную печаль, а вина не хватило, чтобы распахнуться, Мысль ещё не пускает душу совсем раскрыться, и всё срывается, вместо исповеди получается озлобление, и гибнет благой порыв души часто в неожиданном взрыве скандала.
– Вася пришёл! Благодетель! Вдохновитель! – закричали со всех сторон, и Вася, сияя широкой, любвеобильной улыбкой, раздавал для пожатия на обе стороны свои руки и сам жал протянутые руки отдельно каждому, отдавая и свою улыбку, и приветное слово.
– С Пасхой вас! Не с возрождением, а с целым воскресением!
– Правильно, – раздались голоса, – с воскресением, именно с воскресением.
Василий в широкой блузе, спускавшейся вниз заутюженными складочками, с небрежно повязанным галстуком, с блестящими глазами, всегда готовыми засверкать ещё больше удалью от лихой песни, поздоровавшись со всеми и всем ответив на их обращения, остановился, приглаживая обеими руками волосы и оглядывая всех собравшихся, которые с улыбками смотрели на него.
Владимир был в каком-то вдохновении, он то бросался встречать новых гостей, то скрывался в кухне и, появляясь оттуда, перемигивался с тем из гостей, кто взглядывал на него, и смысл этого перемигивания был тот, что в кухне дело идёт ладно, и что если тяжёлое военное время значит что-нибудь для других, то не для него, Владимира, который для национальных талантов, для национальной гордости из-под земли всё достанет.
И действительно, когда в дверях показалась очаровательная исполнительница народных песен Анна Тимофеевна в ярком сарафане с монистами на груди, с ясной улыбкой на пухлых русских губах, то как будто в честь её понесли из кухни на стол огромный горячий окорок с зелёным горошком, селёдку по-крестьянски, жаренную в сухарях и с сыром в масле, и прочую благодать, которую приглашённый официант, нагибаясь между севшими за стол гостями, ставил на вытянутых руках на стол с покрасневшей от напряжения шеей.
Владимир и с официантом обращался не просто, как с прислугой, а представлял его гостям, как нечто выдающееся.
– Вот, имею честь представить, Иван Агафоныч, такой мастер, такой художник своего дела, что ему только в Европе место! – сказал он в то время, как Иван Агафоныч, полный и румяный, с бритыми щеками, в белом фартуке, сконфуженно улыбаясь, проходил между стульями и стеной в кухню.
– Стой! – сказал Владимир, – у меня примета: чтобы гостям было вкусно, мастер первым должен выпить за них. Дай вон тот стакан, – крикнул он одному из тех, – да не этот! Вот что перед твоим носом-то стоит! – Он взял стакан и, всунув его в руки Ивану Агафонычу, налил ему водки и стоял перед ним с графином, пока тот, взяв стакан из левой руки в правую, не опрокинул его, а потом, сморщившись и махая руками, отказываясь от закуски, поспешил в кухню, на ходу вытирая руки о полу своего белого фартука.
А тут и пошло…
Владимир был особенно в ударе, потому что момент настал исключительный – воскресение русского народа, а, следовательно, и большой предлог к тому, чтобы говорить речи. У Владимира же была неописуемая страсть к речам: в прозе, в стихах, которые в этих случаях читал его «ближайший друг и золотое сердце» Саша Голубин. Обыкновенно он читал застольный тост собственного сочинения. И, несмотря на то, что Владимир слышал его десятки раз, он всё-таки всегда слушал с величайшим восторгом, главным образом с тех пор, как узнал, что у древних римлян говорились застольные тосты в стихах.
– Ты в душе римский патриций, – внушал ему Василий, – патриций времён упадка, и к твоим пирам такие тосты идут.
И Владимир очень был доволен, что он в душе римский патриций, хотя не совсем ясно представлял себе, что такое патриций, но спросить об этом было неудобно.
Наконец задвигались стулья, и гости стали рассаживаться. Владимир суетился, усаживал почётных гостей и, не церемонясь с непочётными, предлагал им двигаться к концу стола и садиться вдвоём на один стул, так как народа набилось чуть не вдвое больше того, что могло уместиться за столом.
– Подождите вы! – крикнул Владимир на дальний конец, где сидели непочётные гости, которые, увидев закуски и вина, сразу же потянулись к бутылкам. – По порядку надо, что же вы, без тоста, что ли, будете пить? Ничего черти эти не понимают!
– Да садись ты сам-то! Будет тебе хлопотать! – кричали со всех сторон на него, так как он всё время вскакивал и бросался то в одну, то в другую сторону стола.
– Ну вот, теперь вали! – сказал Владимир, сев на своё место, однако продолжал ещё тревожно пробегать глазами по столу, как бы проверяя, всё ли в порядке. Первый тост, как и следовало ожидать, был за чудесное воскресение русского народа и освобождение его от рабства проклятого царизма. Все встали, потянулись чокаться, и несколько времени было слышно только позвякивание рюмок да короткие восклицания. Потом в разных местах раздалось такое же короткое кряканье после доброго глотка огненной влаги, виднелись поднявшиеся к губам салфетки, руки с вилками, потянувшиеся к закускам, и пир начался.
Речей было столько, как никогда. Анатолий Павлович, сидевший на председательском месте, встал с бокалом в одной руке и смятой салфеткой в другой и сказал к полному удовольствию Владимира несколько слов о счастливейшем на земле народе – русском, который, как в сказке Иванушка, которого считали простачком и дурачком, сразу же шагнул на тысячу лет вперёд и завоевал наконец себе свободу, о которой мечтал всю жизнь, и такую свободу, какой нет нигде.
– Верно! – крикнул Владимир. – Пейте, черти, что вы не пьёте, ведь теперь нигде не достанете.
Но гостям, кажется, этого и не нужно было говорить. Даже красавица Анна Тимофеевна раскраснелась и, закрываясь платочком по-деревенски, как и подобало при её костюме, тихонько посмеивалась, отвечая на ухаживания двух соседей.
И когда уже в головах зашумело и огненная влага прошла по всем жилам и затуманила глаза, встал Василий со стаканом в руке и сказал, что русский народ велик тем, что он умеет пить и в это время не знает никакой розни и умеет любить даже врагов своих. А при этом он любит песни и тоску, и веселье, как ни один народ в мире, потому что у него душа совсем особенная.
– Верно! Дайте ему гитару! Вася, спой, чтобы за сердце взяло. Ведь мы теперь свободный народ, самый свободный.
– И главное дело – сразу. Чик – и готово, всё к чёрту!
– Постойте, один тост за новое правительство! – крикнул писатель. – Правительство, которое впервые за всю историю мира провозгласило полную свободу и уничтожило из своего обихода всякое насилие, всякое принуждение. Оно положило в основу своего правления высочайшие гуманистические принципы, которыми жила интеллигенция. Запад с его узкой практической душой нас не поймёт, он будет считать нас юродивыми, мечтателями. Но мечтателями держится земля.
Тут все подняли свои бокалы, так как оратор поперхнулся и закашлялся. Но он, подняв руку и проглатывая слёзы от кашля, сделал знак, что ещё не всё. Гости опять поставили свои бокалы.
– Вам это непонятно. Но мы, писатели, переживаем истинное воскресение ещё и потому, что наши уста отверзлись. Сгинула навсегда проклятая царская цензура, развращавшая мысль писателя русского. Итак, за новую светлую власть. Ура!
Но тут на дальнем конце стола поднялся какой-то лохматый человек с криво повязанным галстуком и, несмотря на то, что хозяин делал ему запрещающие знаки, сказал:
– Я не пил за новую власть, потому что ни за какую власть никогда не пил и пить не буду.
– Поехал. – сказал кто-то с неудовольствием, так как этот человек разбивал общий подъём чувства и вносил какие-то скептические и критические нотки, тогда как всем хотелось от всей души верить, радоваться и провозглашать только бодрые тосты. Но оратор не обратил никакого внимания на возглас.
– В русском человеке бездны, – сказал он, – бездны такие, которые не может предусмотреть и удовлетворить никакая из казённых рук данная свобода. И ежели мы в принципе примем хоть самую свободную власть, значит, мы изменим своим заветам, своей русской душе. Я только тогда подниму свой бокал, когда всё к черту, всякая власть, хоть самая рассвободная!.. Вот нарочно из этого стакана не буду пить, – закончил он, ставя на стол стакан, который держал в руке. Он налил себе в другой и один выпил его.
– Тут есть великая правда! – воскликнул позднее всех пришедший Глеб. – Русская душа не живёт в равнинах нормированной упорядоченной жизни!.. Не перебивайте!.. Она жива только тогда, когда стоит на ребре. Она живёт только взлётами и пропастями. Середины нет. Середина убивает!
– Верно, верно! – закричали голоса.
Василий понял, что тут пришёл его момент. Он взял гитару, оглядел загоревшимися глазами всех, которые тоже жадно потянулись к нему плохо слушающимися глазами, положил руку на струны, и вдруг широкая, свободная волна мощного голоса покатилась по комнате, заставив даже Ивана Агафоныча, разливавшего на шкафике у двери крюшон, остановиться с бокалом в одной и с ковшом в другой руке.
Песня – тоскливая, вольная, с тихими, задумчивыми переборами струн, с неожиданными вздохами – полилась из груди певца, заставляя захмелевшие головы повернуться к нему и замереть.
– Вот оно, вот, настоящее-то! – сказал кто-то.
А певец, закрывая глаза и иногда делая вздох, как будто рассказывал о своей великой тоске, о безбрежной степи и погибшей молодости.
– Голубчик, голубчик! – почти шептал про себя Владимир, – цыган мне напомнил…
Певец закончил тихим аккордом и высокой нотой, которая долго ещё лилась, замирая и замирая. С минуту было молчание, как будто каждый почувствовал в душе проснувшуюся тоску и упивался ею как высшей сладостью. Глеб сорвался со своего места и, обняв певца, поцеловал его.
– Верно, милый! – сказал он только, махнув рукой и, отойдя, лёг вниз лицом на диван и крикнул оттуда: – Ещё такую же, умоляю и прошу, как друга!
– Вот бездны! – крикнул лохматый. – Сейчас у нас торжество, радость, как вы говорите – от воскресения, а вы такой песней упиваетесь. А потом ещё к заутрене, глядишь, пойдёте. Лбом в пол бить будете.
– Дайте ему вина, дайте вина, – закричали все вдруг, когда Василий, держа гитару на коленях, взволнованно и сосредоточенно утирал лоб платком, как бы обдумывая и выбирая песню.
И десяток усердных, но нетвёрдых рук, валяя рюмки, лили мимо них на скатерть вино и подавали Василию.
– Эх, жалко, что сейчас не май месяц, – сказал Владимир, – хорошо бы до рассвета допить тогда.
И правда, у Владимира был уж такой порядок, что гости пили всегда до рассвета, а когда окна начинали сначала голубеть, а потом розоветь, все поднимались и выходили за ворота, чтобы туманными глазами посмотреть на разгорающуюся утреннюю зарю и на крест колокольни Ивана Великого, которая видна была с горки Пречистенки на фоне румяного неба, когда сонная Москва ещё только просыпалась, кое-где мели улицу дворники, и дремал на козлах ночной извозчик в переулке.
Гости разошлись только тогда, когда стало уже совсем светло. Анатолий Павлович стоял в утреннем сумраке перед Анной Тимофеевной, целовал её мягкие ручки и говорил о русской красоте, которая теперь, в лучах обновлённой жизни, зацветёт ещё ярче, ещё сильнее и будет всем на радость.
Несколько человек, в том числе и Глеб, так и остались на тех местах, где захватил их глубокий утренний сон.
IX
До деревни докатывались тревожные, неясные слухи. Узнали, что в городе переменилось начальство, и кто-то сказал, что скоро вовсе никакого начальства не будет.
Помещики имели какой-то притихший, испуганный вид. И часто на вопрос какого-нибудь мужичка из своих, что часто бывали в усадьбе и даже пивали чай, на его вопрос, что такое происходит, не знали, что ответить. И только Авенир сразу загорелся и, не скрывая, говорил мужикам и кому попало о том, что произошло.
И когда к нему приехали испуганный Федюков с Александром Павловичем, встретил их на дворе и, не дав вылезти из саней, крикнул, стоя на крыльце без шляпы:
– Кто говорил, что русский народ – необычайный народ, от которого каждую минуту можно ждать чуда? Я говорил. Мы ждали этого чуда десятки, даже сотни лет, и оно пришло.
– Не кричите вы хоть на дворе-то, – сказал недовольно и испуганно Федюков, оглядываясь на стоявшего в воротах сарая с вилами в руках малого, который дёргал лошадям сено.
– Федюков! В вас говорит мелкий страх собственника, стыдитесь! К народу надо идти с чистой душой, забыв о своих сундуках, так как сундуками мы жили достаточно, а этим чудом и сказкой только начинаем жить.
– Хороша сказка, – сказал Федюков, – князя Козловского уже спалили, говорят.
– Ничего не значит. Утечка исторического процесса. Но самый процесс здоров. Он вытекает из основных свойств великой народной души. Вы обратите внимание, какие люди стали у власти, какие возвышенные принципы положены ими в основу управления.
– Да дайте хоть войти-то, замёрзли, как собаки, хуже, чем зимой, – мокрый снег, ветер.
– Входите, вам никто не запрещает, и даже очень рад, я уж хотел было сам к кому-нибудь ехать, а то ни одна собака не завернёт, все испугались. Прямо видно, что совесть не чиста, когда пришёл народ и готовится спросить каждого о делах его. Калоши там снимите, проходите. Ребята! Ну-ка скажите там на кухне, чтобы обед давали, да чтобы с погреба грибков, огурчиков и всего, что полагается.
Александр Павлович был как-то непривычно тих и робко серьёзен. Он молча разделся в уголке, потом достал красный с каёмочками платок и утирал им усы, всё стоя в уголке. Потом неуверенно спросил:
– Так вы думаете, что ничего?… Обойдётся?
– Вы это называете «ничего», а я называю это всё. Великий час, которого я ждал и о котором неоднократно уже говорил, наконец наступил – окончательно и бесповоротно. Я его ждал только с другой стороны, думал, что мы посредством блестящей, ошеломляющей победы славянства над германизмом принесём спасение миру. Вышло наоборот – армия развалилась раньше победы. Но это и прекрасно. У нас всегда всё наоборот. Не знаешь, чего ждать. Теперь мы понесём свет на запад совсем с другой стороны. – И вдруг, оборвав, раскрыл форточку и крикнул на двор: – Феклушка, чёртова голова, тебе сказано обед готовить, а ты нашла время свиньям выносить. Живо чтобы у меня! – Он захлопнул форточку и, повернувшись к гостям, продолжал: – Ну так вот. Вы испугались чего-то. Да! Вы могли испугаться, потому что народ имеет право, слышите, я говорю – имеет или, вернее, имел бы право броситься на нас, эксплуататоров, и уничтожить в два счёта! И я с восторгом принял бы это как заслуженное наказание за те века угнетения, которые предшествовали этому чуду. Мы все виноваты. Я уже говорил об этом. Я как-то Валентину говорил об этом. – И сейчас же, загоревшись, прибавил: – Вот был человек, который всё мог понять. Если ещё жив, он, наверное, говорит теперь: «Вот наконец та свобода, которая достойна великого народа!»
– Ничего подобного он не сказал бы, – проворчал Федюков, – это ваш стиль, а не Валентина.
– Мой стиль?… Прекрасно. А что бы он сказал в своём стиле?
– Почём я знаю?
– Вот то-то и дело, что он хоть и в своём стиле, а сказал бы то же самое. Это вы, собственники, дрожите, а помните, он ездил только с двумя чемоданами и больше ничего не хотел признавать и даже говорил, что придёт время, когда у всех будет только по два чемодана, чтобы тем легче, заметьте (!), чтобы тем легче передвигаться по всему земному шару.
– Про весь земной шар он не говорил, он говорил просто – передвигаться, – сказал опять Федюков, тоже расхаживая по комнате, так что они иногда на поворотах сталкивались с Авениром.
– Он не говорил, а я говорю! Тогда были одни времена, а теперь другие, масштаб иной, неужели вы, Федюков, этого даже не чувствуете?! Ну так вот. Все твердили, что если будет революция, то времена Пугачёва побледнеют перед ней. Что же, это был бы только справедливый суд истории. Я с удовольствием посмотрел бы, как все усадьбы наших помещиков и толстосумов полетели бы на воздух… Куда ты ставишь?! – крикнул на вошедшую с горой тарелок в валенках и высоко поддёрнутом сарафане Феклушу, которая начала расставлять тарелки на голом столе. – Постели скатерть, потом ставь, вот бестолочь. Тебя в ступе истолочь нужно да ещё просеять, тогда только твоя дубинная голова будет соображать… Ну да, что я говорил? Да, я говорил, что с удовольствием посмотрел бы на этот суд истории.
– А сами-то вы кто? У вас земля есть?
– Какая же это земля? Сто десятин, по-вашему, земля? И потом, мужик понимает. Он пальцем не тронет того, кто всю жизнь горел и болел за него, кто теперь радуется и торжествует так же, как и он. Положим, они ещё ни черта не понимают, им ещё надо долбить и долбить. Но!.. тут опять неожиданность. Я, кажется, сказал, что они ни черта не понимают? – он живо повернулся на каблуках, так что шедший за ним Федюков натолкнулся на него от неожиданности. – Я это сказал? Да, сказал. Но я же вам говорю, что они, не они, а он, с большой буквы – Он, народ, понял. Мистически понял великий смысл нашей великой миссии. Они отбросили всякую мысль о мести. Вы знаете, какие люди стали у власти? Вы знаете, какие идеи они проводят? И вы знаете, какие люди у нас, в этой жалкой, тёмной, грязной деревне становятся во главе жизни? Точно такие же, как и там… Здесь та же мечта о высшей правде-справедливости. В самом деле, не за тем мы делали революцию, не за тем свергали деспотизм, чтобы его повернуть только против других людей. Это поняли они, то есть Он – с большой буквы. И нас спасло только то, что в нём от природы живёт эта правда-справедливость, а то от нас и кишок бы не осталось, и было бы правильно. Правильно, но с человеческой точки зрения. А у него – точка зрения божеская. Вот чему вы, Федюков, обязаны. Благодарите Бога, в которого по своей образованности стыдитесь веровать. Я тоже стыдился. Но сейчас готов, уже готов веровать. Я никогда не застываю в одной догме. Я и мужикам говорил: вы восьмое чудо мира. Вместо того, чтобы нас бить, как мы того заслуживаем, вы обращаетесь с нами по-братски. Куда горячее потащила?! Порядка не знаешь? Говорят, в Берлине революция, слыхали?! О, теперь пойдёт! Весь мир надо на воздух пустить, чёрт его возьми. Вот будет картина! Вот когда я ринусь в работу, вот когда не стыдно наконец дело делать!
– А всё-таки вы думаете, что нам это не опасно? – робко спросил Александр Павлович.
Авенир остановился:
– Что не опасно?
– Вот вы говорите, что если даже сто десятин – ничего, то у меня ведь только пятьдесят.
Авенир несколько времени смотрел на Александра Павловича, как смотрит инквизитор на свою жертву или как великий судья, от которого зависит, выпустить дух из человека или даровать ему жизнь.
– Народ любили? – спросил он наконец.
– Конечно, любил, – сказал сконфуженно Александр Павлович.
– Спите спокойно. Но памятуйте о том, что всё-таки и вы виноваты, виноваты уже тем, что есть тысячи и миллионы, которые не могут стрелять ради собственного удовольствия уток, как стреляли их вы. И благодаря тому, что вы стреляли, они не могли стрелять.
– Мы-то тут при чём? – сказал Федюков. – Мы им не мешали.
– Ещё бы вы мешать стали. Вы мешали уже тем, что существовали.
– А вы?
– И я! Смело и честно это говорю. – Авенир ударил себя кулаком в грудь. – Боже! – воскликнул он, – вот я говорю это, а у самого слёзы готовы пролиться: где вы найдёте такой народ, который во имя высшей справедливости готов каждую минуту принести себя на заклание! Где, спрашиваю? Я сейчас только обратил внимание на то, что ведь я против себя же говорю, против своих же интересов, но во имя высших интересов всемирной, всечеловеческой, вселенской правды. Но это и не моя доблесть. Это – нация во мне говорит, а нация знает свою миссию, Простой или рябиновой? У вас, Федюков, спрашиваю.
– Простой. – Федюков хмуро посмотрел на бутылки.
– Простой или рябиновой? Александр Павлович, у вас спрашиваю. Что вы оба как в воду опущенные? Неужели расчёт? Неужели тревога за своё имущество, за свой покой и беспечальное существование? Неужели ни грана энтузиазма?
– Да нет, я ничего, – сказал Александр Павлович, попытавшись даже улыбнуться, но улыбка вышла несколько натянутой.
– Вот именно – вы ничего. Как это характерно для интеллигента. Ни тёпел, ни холоден. Именно – ничего. Ни туда, ни сюда, – говорил Авенир, работая вилкой и накладывая на тарелки гостям закусок – каких-то маленьких маринованных рыбок. – Мой символ веры сейчас краток и ясен, как кристалл, – сказал он, зацепив гриб на вилку и обращаясь к гостям. – Символ веры моей говорит, что все мы виноваты, что пришёл час расплаты, что в основу новой жизни положены самые высшие принципы, которые только имеются у человечества, – полная свобода, полная терпимость, полное отсутствие насилия и водворение на земле правды… чуть не сказал правды божьей… да оно в сущности так и есть, если это понимать не в поповско-церковном смысле, а в смысле самой высшей правды. И моё страстное желание, чтобы поскорее за Германией последовали и другие. Всё на воздух! Перетрясти тугие сундуки. Именно у тех, у толстокожих, которые не только вины своей перед миром никогда не чувствовали, а считали себя вправе пользоваться всеми благами жизни и эти блага ставили превыше всего. Вот бы я кого… с живых бы шкуру спустил!
– А что же Марья Петровна и дети не обедают? – спросил Федюков.
– После поедят, успеют, – сказал Авенир, разгорячённый собственными словами. – Да, вот вам и культурная Европа, а в один момент оказалась на тысячу верст позади нас. Вот тебе и непросвещённый серый русский мужичок, который утверждает на земле высшее человеческое право.
– Однако князя-то спалили…
– Утечка!..
– Вам бы в самую крайнюю партию записаться, – сказал Федюков, намазывая с хмурым видом горчицу на кусок холодного мяса, – теперь, говорят, есть такие, как раз бы вам подошло.
– Мне в партию?! – подскочил Авенир. – Нет, голубчик, не родилась ещё такая партии, которая бы подошла мне. В шорах и по указке я ходить никогда не буду, в собственной узости никогда не распишусь! Запомните этот момент, говорю это, держа гриб на вилке, а вы скорчили рожу от горчицы. В это время. Запомните!
– Фу! Это чёрт, а не горчица! – сказал Федюков, не ответив на первую половину фразы Авенира.
– Жена сама делает. Ну, великое время переживаем, вы отправляйтесь домой, довольно вам есть, а я сейчас лечу в город, ибо сон жизни окончен! – сказал хозяин, вставая и отодвигая с шумом стул, так что Александр Павлович, только было ухвативший большой кусок мяса, должен был с виноватым видом, давясь, спешно прожёвывать его уже на ходу.
Гости, одевшись, вышли на крыльцо. Авенир, велев запрячь лошадь, тоже вышел к ним на крыльцо так странно одетый, что Федюков и Александр Павлович даже разинули рты от удивления. На нём была солдатская шинель и рваная, солдатская же, шапка с тесёмочками из искусственного барашка.
– Купил у кузнеца, и не из каких-либо гнусных расчётов. Мне сейчас противна всякая одежда, которая отличает меня от народа. Хочу слиться не только внутренне, но и внешне. Прощайте!







