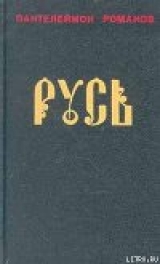
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 46 страниц)
LXXXII
Приостановка наступательных действий со стороны русских армий в начале 1915 года вследствие отсутствия снарядов больше всего беспокоила русскую буржуазию и кадетов, так как при таком положении дела трудно рассчитывать получить от войны то, что было дороже всего: получить Константинополь и проливы – «ключи от собственного дома».
Оценка создавшегося положения была тем суровее, что общество всю вину целиком относило за счёт правительства:
«Они хотели обойтись без нас, благодаря всегдашнему недоверию к интеллигенции (в то время как мы ясно сказали, что счёты сводить будем после войны), – вот налицо и результаты. Они будут ещё хуже. И это очень хорошо. Так и надо! Пусть народ узнает!»… и т. д.
Больше всего возмущало то, что ставка постоянно угощала общество стереотипными сообщениями: «Под давлением превосходных сил противника мы отошли на заранее заготовленные позиции».
Такие сообщения вызывали непомерный рост тёмных слухов; в столице говорили о тёмных влияниях при дворе, о том, что немка (царица) подготовляет сепаратный мир, потому и не сражаются больше.
Поэтому ставка решила выступить в печати с разъяснением:
«Переход наших армий на более сокращённый фронт является результатом свободного решения соответствующего начальства и представляется естественным ввиду сосредоточения против нас германцами весьма значительных сил; кроме того, принятым решением достигаются и другие преимущества, о коих по военным соображениям, к сожалению, пока не представляется возможным дать разъяснения обществу».
Это сообщение, как всегда, произвело обратное действие в силу традиционного отношения общества к власти:
«Раз пишут такие сообщения, значит, дело плохо и, может быть, г о р а з д о х у ж е, чем мы предполагаем».
Русское же командование, в целях придания бодрости обществу, решило приступить к очередной задаче: к глубокому вторжению русских армий в пределы германской территории, причем эта «операция должна была считаться впредь основной».
Ближайшей задачей ставки было овладение Восточной Пруссией. Поэтому было решено повести наступление Десятой армией, стоявшей перед сильными укреплениями восточнее Мазурских озер.
30 января германцы, отбросив передовые части русских войск, рассеяли Второй армейский русский корпус. Этот корпус своим отходом обнажил фланг и тыл Двадцатого корпуса, который стал отдельными частями прорываться в сторону России. Но в Августовских лесах остатки корпуса были окружены при выходе из леса германцами и сдались в плен, несмотря на отчаянное сопротивление.
Ставка после сделанного в печати сообщения уже более спокойно и уверенно заявила обществу о катастрофе с Десятой армией, потерявшей пятьдесят тысяч человек:
«Под давлением значительных сил противника русские войска отступают на укреплённую линию Немана…»
LXXXIII
Сестра, которую Митенька встретил в городе, действительно была Ирина. Она на два дня приезжала в город. Лазарет, которым заведовал Глеб и в котором она работала, ещё в конце ноября переехал в Ломжу, вывезя с собой всех своих раненых, и разместился в бывшей тюрьме.
После разгрома Десятой армии днём и ночью везли всё новых и новых раненых. Ими завалены были все перевязочные пункты, все вокзалы, все лазареты.
Их подвозили и на грузовиках и на санях – целыми обозами. И санитары, останавливаясь где-нибудь у колодца напоить заморенных лошадей, оставляли обоз, нагруженный живым окровавленным мясом, собирались у колодца со скрипучим журавлём и в ожидании очереди свертывали папироски.
А приехавши, отбирали живых от мёртвых и сносили их в лазарет. Мёртвые же так и оставались в том положении, в каком застала их смерть: один – с поднятой закостеневшей рукой, другой – скрючившись, с поджатыми к самому подбородку коленками, третий – с вытянутыми по швам руками, с розовым льдом в слипшихся и смёрзшихся волосах.
Глеб, в меховой шапке с болтающимися тесёмками, выбегал к воротам к каждому привозу раненых, как торговец мясом, когда ему привозят новый товар, быстро рассортировывал, кричал на медлительно работавших санитаров и возчиков, пересчитывал мёртвых и здоровых, румяный от свежего воздуха, вбегал опять в лазарет, и там долго ещё раздавался его голос.
Когда Ирина приходила к нему в такое время, то её взгляд как-то странно останавливался на нём, когда он этого не замечал. Она ничего ему не говорила и опускала глаза, когда он повёртывался к ней.
– Не узнаю себя! – говорил восторженно Глеб. – Смотрю на этих мертвецов и искалеченных людей, и как ни в чём не бывало! Значит, нервы окрепли! И это несмотря на каторжную, дьявольскую работу и полный ералаш в нашем управлении. Бинтов нет, ваты не хватает! Чёртово правительство!
Ирина ничего на это не отвечала. Она в последнее время нарочно стала мучить себя работой, точно хотела этим что-то заглушить в себе. Ей казалось, что она не чувствует никакой усталости. И только глаза её, обведённые синевой и ушедшие в глубину, ставшие огромными, говорили о нечеловеческом напряжении, какое она делала.
Она мысленно говорила себе, что если она виновата перед сестрой, то она должна возместить это облегчением страдания других.
Среди раненых был один, у которого были отняты обе ноги. Он был похож на обрубок. Он так иссох и был так лёгок, что сиделка свободно переносила его на руках, как свёрток белья. Обрубки ног у него никак не заживали и гноились. Ему во время перевязок заворачивали кожу и пинцетом вытаскивали прожилки гноя.
Этот остаток человека, размерами похожий на ребёнка, но с лицом пожилого мужчины, производил ужасное впечатление на тех, кто его в первый раз видел. Но сёстры и сиделки привыкли уже к его виду и таскали его на перевязку точно неодушевлённый предмет. Они относились к нему равнодушно, потому что всё равно ему умирать.
Он всегда молчал, и только всякий раз, когда его приносили и клали на стол, его глаза с беспокойством и надеждой искали кого-то по сторонам.
Тогда сиделка отыскивала Ирину и говорила ей:
– В а ш ищет вас.
И когда к нему подходила Ирина, его лицо светлело и прояснялось. Ирина, гладя голову этого обрубка, тихим успокаивающим голосом, – как мать над засыпающим ребёнком, – говорила ему то, что странно было слышать в лазарете.
Она не утешала его, не успокаивала, а рассказывала о своей жизни, о деревне, о солнце и даже о своей неудачной любви, как будто они были вдвоём.
Но когда она приходила домой, то её безмятежное спокойствие и ласковость, с какою она говорила с ранеными, исчезали. Она чувствовала какую-то фальшь в том, что она уговаривает, успокаивает этих искалеченных людей. Их будут и дальше калечить, а она точно так же будет и тех уговаривать и успокаивать… Какая дикость!
Ужасно то, что привычное слово «война» как будто делает естественной эту бойню. Ведь каждый интеллигентный человек содрогнулся бы, если бы увидел, как крестьяне одной деревни пошли на крестьян другой с вилами и косами, и какой-нибудь кровельщик Фёдор снёс косой голову плотнику Ивану, с которым вместе работал.
И иногда она говорила Глебу:
– Когда я думаю о том, что одни терпят нечеловеческие страдания и гибнут, а другие с их крови с жиру бесятся, – мне хочется своими руками задушить этих исчадий ада.
– Ну, ты слишком волнуешься, – замечал спокойно Глеб. – История справедлива в том отношении, что гибнут мелкие единицы, которые как личности ничего собой не представляют. И мы должны закалить себя, вытравить из себя все сантименты, чтобы власть над страной попала в те руки, которые могут ею управлять.
– А ты когда-то говорил, что ты чужд политики…
– Ну, знаешь ли, когда дела так повёртываются, нельзя быть чуждым политике. Наши промышленники должны наконец потребовать, чтобы правительство уступило им власть, как классу самому сильному и здоровому, иначе ч е р н ь и эта солдатня, которую ты так жалеешь, своим грязным сапогом раздавит нас и всю культуру. Чем меньше их останется, тем лучше для культуры.
В такие минуты Ирина чувствовала, что она не может спокойно говорить с Глебом, что у неё вместо любви к нему просыпается что-то такое, чего она даже боялась в себе. Это была определённая ненависть.
Она теперь иногда чувствовала потребность говорить с тем раненым офицером, которого доктора считали безнадёжным. Она ничего о нём не знала. Знала только, что его фамилия Черняк. Он никогда ничего о себе не рассказывал, а она из деликатности не спрашивала его.
У него всегда был спокойный взгляд глубоко ушедших глаз, обведенных землистой синевой.
Один раз Ирина спросила у него:
– Почему вы никогда не жалуетесь?
– На что?
– Хотя бы на свою боль.
Черняк некоторое время лёжа молча смотрел перед собой, как он обыкновенно смотрел, и сказал:
– Потому что от этого боль будет не меньше, а даже больше. Жаловаться и жалеть других – вещь совершенно бесполезная и в данном случае даже вредная.
Ирина, поражённая этим ответом, который совпал с её собственными неясными мыслями, спросила:
– Почему вредная?
– Потому что отвлекает людей от прямой задачи – борьбы с таким порядком жизни, при котором возможно вот это, – сказал он, жестом своей слабой, бледной руки указав вокруг себя на больничную обстановку и своего соседа, заострившийся землистый профиль которого неподвижно виднелся на подушке его постели.
– А когда будет возможно выполнение этой задачи? – спросила Ирина.
– Тогда, когда люди, мыслящие в этом направлении, сорганизуются для практической, физической, а не словесной борьбы с этим порядком.
Судорога прошла по его лицу.
– Вам больно? – спросила Ирина.
– И вчера было больно, и сегодня больно. Человек очень скоро привыкает к чужой боли, а к своей никогда. Это очень большое неудобство.
Бледная, жёлтая рука Черняка лежала поверх одеяла, и он машинально мял ею серое больничное одеяло.
– Организация настоящей жизни имеет целью выгоду отдельных лиц за счёт угнетения большинства. Надо эту организацию разбить и организовать жизнь, имеющую своей целью благо всех, кто трудится для всех.
Он, слабо улыбнувшись одной щекой, иронически покачал на самого себя головой и сказал:
– Я неисправимый агитатор, хотя сейчас моя агитация, вероятно, направлена не по адресу: вы, судя по вашему лицу, тонким рукам и изяществу движений, принадлежите к тому классу, который только и существует и держится… такой организацией жизни.
– У меня может быть сознание, независимое от интересов… моего класса, как вы говорите.
Черняк засмеялся недобрым смехом.
– Нет, б а р ы ш н я, это уж оставьте. Класс есть кровь. А человек только кровью и живёт.
Он закусил губы, очевидно, от боли.
– Вот я умираю… не утешайте. Это неважно. Важно то, что я ничего не успел сделать для той жизни, какая наступит лет через пять, через десять… Личность сама по себе ничто, пока она заключена в рамках индивидуальных интересов, ощущений. Я умру, меня выбросят в общую яму. Только и всего. Впрочем, когда одним глазом заглядываешь в могилу, тогда масштаб вещей сильно изменяется. Человек в таком положении едва находит в себе силы не сообщать о себе… тому человеку, которого он…
Черняк, не раскрывая рта, одним носом глубоко перевёл дыхание.
– … которого он любит… – докончил он, как будто ему трудно было выговорить это слово. – Но это малодушие. Не надо утруждать человека состраданием, а тем более вознёй с собой.
Опять судорога прошла по лицу Черняка.
– Вы это о себе говорите? – спросила Ирина.
Черняк некоторое время молчал, всё глядя перед собой в противоположную стену, в которой была дверь палаты.
– Да, о себе… Я написал одному человеку письмо, из которого он поймёт, что я убит. Тем более что всё равно я не выживу. Это я хорошо знаю.
– Зачем вы так говорите! – сказала Ирина. – И довольно, я не должна была давать вам столько говорить.
Черняк иронически улыбнулся.
– Вы говорите – по обязанности, но… вы славный всё-таки человек. А вот сегодня в газетах сообщение о том, что будут судить пятерых депутатов. Это наши товарищи. Вот если о н и погибнут, это будет более печально.
В этот вечер Ирина почему-то не пошла к Глебу и на следующий день ничего не сказала ему о своей беседе в лазарете.
LХХХIV
Савушка после своей поездки в Петербург, куда он отвозил письмо Черняка, вернулся в свой полк.
Полк стоял в местечке с костёлом, у которого снарядом был сорван крест и зияла круглая пробоина на колокольне.
Улицы местечка были сплошь запружены солдатами, лошадьми, двуколками.
Около хлебного магазина толклись солдаты.
– Что ж, значит, и нам и лошадям с голоду подыхать? – говорил низкорослый солдат в шапке с мотающимися тесёмками наушников.
– Говорю тебе, фуражиры с утра уехали, должны сейчас быть, – ответил распоряжавшийся в магазине человек в солдатской форме.
– Вон, лошади-то какие! их на живодёрню только, – указал солдат на лошадей, привязанных к двуколке.
Лошади с выступающими рёбрами, с ободранными боками понуро стояли без корма, полузакрыв слезящиеся глаза.
– У баб, небось, и хлеб есть, и всё…
– Не продают, собака их возьми. А насильно отнимешь, сейчас за мародёрство под суд попадёшь.
За деревянным сараем, прячась от начальства, сидели несколько оборванных солдат и варили в котелке, по-видимому, краденую картошку. Один из них привязывал верёвочкой оторвавшуюся подмётку сапога; другой, скинув и вывернув рубашку, держал её над огнём, отвернув лицо от дыма.
– Не тряси над котелком-то! – крикнул солдат, пробовавший лучинкой картошку, и, поддев что-то, отбросил в сторону.
– Не выкидывай – навару больше будет, – подмигнул солдат, привязывавший подмётку.
– Только и остается. Эх-ма!..
За местечком виднелись часто наставленные кресты. Это были братские могилы. Туда то и дело бегали солдаты.
Варивший картошку, посмотрев в сторону, промычал:
– Вишь вон, покойничков помянуть бегают. И на этом и на том свете нашему брату на голову с…
– Сена не привозили? – спросил какой-то солдат, проходя мимо сидевших.
– Говорят, поехали давно, сейчас ждут, – отвечали, не оборачиваясь, сидевшие у костра.
Солдат постоял в нерешительности, видимо ожидая, не предложат ли ему поесть, но сидевшие у костра делали вид, что не замечают его.
– Так… – сказал тот и пошёл дальше.
Вдруг на улице местечка показалась целая процессия. Впереди ехал обоз из военных фур с наваленным на них сеном и мешками. Фуры везли ободранные, похожие на скелеты, лошади; на облучках, нахохлившись, сидели обозные, а по сторонам, причитая, шли бабы и старики.
Когда обоз проезжал мимо штаба, – помещавшегося в длинном одноэтажном доме, похожем на трактир, с крыльцом посредине, – на крыльцо вышел полковник в накинутой на плечо бекеше на белой овчинке. Он был без фуражки, с бритой круглой головой.
Увидев полковника, бабы и старики, провожавшие обоз, бросились с воплями и причитаниями.
– Чего орёте! – крикнул на них громовым голосом полковник. – Говорите кто-нибудь один! Вам тут не базар.
Бабы стали говорить, что у них отобрали последнее сено и овёс, что скотина с голоду подохнет.
Полковник, расставив толстые ноги и уперев под бекешей руки в бока, молча слушал.
– Ваше высокородие, что они брешут! Я не насильно, я за деньги отбирал, по закону.
– Молчать! – крикнул полковник, побагровев.
Солдат, замерши, вытянулся, приложив к шапке пальцы, едва торчавшие из длинного рукава шинели.
Ободрённые его окриком бабы стали требовательнее. Старики покорно стояли сзади них.
– Молчать! – крикнул полковник на баб. Ему как будто нравилось на свежем воздухе пробовать силу лёгких. – Почем ты за воз сена давал? – обратился он к обозному.
– Тридцать рублей, ваше высокородие, как приказано.
– Так какого же вам чёрта надобно? – крикнул он на баб. – Ведь у вас за деньги берут.
– Батюшка, не нужны нам деньги, у нас скотина подыхает, – голосили бабы.
– А у нас не подыхает?
– У нас свои части обобрали всё дочиста, а тут ещё ваши приезжают…
Полковник вдруг перевёл грозный взгляд на солдата.
– Ты где это сено брал? – крикнул он.
– Да вон, верстов двадцать отсюда будет, – отрапортовал солдат, одной рукой отдавая честь, а другой показывая куда-то в сторону.
– Так какое же ты имел право, сукин ты сын, брать за пределами расположения своей части?! Ты знаешь приказ или нет?! За мародёрство под суд буду отдавать мерзавцев! Сейчас же отдай им сено и овёс. Разбирайте своё сено, и марш! Чтоб ноги вашей тут не было! – крикнул полковник.
Бабы и старики бросились к фуре и стали растаскивать сено и увязывать его в вязанки.
Прибежавшие было за сеном солдаты стояли и растерянно глядели.
– А вы тут чего? – крикнул на них полковник.
– Сена нету, ваше высокородие.
– У местных жителей покупать.
– Они не продают. Говорят, у самих нет.
– Мало что говорят…
Полковник несколько времени смотрел на солдат, потом, нахмурившись, со злобой проговорил:
– Поищи получше, и найдётся.
Он ушёл.
Через полчаса солдаты уже шныряли по всем сеновалам, залезали в подвалы и, под вой баб и плач, волокли оттуда всё, что попадалось.
Чёрный солдат со шрамом на щеке тащил ковригу хлеба; в него вцепилась баба и пронзительно визжала, отнимая хлеб. Вдруг она вонзила зубы в руку солдата. Он вскрикнул от боли, хотел выдернуть руку и не мог. Тогда солдат свободной рукой со всего размаха ударил бабу кулаком по темени, и, когда она, закатив глаза, упала, он быстро завернул за угол и скрылся.
Полковник опять вышел на крыльцо и прислушался к доносившимся из деревни крикам и воплям.
За ним показался адъютант и тоже с удивлением прислушался:
– Что там такое, точно их режут?
– Поступаем на основании приказа, – проворчал со злобой полковник.
LХХХV
В халупе, где поместился Савушка, было такое количество клопов, что он, промучившись всю ночь, на следующий день стал искать другую квартиру. Но всё местечко было забито солдатами. Они ночевали даже в сараях.
Савушка разговорился с санитарным врачом, и тот сказал:
– Разве вот что, тут в полуверсте есть польский замок, не знаю, какого-то князя. Богатейшее имение! Это не замок, а музей.
– Так почему же штаб стоит в каком-то трактире, а не там.
– Да сейчас там сильно попорчено, но вы, может быть, найдёте себе комнату. Я сейчас иду в хлебопекарню и кстати могу вас проводить.
Они пошли по растолченной обозами и орудиями снежной дороге. Врач оказался словоохотливым человеком.
– Я был в этом замке вначале, когда наши только что пришли сюда. Штаб стоял там. И потом офицеры всегда там размещались. Какое богатство! Какой там фарфор был, какие картины: Рафаэль, Рембрандт, книги с автографами Шопенгауэра! Вот сейчас въезд будет, – сказал он, когда вдали завиднелись деревья парка. – Посмотрите, какие башни!
Действительно, вместо ворот при въезде в аллею стояли две башни. Но липы в аллее оказались наполовину вырублены и лежали брошенными поперёк дороги.
– Обратите внимание на толщину, – сказал врач, – им, вероятно, лет по триста. А вот и замок. Пройдёмте сюда.
Они подошли к огромной широкой лестнице, усыпанной осколками ваз, которые стояли по уступам лестницы. Замок был трёхэтажный, со множеством больших и маленьких окон, с круглыми угловыми башнями.
Они поднялись по лестнице. Дверей не было, и из замка несло сквозным, холодным ветром. Путники вступили в огромную полутёмную переднюю. Направо был огромный зал. Под ногами хрустели осколки.
– Тут смотреть нечего, – сказал врач, – вам тут во всяком случае не подойдёт.
Но Савушка заглянул в зал. Рамы окон все были вырваны с петлями, и на паркетном полу от окна была наметена косица снега до рояля с отломанной крышкой. Одно окно было заставлено картиной. На полу около камина валялись груды книг со старинными кожаными переплётами в золотых обрезах. Под ногами и тут что-то хрустело. Савушка нагнулся посмотреть и увидел осколки фарфора.
– Сколько набили, ужас! Пойдёмте, поищем дальше, – сказал врач, – кажется, наверху были хорошие комнатки.
Поднялись на следующий этаж. Врач толкнул дверь в маленькую комнатку.
– Вот здесь, кажется, можно, – сказал он, но сейчас же, поморщившись, махнул рукой и повернул обратно. – Чёрт их возьми… это казаки, должно быть, тут были. А может быть, офицеры. Что за народ, как самим не противно!
Они обошли все этажи, но найти неразгромленную комнату оказалось невозможным.
– А куда же мебель делась, вывезли, что ли? – спросил Савушка.
– Офицеры, какие понимали толк в этих вещах, кое-что вывезли и отправили в Россию, а остальное подожгли. Нет, очевидно, рассчитывать тут не на что. Пройдёмте, прогуляемся до хлебопекарни, – всё лучше, чем с клопами сидеть.
Они прошли с полверсты. Показались какие-то строения. Из трубы одного из них шёл дым. Доктор с Савушкой, пригнувшись, вошли в низкую дверь, за которой, как в тумане, в тёплом парном воздухе что-то делали несколько человек у кадок.
– Работаете? – спросил с порога доктор.
– Так точно, ваше благородие! – бодро ответил высокий человек с испачканными тестом по локоть руками.
– Санитарию соблюдаете?
– Чего это?…
– Руки моете?
– А как же…
– Часто?
– Каждый день, как встанешь, так и моешь.
Остальные, человек шесть, оставив работу, стояли молча.
– В баню ходите?
– Какая ж баня, ваше благородие…
– Сними рубаху, – сказал строго доктор.
– Что ж её сымать, ваше благородие, она развалится, – ведь четвёртый месяц не сымая хожу.
– А это что же у тебя? – спросил доктор, всматриваясь в руки измождённого солдата с иссиня-бледным лицом.
– Чирьи, ваше благородие… – солдат стыдливо прикрыл рукавом синевато-багровую болячку на руке.
Но в это время доктор внимательно посмотрел на неестественно бледное лицо другого и подошёл к нему.
– А ты здоров?
Солдат испуганно молчал.
– Расстегни рубаху, покажи грудь.
Солдат расстегнул грудь. Вся она была усеяна крупными бледно-розовыми пятнами.
В это время на пороге хлебопекарни показался запыхавшийся заведующий с унтер-офицерскими усами и в фуражке набекрень.
Доктор повернулся к нему.
– Пойдёмте-ка сюда, – сказал он, уводя его в сени. – Вы знаете, чем у вас люди больны?
– Чирьи, ваше благородие!
– Это не чирьи, а… сифилис. Что же вы делаете?! Они руки в тесто суют.
– Ваше благородие, что ж я поделаю, когда здоровых не дают. Здоровые на фронте, говорят, нужны.
Доктор с отвращением и беспомощностью махнул рукой.







