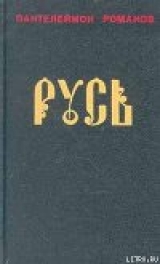
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц)
ХLIХ
Германские армии одержали крупные победы в Восточной Пруссии, дела же австрийцев были плохи.
Четыре русских армии после взятия Львова развернулись дугой вдоль границы Австро-Венгрии и напирали на австрийцев.
Австрийские войска вели свое наступление между Вислой и Бугом, заслонившись от русских с востока Второй и Третьей армиями.
Это создавало для русских сильную угрозу.
Но австрийцы основали свой план на неверных сведениях: они думали, что главные силы русских сосредоточены в районе Люблин – Ковель, и ничего не знали о существовании Восьмой армии.
И таким образом сделали просчёт на целую армию.
В результате этого русские разбили австрийский заслон из Второй и Третьей армий и заставили австрийцев отказаться от их плана вести наступление на Польшу.
Австрийское командование решило действовать внутренними операциями и бросить главную массу своих сил против русских.
Русские в шестидневных боях выдержали этот натиск, повели наступление против Первой австрийской армии, сбили её, и противник начал отходить за реку Сан.
Австрийское командование пришло к убеждению о бесполезности сопротивления и начало полное отступление.
Их Четвёртая армия попала в наиболее тяжёлое положение и едва ушла от Пятой русской армии, оставив ей свои обозы.
Австрийцы, потеряв триста двадцать тысяч человек, принуждены были очистить Галицию и уйти за реки Сан и Вислоку.
Но русским предстояла более трудная борьба с германцами. После разгрома самсоновской армии Гинденбург, действуя в интересах прусского юнкерства, в первую очередь занялся очищением Восточной Пруссии от войск Ренненкампфа, вместо того чтобы сразу идти на помощь австрийцам.
Выгнав Ренненкампфа и разбив Десятую русскую армию, он воспользовался бездействием нового командующего Рузского и сейчас же перебросил четыре корпуса в Галицию на помощь австрийцам.
L
Серая масса русских войск большими и мелкими частями двигалась по тяжёлым осенним дорогам Польши и Галиции, топча и выкапывая оставшуюся в поле картошку.
По пути движения армий по сторонам дорог валялись брошенные кверху колёсами двуколки, обрывки ваты с ржавыми пятнами выцветшей крови. Блестели в грязи пустые патроны, а на горизонте вились стаи ворон.
Войска шли сотни вёрст, не видя никакого неприятеля. С каторжным трудом добравшись до указанного места по непролазной грязи, получали сейчас же приказ вернуться обратно по той же дороге, на которой только что порезали и пристрелили измученных лошадей.
А после ухода из каждого селения или городка вся окрестность оставалась загаженной тысячными массами людей.
На место ушедших приходили новые, просили и требовали у жителей хлеба, корма, ночлега. Наконец всё это добывали силой, выгоняя хозяев из халуп, бессильно валились и засыпали в халупах, в стодолах или просто на мокрой земле среди зловония, оставленного ушедшими.
Потом с зарёй опять запрягали не слушающимися со сна руками обозных лошадей и выступали, вытягиваясь по разбитому шоссе или грязному просёлку.
Савушка с Черняком – оба грязные, заросшие – тоже шли со своим полком.
Залубеневшие от засохшей грязи шинели каляным колоколом били сзади по сапогам. Вши невыносимым зудом точили грудь под мокрой шинелью, и невозможность остановиться и отдохнуть часто доводила до тупого отчаяния.
– Неужели до сознания человека никогда не дойдёт мысль, что война – это дикое варварство, которое отбрасывает человечество на столетия назад? – сказал один раз Савушка.
– А я удивляюсь тебе, как до твоего сознания не дойдёт мысль, что философствовать тут и возмущаться – самое бесполезное дело, – сказал Черняк.
– Я знаю, что скажешь: нужно действие.
– Нет, не скажу, – спокойно проговорил Черняк, – потому что сейчас и действие ни к чему не приведёт.
– Так что ж тогда нужно?
– Ничего не нужно, а главное – не выражать своих высоких чувств, потому что обстановка совершенно неподходящая. А ты приучишь всех к своему возвышенному брюзжанью, и на твои слова не обратят никакого внимания даже тогда, когда они могли бы сыграть известную роль. Тебе нужно отучиться мыслить на интеллигентский лад.
– Как это? – спросил Савушка.
– Так. Интеллигент всегда хватается за самые высокие принципы, их масштабом измеряет низкую действительность и, в бессилии махнув рукой, останавливается на этом.
Савушка уныло молчал и только ёжился шеей, куда затекал дождь.
Они шли по лесу. Узкая лесная дорога была плотно уложена опавшими дубовыми листьями, по которым скользила нога. Всё кругом было мокро: чёрные стволы дубов, спутанная осенняя трава. Мелкий дождь беззвучно сеялся на землю, и по опавшим листьям шлёпали крупные капли, набиравшиеся на ветках. В глубине леса, меж обнажённых деревьев, от земли поднимался туман, в котором неясно чернели деревья.
Савушка смотрел на этот мокрый осенний лес, и у него было чувство тупого отчаяния и безысходности.
Но когда лес кончился и неожиданно выглянуло солнце, идти сразу стало легче и веселей. Впереди на далёком горизонте показались синевшие горы, желтели дальние леса, и над блещущим от осенней росы лугом красиво зарождались молочно-белыми облачками разрывы шрапнелей. Доносились гулкие удары где-то скрытых орудий, и виднелись чуть улавливаемые глазом цепи маленьких человечков, перебегавших по солнечному полю. По ним сейчас же открывали огонь из орудий.
Людей вдруг охватила праздничная бодрость и жадный интерес. Савушка уже с нервно приподнятым любопытством смотрел вдаль и возбуждённо оглядывался на соседей.
Черняк посмотрел на его повеселевшее лицо, на котором уже не было и следа прежнего уныния, и сказал:
– Как немного человеку нужно…
– Ты про что? – спросил Савушка, рассеянно оглянувшись на него.
– Так, между прочим.
По перелескам весело трещали ружейные выстрелы и, нарушая их торопливый ритм, выделялись более редкие и мощные удары поднявших кверху жерла орудий, спрятавшихся сзади за горкой.
Поле внизу привычно блестело утренней росой, как будто то, что на нём совершалось, не имело к нему никакого отношения.
Оттуда на двуколках везли непрерывной вереницей людей с бледными, землистыми лицами и окровавленными головами.
А навстречу им, отбивая шаг, двигались новые колонны штыков, изгибавшиеся в сторону, когда обходили встречные телеги.
– Много е г о там?
– На всех хватит, – отвечали раненые.
Когда на землю спустилась ночь и затихли дальние выстрелы, полк, не участвовавший в бою, расположился на ночлег в полуразрушенной польской деревне.
В халупе, где поместились Савушка с Черняком, было тесно и душно.
– Выйдем на двор, – сказал Черняк.
Они вышли. В полумраке мелькали тени солдат, тащивших охапки соломы, какие-то мешки, и вслед им слышались бабий вой и причитания.
Лагерь был похож на бесконечный цыганский табор с огнями костров, криками и говором тысячной толпы.
Вся деревня была заставлена двуколками, лошадьми, орудиями.
– Откуда вы, что вы тут заполонили всё? – спрашивали вновь подходящие.
– А вы откуда? Что это, всех сюда принялись сгонять! – отвечали из темноты. – Прямо, как чёрт догадал – все в одно место сбились.
Около костра, разведённого из палочек сломанного балясинка, сидели несколько солдат, одетых в австрийские одеяла, и пили чай, обмакивая куски хлеба в кружки.
Черняк подошёл к ним ближе и прислушался к их разговору.
– Значит, правда, что разбили? – спросил, усаживаясь около костра с кружкой в руках, солдат с завязанным глазом.
Сначала никто ничего не ответил. Потом широкоплечий солдат, пивший, обжигаясь, из кружки чай, сказал:
– Вдрызг!.. У Равы Русской, говорят, тысяч тысяч пленных взяли. Сколько добычи всякой досталось. Ружей – тыщи, муки, клади всякой. Только пожгли всё, потому, перевозить не на чем.
– Пожгли? – с жадным сожалением воскликнул солдат с завязанным глазом. – А ежели бы разделить всем промеж солдат?
– Что ж ты, обвешаешься баранками и будешь ходить? – недовольно ответил широкоплечий солдат. Он подпихнул концы обгоревших сухих палок в огонь и загородился рукавом от дыма.
– А рыхлый народ, даже бить жалко, – проговорил до этого молчаливый рослый солдат. – Спервоначалу, как распалишься, – ничего, или когда издалека стреляешь. А потом поглядишь вблизи – череп прикладом проломлен, а он ещё одним здоровым глазом глядит на тебя, ну, прямо сил нет! Человек ведь…
– Вот и тебя так-то, ежели попадёшься.
– Одинаково.
– А ты ему вовсе и не нужен, все равно как мы: бьём, а за что бьём?…
– Говорят, для освобождения, – нерешительно заметил солдат с завязанным глазом.
Впереди на горизонте поднялось багровое зарево, и на фоне его отчётливо встал костёл, которого раньше не было видно.
– Вишь, вон, полыхает, – сказал солдат с завязанным глазом. – Бывало, в деревне загорится, в набат ударят, так сердце и зайдётся с испугу, а тут всё кругом горит – и горя мало.
– Слышно, что до самых Карпатов пойдём, – отозвался широкоплечий солдат, начищая золой из костра штык ружья.
– А говорили, в два месяца войну кончат?
– Дожидайся… Теперь война только разгорается. От моря до моря бой идёт.
– И кому это нужно? – спросил задумчиво солдат с завязанным глазом.
– Попу Ермошке да нашим генералам немножко, – проворчал хмуро рослый солдат, сидевший в стороне.
– Хорошо тому, кого ранили, эти себе поехали без хлопот. Все, может, живы останутся.
– Вылечат, опять пошлют. В плен лучше, – наши уж пронюхали это. Особливо, говорят, на германском фронте: там, как чуть что, так прямо целыми полками сдаются.
– А немцы ничего?
– А что ж, тоже ведь люди, раз ты стрелять в них не хочешь, то и они тебя не тронут.
– Говорят, прокламации выпускали, что паёк будут хороший давать, кто к ним сам в плен придёт.
– Вот бы всем и махнуть! – добавил возбуждённо солдат с завязанным глазом.
– Не очень-то махнёшь, за этим строго смотрят. Уж приказ был. Больше всё маленькими партиями сдаются: пойдут на разведку или куда там – и нету. В приказе обозначут, что пропал без вести. А они все там.
– И обращение с пленными хорошее?
– Коли сам будешь хорош, то и обращение будет хорошее.
– Из плена пишут, что иные словно в рай попали: работают у помещика, харчи хорошие, да ещё будто деньги платят.
– Скажи пожалуйста! Вот тебе и неприятель… А ведь он, ежели бы захотел, как угодно мог бы над тобой измываться.
– Вот, значит, не измываются, – сказал недовольно широкоплечий солдат и сердито крикнул куда-то в темноту: – Что ты, чёрт! Нашёл место… не можешь подальше отойти, видишь, люди едят!
– А куда ж мне деться? – раздался тоже сердитый голос из темноты. – Они везде едят. Покамест добежишь, где их нету, по дороге в штаны накладёшь.
Рослый солдат, не найдя, что возразить, недовольно повернулся к огню и продолжал:
– Чего им измываться? Раз ты по чести поступаешь, с тобой и обращение будет хорошее. Наши, говорят, у них в обозах ездят, снаряды подвозят. Наденет немецкую шинель, ни дать, ни взять – немец. А он, глядишь, из Орловской какой-нибудь губернии…
– Да, вот это, значит, действительно доверяют, раз снаряды дают возить! – возбуждённо сказал солдат с завязанным глазом.
– Коли ты по совести поступаешь, отчего ж тебе не будут доверять? Совесть-то – она одна, что у немца, что у русского.
– Мы вон австрийцам, которые у нас пленные тоже на фронте работают, даём конвой по одному солдату на пятнадцать пленных, а немцы по одному своему солдату на каждые сто наших пленных.
– Нам, значит, ещё больше доверяют, чем австрийцам? – с живым удивлением воскликнул солдат с завязанным глазом. – И не убегают?
– Чего ж им убегать, за тем и прибежали. А немец бьётся, говорят, до тех пор, покамест ты его совсем не доконаешь. Живым ни за что не дастся.
– Крепкий народ?
– Народ хороший, крепкий.
В свет костра вступил подошедший Черняк.
– Какой части? – спросил он.
– Пятая тяжёлая, – ответил, не вставая и не поворачивая головы, рослый солдат.
– Все ходят, нюхают… какой части ему знать понадобилось… Вот им есть за что повоевать… все помещики. Они себе повоюют, верхом поездят, глядь – полковника получил, а наш брат за это время в канаве где-нибудь сгниёт.
– И ихнего брата немало полегло, – сказал кто-то.
– Их же на то и воля.
– Ну, а что ж дальше: перейдёшь на ту сторону и будешь там жить, а дальше? – спросил солдат с завязанным глазом, которому не терпелось узнать про жизнь в плену.
– Что дальше – известно что: война кончится, пленными разменяются, пойдёшь домой живёхоньким к жене щи хлебать.
– Говорят, теперь пособие тем жёнам отменили, у кого муж добровольно в плен ушёл.
– Взять бы да всем разом и перейти – нам к ним, а им к нам, – вот тебе и вся война…
– А свинцового гороху в задницу не хочешь?
– Работа-то у немцев трудная? – спросил солдат с завязанным глазом, оставив без внимания последнюю фразу.
– Работа везде – работа. Только чисто у них и харчи хорошие. Нас вот и в мирное-то время всех вошь заела, спим, как свиньи, в грязи, а у них на каждого постель особая.
– И у мужиков?!
– Ну да.
– Скажи на милость!.. Небось бабы ихние скучают без своих мужиков-то?
– А что ж они не люди, что ли.
– Теперь бабы насчёт этого – беда!
– Нашими мужиками пользоваться будут. И греха никакого нет, потому – война, – сказал широкоплечий солдат, выплеснув в тлевший костёр остатки чая и передавая кружку другому.
– Греха нету, а свою бабу, небось, вздуешь, когда воротишься, ежели что…
– Это как полагается.
– Да… там постйли, а тут вот майся, как собака, в мокроте. Тьфу, черт, обгадили всё кругом, прямо локтем попал. И народ всё терпит!
– Ничего, до завтра обсохнешь, – говорили солдаты, сбиваясь в кучку к костру и заворачиваясь в шинели с головой на ночлег.
– Хоть бы во сне увидать, что к немцу в плен попали, – сказал кто-то из-под шинели.
– Дожидайся…
– А в деревне теперь совсем осень… небось, картошку убирают, коноплями пахнет… бабы замашки на буграх стелют, а потом капусту на погребицах будут рубить. Кочерыжечку бы сейчас съесть!
– Вот тебе немец завтра пришлёт кочерыжечку фунтов в двадцать весом…
LI
Надвигалась осень с дождями и непогодами. Опушки лесов пожелтели, и вянущие листья, срываясь при каждом порыве северного ветра, далеко летели по ветру через грязную дорогу на бурое ржаное жнивьё и осеннюю мокрую траву.
Низкие серые тучи неслись над опустевшими полями, на которых виднелись только редкие полоски невыкопанной картошки.
Почерневшие от осенних дождей избы в деревне зябко жались над оврагом. Над наличниками окон кое-где виднелись связки красной калины, припасённые к долгой зиме.
И в погожие дни, когда в воздухе было по-осеннему тихо и серое небо не обещало дождя, осиротевшие бабы выезжали в поле копать последнюю картошку. Ранние заморозки уже убили ботву, и она, почернев, вся обвисла. В воздухе стоял терпкий запах картофельной ботвы, конопли с огородов и ещё чего-то неуловимого, чем пахнет в деревне осенью.
Когда же кончался короткий рабочий день и на землю спускались ранние сумерки, мужики собирались у кого-нибудь на завалинке, надев уже по-зимнему полушубки, или набивались в избу и около засиженной ещё с лета мухами лампы читали о войне. Все, сбившись в кружок, слушали в глубоком молчании, но ничего не понимали из официальных сообщений: где эти города, которые брали и от которых отступали. Только бабы тревожились о том, что про неприятельских солдат, взятых в плен, в газетах писали, а русские солдаты все пропадали без вести.
Один раз лавочник в синей от махорочного дыма лавке прочёл в старой газете, что русское войско разбито около каких-то озёр.
В своей тёплой жилетке и выпущенной из-под неё рубашке, он опустил газету и, подняв очки на лоб, строго сказал:
– Свыше двух корпусов потерпели аварию.
Все неуверенно переглянулись, а кто-то из баб спросил:
– А много это будет?
– Тысяч сто…
– А сколько это примерно? – спросил из угла чей-то голос.
– Вот и говорят тебе: сто тысяч, – повторил лавочник, подняв голову, и посмотрел через очки в ту сторону, откуда послышался вопрос. – Ему русским языком говорят, что сто тысяч, а он опять спрашивает – сколько. Вот народ-то дубовый!..
– Нас одними сухарями в Турецкую войну кормили, вот мы и били турка, – сказал Софрон, с трясущейся седой головой, стоявший у печки, – а им горячую похлёбку да мясо дают, где ж им сражаться.
Передняя баба оглянулась было на него, но потом с досадой махнула рукой и отвернулась.
После приезда Алексея Степановича Софрон совсем потерял авторитет у баб. С доверием они теперь относились только к тем, кто говорит п р о т и в войны. До приезда Алексея Степановича им в голову не приходило, что можно говорить в таком смысле, и теперь они жадно ловили всякое слово о мире и о каком бы то ни было окончании войны.
Софрон же ничего, кроме раздражения, не вызывал теперь, так как он всё твердил одно и то же, что теперешние солдаты плохо воюют, что им не надо давать горячей похлёбки, от которой раздувает живот и они не могут как следует воевать.
– А и м, чем больше нашего брата положат, тем лучше, – сказал злобно Захар Кривой, – а то с войны много народу вернётся, земли лишней запросят.
Лавочник опустил очки и, посмотрев через них на Захара, строго сказал:
– Ежели у тебя голова непонимающая, то лучше молчи и не вдавайся в дурацкие рассуждения. Если народу много положат, то с чем же мы воевать будем?
– Известное дело, вам нужно воевать, потому вы с Житниковым от войны пухнете. На керосин копейку уж накинули? – сказал Захар, почему-то отнеся руку за спину и с ядовитым видом изогнувшись в сторону лавочника. – У тебя голова хорошо понимает, когда всё в карман к тебе идёт. У нас, может, не хуже твоего карманы есть…
– Карманы есть, да в них-то ни черта нет, – сказал лавочник, – потому голова не так затёсана.
Он отложил в сторону газету и бросил на неё очки, не взглянув на говорившего.
– Нам, брат, затешут головы, куда надо, будь спокоен! – говорил Захар. – Умные люди есть, которые и об нашем кармане подумали.
– Это что на оборону-то работают? – быстро припав грудью к прилавку, спросил лавочник, – что в кусты-то прячутся? Так мы по поводу их можем обратиться куда следует, чтобы они вредной а г и т а ц и и тут не разводили.
– Чего?…
– Вот тебе и «чего»…
Захар не понял значения впервые услышанного слова, которое употребил лавочник, на минуту растерялся и полез было за кисетом. Но сейчас же сунул кисет обратно и с новой силой, злобно блестя своим бельмом, крикнул:
– Вам жировать до поры до времени, потому дураков ещё много, которые за вас жизнь кладут, а вы, как клопы, жиреете. Застыдил чем, подумаешь! – Он иронически захохотал. – На оборону работает! Умный человек, вот на оборону и работает, да об нашем брате-дураке думает.
Захар шагнул к прилавку, за которым стоял лавочник, и, несколько присев, погрозил пальцем поднятой руки:
– Погоди, брат, поумнеем. Вон наши все без вести пропадают… Эти уж поумнели. Может, скоро все такими умными станут.
– Это что, в плен, значит, сдаваться? – спросил, так же ядовито прищурившись, лавочник.
– А нам не всё равно, какого чёрта спину гнуть?
– Верно, верно, – закричали в один голос бабы, – по крайности, хоть живы останутся.
– Патриотизму в вас нету, голубчики, вот поэтому вы и бормочете не знать что! – сказал лавочник с величайшим презрением. – Почитай п р е с с у, тогда узнаешь, как неприятель с пленными обращается, уши режет и прочее.
Захар Кривой, опять несколько растерявшись при незнакомых словах «пресса» и «патриотизм», замолчал было, но сейчас же крикнул с новой злобой:
– У нас окромя худых порток ничего нет, а вам с Житниковым и с господишками когда-нибудь придется отчёт давать… А что до ушей, то у всех не отрежешь…
– Брешет насчёт ушей! – закричали бабы. – От Мишки Терёхина письмо из плену пришло, пишет, что щей-то только нет, а прочей едой хоть завались. У хозяина живёт.
– Это вот цензура не дозналась о таких письмах, ему прописали бы зорю за них. Ну-ка, очищай лавку, запирать пора, – сказал лавочник и, обратившись к Захару, погрозил ему пальцем и сказал: – Язык держи покороче, а то на основании существующих законов можем и протокол составить.
– А вот мы что на тебя составим, к о г д а в р е м я п р и д ё т? – спросил Захар.
Все толпой пошли из лавки, а черноглазая горластая Аннушка продолжала:
– Мишка, говорят, пишет, будто, как попал в плен, так бога благодари. Работа вся на машинах. Вохи и в глаза там не видит.
– Вот это так враг, неприятель!.. А попадись к нашему Житникову, так он из тебя последние жилы вытянет, – послышались голоса. – Он уже сейчас норовит вместо денег товар тебе за работу всучить. А товар у него известно какой – всё подмоченное да протухшее.
– Теперь все купцы наживаются.
– Мишка, говорят, пишет, – продолжала Аннушка, оборачиваясь на ходу, – будто обращение хорошее, и сплю, пишет, на постели…
– Да, вот это так неприятель!..
Шедшая сзади всех старушка Марковна перекрестилась и сказала:
– Пошли ему, коли так, господи, всякого здоровья и благополучия за это.







