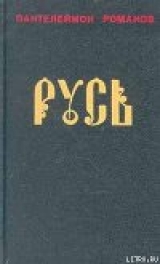
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 46 страниц)
XLIX
В день отъезда в столице было неспокойно, но Лазарев был в великолепном настроении. Он, как всегда в таких случаях, крупными шагами ходил по отделу и заговаривал со всеми тем добродушно-покровительственным тоном, который свойствен сановникам, снисходящим в минуты благодушия до разговора с самыми ничтожными из своих подчиненных.
У Лазарева же хорошее настроение выражалось ещё в шутках над генералом, которому сказали, что поездка имеет важное значение и его роль в ней будет очень значительна.
Генерал в своём новом мундире с плетеными золотыми эполетами, похожими на губернаторские, деловито-важно слушал то, что говорил ему Лазарев, стоя перед его столом и покачиваясь с каблуков на носки. Иногда генерал, когда его никто, как он думал, не видел, подходил к зеркалу в углу и приглаживал свои редкие остатки волос, окрашенные в чёрную краску и густо смазанные фиксатуаром.
На вокзал Митенька поехал с Лазаревым на его лошади, а сзади на извозчике – генерал. Около вагона уже дежурил Онуфриев, посланный вперёд взять билеты и занять купе. Он, отдав честь и пропустив Лазарева с Митенькой вперёд, пошёл вслед за ними, говоря, что всё благополучно.
– Молодец, Онуфриев, – сказал Лазарев, который был одет в офицерскую бекешу с карманами и в большой папахе, сильно сдвинутой назад. На плечах у него были п о л к о– в н и ч ь и (нестроевой чиновничьей военной формы) погоны.
Отставший генерал, запыхавшийся в своей ватной шинели, показался на платформе и растерянно обегал глазами вагоны. Он хорош был тем, что умел пугаться, теряться и не обижался на иронические замечания Лазарева, которые всегда принимал серьёзно, с испуганным или паучьим, насупленным видом.
Когда Онуфриев, посланный к генералу на выручку, привёл его, Лазарев сказал:
– А мы думали, что вы, ваше превосходительство, пренебрегли своими обязанностями и заехали по дороге в какой-нибудь ресторанчик.
– Хорош ресторанчик! Я всю спину извозчику продолбил. Ведь вам на собственной-то лошади хорошо ехать, – отвечал генерал ворчливым тоном, который он позволял себе в ответ на такие замечания, как вольность, ставившую его хотя бы приблизительно на равную ногу с Лазаревым.
– Нет, уж вы в другой раз берите извозчика получше, – сказал холодно Лазарев, стоя посредине коридора.
Даже устраивавшиеся на ночь пассажиры оглянулись и посмотрели на этого высокого молодого человека в бекеше и папахе, с башлыком на плечах, который делал выговор г е н е р а л у.
– Ваше превосходительство, я предлагаю немного погулять по платформе, – сказал через несколько минут Лазарев, – лучше спать будем. Вы пойдёте?
Генерал, по-видимому, с удовольствием сказал бы, что он и так до одышки нагулялся сейчас по платформе, отыскивая вагон, но, видимо, учёл этот вопрос как приказание и, что-то ворча, стал надевать шинель, которую уже снял было.
Шедшие по платформе солдаты вытянулись перед ним во фронт. Он с досадой махнул им рукой в белой перчатке.
Лазарев шёл, разговаривая с Митенькой и не обращаясь к генералу. Так как троим в линию идти было тесно, то генералу пришлось отстать. Но идти сзади в качестве какого-то лакея за этим «нахальным молодым субъектом» для генерала было невыносимо оскорбительно, и поэтому он сделал вид, что прогуливается один, ради своего удовольствия.
– Ваше превосходительство, вы опять там потеряетесь, идите-ка ближе сюда! – крикнул ему Лазарев.
– Ничего я не потеряюсь, – хмуро ответил тот, однако прибавил шагу.
Генерал почему-то почувствовал симпатию к Митеньке и постоянно жаловался ему где-нибудь наедине на оскорбительное отношение к нему начальника отдела:
– Вы подумайте, я же всё-таки генерал, а тут вдруг такое отношение. Я не могу больше, я заявлю ему в самой резкой форме.
Но он не заявлял и ограничивался только тем, что каждый раз в подобных случаях насупливался и, отойдя на некоторое расстояние от начальника, ворчал что-то про себя. Причём тот и тут не оставлял его в покое и замечал ему:
– Ваше превосходительство, вы имеете дурную привычку говорить, отойдя от меня на двадцать шагов. Я вас п о ч т и не слышу. Что вы изволите там говорить?
Генерал, по-видимому, задумался о своём унизительном положении, в которое попал из-за тщеславного желания носить форму, и, не заметив, что Лазарев с Митенькой повернули к вагону, всё шёл по платформе вперёд. За ним уже вдогонку послали Онуфриева, и тот с рукой у козырька доложил ему, что начальник отдела послали за ним и гневаются, так как поезд сейчас трогается.
– Ваше превосходительство, вы заставляете меня всё время смотреть за вами. Я никак не думал быть нянькой при вас, – сказал ему Лазарев.
Генерал, испуганно отдуваясь, даже не нашёл, что ответить, и только поскорее прошмыгнул в своё купе. Перед самым отходом поезда в вагон ввалился запыхавшийся Жорж.
– Ну, я так и знал, что ты или совсем опоздаешь, или подкатишь к самому концу, – сказал Лазарев. – Мне, должно быть, при двух человеках придётся нянькой быть.
– Что ты, что ты! – сказал Жорж, с аппаратом на ремне через плечо, боком протискиваясь по коридору в купе. Уши его смешно оттопыривались из-под военной фуражки, а сам он являл собой самый невозмутимый вид. – Я всегда за минуту приезжаю к поезду и никогда ещё не опаздывал.
– Ну, ладно, ладно.
L
Когда Лазарев попадал в новую среду, его мысль сейчас же начинала работать над завязыванием новых дел и новых отношений с людьми. Причём отношения с людьми ему нужны были постольку, поскольку они служили тому делу, которое в данное время занимало его.
Жорж сказал ему, что у него есть близкий приятель на фронте, редактор военной газеты. На это Лазарев сказал:
– Великолепно!
У него сейчас же мелькнула мысль о том, какое деловое значение может иметь для него это знакомство, в связи с возможными событиями, грозившими опрокинуть его «организацию помощи жертвам войны».
На фронте встретили путешественников с почётом, какого они даже не ожидали. Очевидно, слухи о могуществе Лазарева в связи с отсрочками военной службы достигли и фронта. На вокзал выехали встречать шесть человек. Среди встречавших были усатый военный, сопровождавший Митеньку в его первый приезд, потом Митенькин становой.
Остальные были незнакомые. Один чиновник с полковничьими погонами как-то невольно приковывал к себе взгляд: у него странно моргал правый глаз, причём Митенька заметил, что одно веко у него было длиннее и почти совсем закрывало собой глаз. Все эти шесть человек в капитанских и полковничьих погонах толпились около приезжих и один за другим подходили и представлялись.
В особенности они опешили, когда вышел генерал. Они как-то особенно торопливо и все враз отдали ему честь.
Но Лазарев и тут не оставил его в покое и сказал:
– Ваше превосходительство, вы ничего не забыли в вагоне, а то мне надоело смотреть за вами.
Все встречавшие значительно и недоуменно переглянулись между собой и с этой минуты ещё удвоили своё внимание и почтительность к Лазареву.
Митенька, улучив минуту, подошёл к становому и сказал ему:
– Я в центре говорил о вас, рассказывал, как об образцовом служаке.
Становой, покраснев от удовольствия, приложил руку к козырьку и щёлкнул шпорами.
Лазарев, в своей папахе, с ласковой, безразличной улыбкой, с какою высокопоставленные люди принимают почести от простых смертных, не различая отдельных лиц, оглядывался по вокзалу, точно и вокзал подлежал его осмотру. А встречавшие, окружив его толпой, тоже водили вслед за ним глазами по стенам, справляясь каждый раз с направлением взгляда начальника, чтобы знать, на чём остановилось его внимание.
Толпившиеся на вокзале офицеры, чиновники, служащие и просто пассажиры почтительно давали дорогу и провожали глазами эту группу.
Лазарев принимал внимание публики к себе, как должное, и не удивлялся ему, шёл прямо, не сворачивая, как будто знал, что перед ним расчистится дорога. И она действительно расчищалась. Так как Лазарев, не спрашивая дороги, шёл очень решительными шагами вперёд, а встречавшие как-то не догадались остановить его и показать, куда идти, то все промахнули до самой конторы дежурного по станции и только тогда догадались сказать, что господин начальник идёт не туда.
Пошли обратно целой гурьбой, с генералом в хвосте.
– Вокзал, что ли, думают переделывать? – спросил один чиновник в бекеше у своего соседа.
– Нет, начальство какое-то, – ответил тот.
Когда Лазарев попадал в положение начальника, которому показывают, объясняют и водят его, он совершенно забывал о Митеньке, и тому уже самому приходилось смотреть, чтобы не отстать и не потеряться вроде несчастного генерала, и иногда сильно прибавлять шагу.
Ему было неловко от сознания, что видевшие его здесь в прошлый раз чиновники относились к нему как к самостоятельной величине из центра, а теперь могут подумать, что он – мелкая сошка.
Тогда он инстинктивно отстал. К нему подошли чиновник и становой, и они наперебой говорили и объясняли Митеньке, когда тот спрашивал их о вокзале, о городе и прочих ни на что ему не нужных вещах.
Получалось так, как будто у Митеньки была своя собственная свита, такая же, как у Лазарева. Только у того было три человека, а у Митеньки два.
Генерал отстал. Чтобы не бросить его на произвол судьбы, с ним шёл какой-то третьеразрядный чиновник, очевидно взятый для того, чтобы вынести из вагона в машину вещи. У чиновника на погонах были те самые серебряные галуны, в каких здесь прошлый раз щеголял и Митенька. Генерал тоже задавал вопросы, но его спутник был, по-видимому, малограмотный и многого объяснить не мог.
Стали рассаживаться в машины.
Жорж, как потерянный, подошёл к лазаревской машине, ища себе места, но Митенька, успевший сесть с Лазаревым, сделал вид, что не заметил его.
Все почему-то обращались к Митеньке, если нужно было что-нибудь передать Лазареву, как будто он имел над Лазаревым власть и мог заставить его делать всё, что угодно.
Отчасти это было и правда, так как Лазарев имел рассеянный вид сановника, который следует всему тому, что говорит ближайшее к нему лицо.
– А вы хорошо это устроили: наша свита растянулась чуть не на тридцать шагов, даже прохожие оглядывались, – сказал Лазарев, почему-то приписав это обстоятельство организаторским талантам Митеньки.
После этого он уже во всём слушался Митеньки и даже иногда повёртывался к нему при обходе учреждений и спрашивал его мнения, куда ехать дальше и что делать. Ему, очевидно, нравилось проявлять как бы сановное отсутствие воли в распределении времени и занятий.
Встреча с особоуполномоченным прошла великолепно, благодаря предварительному с ним знакомству Митеньки.
Жорж несколько раз снимал группы во всяких видах и местах, причём в центре сидел с благожелательно-рассеянной улыбкой Лазарев, по правую руку от него особоуполномоченный с генеральскими погонами, по левую – Митенька, а там дальше полковник с неподнимающимся веком и уже рядом с ним генерал.
Вечером были у редактора. Лазарев сразу начал с дела. У него мгновенно родился проект оживить газету притоком первоклассных литературных сил. Для этого он предлагал предоставить в распоряжение газеты весь свой штат.
На другой день Митенька неожиданно для себя получил билет, на котором была его фотографическая карточка и было написано, что он является корреспондентом газеты при штабе главнокомандующего армиями Западного фронта.
Потом был ужин у особоуполномоченного. Лазарев и Митенька говорили, что в столице они уже давно лишены такой благодати.
Тут хозяин подозвал к себе усатого заведующего складом и сказал ему на ухо, чтобы гостям было уложено всё на дорогу.
И когда чиновник с полузакрытым веком на следующий день почтительно предложил Митеньке поехать на склад, чтобы самим выбрать продукты, Митенька покраснел, ему показалось это неудобным. Но Лазарев, ни в чём никогда не чувствовавший неудобства, надел папаху и сказал:
– Едем!
– Едем.
Чиновник с полузакрытым веком обратился к Митеньке с вопросом, сколько он прикажет положить им с собой сельдей. Митенька замялся и хотел сказать: «Ну, положите десятка три, что ли». Но в это время подошёл Жорж и сказал:
– Давайте бочонок.
И пошёл сам ходить и лазить по складу с таким видом, как будто он попал на отбитые у неприятеля запасы продовольствия.
Лазарев смеялся, а Жорж всё укладывал и укладывал, что им взять с собой. И куча продуктов катастрофически росла.
В воротах склада стояла группа оборванных солдат, которым чиновник склада несколько раз махал рукой, чтобы они уходили.
Митенька с неприятным для себя чувством услышал, как один из них негромко сказал:
– Тащут, прямо не судом. Целыми партиями приезжают.
Другой солдат, настроенный менее критически, долго оглядывался по земляному полу склада и, увидев объеденную крысами селёдку под бочкой, подкопнул её к себе ногой и незаметно положил в карман.
Митенька вдруг подумал о том, как же заведующий складом будет отчитываться?
Но опасения Митеньки оказались напрасны. То, что последовало за этим, заставило забыть не только об отчётности, но и о продуктах.
Они на двух машинах возвращались в радужном настроении в управление и думали, что сейчас войдут в уютный кабинет генерала и он, пожимая им руки, бросит все свои дела и со своим вниманием обратится к ним.
Но когда они вошли в управление, то увидели, во-первых, много встревоженных лиц, окруживших стол генерала в кабинете. На столе боком сидел какой-то, очевидно, только что приехавший чиновник и что-то рассказывал.
Тот факт, что чиновник присел боком на стол в присутствии генерала, что в его кабинет напихалось много мелких чиновников (даже были с серебряными галунами), – всё это показало Митеньке и Лазареву, что случилось что-то ужасное.
Генерал не только не кинулся жать руки вошедшим, а лишь на секунду бросил в их сторону растерянный взгляд и опять стал слушать то, что рассказывал приехавший чиновник.
– Началось ещё двадцать третьего числа. А двадцать пятого толпа, стоявшая в очереди у магазина, стала разбивать окна… Вызвали полицию… в неё полетели камни, толпа росла… приехали казаки. – говорил рассказчик прерывающимися фразами, точно он только что взбежал на гору и не может отдышаться.
– Через полчаса по Невскому шли манифестации, потом началась стрельба. Вот уже четвёртый день… ужас, что делается, – заключил рассказчик, сморщившись и махнув рукой.
– А император?
– Император в ставке. Двадцать восьмого уже по всему городу разъезжали военные автомобили с восставшими войсками, ловили полицейских, били офицеров, арестовывали генералов.
Митенька невольно оглянулся на своего генерала, который, казалось, стал ещё меньше ростом, – такой был у него испуганный и пришибленный вид.
Лазарев вдруг решительными шагами вышел из кабинета.
У подъезда ещё стояла машина, нагруженная бочонками с селёдками, мешками сахара и муки.
– Вези назад! – крикнул Лазарев шофёру к ужасу Жоржа, который даже не мог произнести ни слова от удивления, а подбежавшему становому, всё-таки не отставшему от них, он дал приказание взять железнодорожные билеты.
Митенька заметил, что у Лазарева не было никакой растерянности. Наоборот, у него на лице была какая-то вдохновенная решимость, как у полководца, которого осенила великая мысль.
– С первым же поездом – в Петроград, – сказал он.
– А как же селёдки? – сказал Жорж.
– Пойди ты к чёрту со своими селёдками! – крикнул Лазарев.
На вокзале, куда они приехали вечером и уже без всякой свиты, было заметно, что случилось что-то огромное. Прибывавшие из столицы поезда и выходившие из них люди сейчас же окружались жадными толпами пассажиров, и из уст в уста передавались свежие новости.
– Какие там извозчики! – говорил какой-то капитан с изрытым оспой лицом на вопрос пассажира с двумя чемоданами, можно ли получить в. Петрограде извозчика. – По всем улицам стрельба идёт, а он – извозчика!
Он даже, раздражённо оглянувшись, ещё раз повторил:
– Извозчики, – скажите!..
– Боже мой, у меня там муж! – восклицала какая-то дама.
– Все мужья там, – отозвался с новой, небывалой открытой насмешливостью проходивший мимо солдат.
И когда уже ехали в поезде, то в коридорах собирались кучки пассажиров и тревожно обменивались мнениями о том, что их ожидает завтра утром в столице.
А иногда заглядывали в тёмные окна вагона, как будто уже теперь ожидая увидеть в них что-нибудь страшное.
Какой-нибудь свет в стороне или зарево заставляли всех тревожно приникать к окнам, хотя до столицы было триста тридцать вёрст.
Жорж ввалился в вагон, как и следовало ожидать, в самый последний момент. Даже как-то не заметили, куда он пропал. К удивлению всех, он вкатил в коридор вагона бочонок сельдей.
– Да что же там такое, забастовка, что ли? – спросила женщина с наивно поднятыми бровями.
– Забастовка! – раздражённо отозвался какой-то полковник. – Только эта забастовка несколько иначе называется: р е в о л ю ц и е й.
– Да, это уже революция, – сказал Лазарев.
Он стал большими шагами ходить по коридору вагона. Видно было, что вся его мысль и энергия устремились навстречу грядущим событиям.
Конец пятой части
Часть VI
I
Свершилось то, что было мечтой многих поколений русской интеллигенции: старый деспотический строй, преграждавший народу путь к свободе, – рухнул.
И вышло, как всегда: все уже в течение полугода говорили, что революция неизбежна, но, когда она произошла, интеллигенция и её вожди оказались совершенно застигнутыми врасплох. Никто как-то не ожидал, что она случится именно в эти последние дни февраля 1917 года. Тем более что и числа даже были неровные – не 1, не 5, не 10, а 26, 27-гo. Началась она, собственно, и вовсе 23-го, число уж совсем мало подходящее для великого события.
Как-то все боялись даже верить, что это когда-нибудь свершится, и только страстно ждали, но совершенно не успели приготовиться.
Так как вожди либеральной интеллигенции и буржуазии уже со второго года войны с думской трибуны во всеуслышание говорили о негодности старой власти и беспощадно вскрывали её неспособность управлять страной, неспособность к организации, её полицейскую политику, то восставший народ, главным образом в лице солдат и всякого рода обывателей, в первые дни устремился к Государственной думе как к очагу революции.
Имена Родзянко и Милюкова как самых главных революционеров были у всех на устах. И Родзянко, в последние дни в ужасе метавшийся в поисках средств для спасения монархии от восставшей черни, каждую минуту выходил на подъезд Таврического дворца и говорил своим мощным протодьяконским голосом пламенные революционные приветствия народу, приходившему к славной колыбели революции – Государственной думе – выразить ей свою преданность.
Бесчисленные манифестации с красными флагами, воинские части с броневиками и вооруженными солдатами стремились увидеть его и, когда видели на крыльце огромную фигуру в сюртуке, надрываясь, кричали «ура», махая через головы впереди стоящих шапками.
И опять, несмотря на то, что революцию ждали целые десятилетия и многие стремились к ней как к великому торжеству великого народа, когда она свершилась, её лицо показалось совсем не таким, какое представляло себе большинство интеллигентного общества. Великолепные залы Таврического дворца с его белоснежными колоннами, зеркально чистыми полами, с люстрами, радужно блестевшими дрожащими подвесками, наполнились вдруг беспорядочной уличной толпой в сапогах с обтаивающим снегом, солдатами в шинелях и папахах, с ружьями. Толпа неудержимо заливала блестящие залы, внося с собой через настежь раскрытые двери промозглый холод февральского дня и делая целые дороги из грязных следов от дверей, где из года в год стоял важный швейцар, глядя через стекло на улицу и подметая щёткой малейшую замеченную пылинку.
И вожди революции, которых так жаждал видеть народ, испытывая отвращение к непривычной, грязной и, по-видимому, разнузданной толпе, чувствовали прежде всего ненависть к этой толпе за то, что она ворвалась в чистые залы своими грязными сапогами. Но это было уже потом, а в первое мгновение все вожди выступали перед народом с искренним подъёмом, так как сначала думали, что это идут их бить. И когда выяснилось, что не бить, а приветствовать, то испуг сменился подъёмом.
И Родзянко, с ужасом видевший, что монархия гибнет, что улица грязным потоком заливает величественный дворец, не имел ни силы, ни возможности спасти венценосца. Не мог же он выйти к этим радостно приветствовавшим его толпам освобождённого народа и сказать им:
«Напрасно вы рассчитываете во мне увидеть своего союзника: если мы с думской трибуны громили старый строй, то вовсе не с целью его уничтожить. А тем более способами, до которых охотники вы. Мы просто обязаны были перед своей интеллигентской совестью сохранить славную традиционную оппозиционность по отношению к власти. Но до известных пределов, так как всё-таки эта власть даёт нам и положение, и достойное место в жизни. А вас, будь такая возможность теперь, я охотно успокоил бы десятком-двумя пулемётов, чтобы очистить от ваших грязных сапог и шинелей дворец славного фаворита Великой Екатерины».
Но сказать это было невозможно, и потому приходилось говорить совершенно наоборот – то, чего никогда не думал и не хотел говорить. Приходилось выражать радость по поводу падения прогнившего строя и с необычайным революционным подъёмом приветствовать освобождённый народ, когда уже, наверное, выяснилось, что надежды на верные войска с пулемётами и хорошим генералом нет никакой.
И пришлось не только приветствовать, а и стать во главе восставшего народа, хотя бы формально возглавив движение вождями думского большинства. И каждый из кадетских вождей, выступавших перед пёстрой толпой солдат, говоря с революционным подъёмом приветственную речь, невольно смотрел на себя со стороны глазами своих интеллигентных товарищей, и ему казалось, что они думают: «Как не стыдно человеку так врать».
И, в самом деле, трудно было допустить, чтобы у говоривших с их белыми господскими руками и чистыми сюртуками с манишками и крахмальным бельём были общие с этой уличной толпой интересы. И когда Родзянко вызывали к перешедшим на сторону новой власти полкам, он в заключение своего революционного приветствия говорил:
– Возвращайтесь спокойно в казармы и ждите наших приказов, так как вы можете понадобиться для защиты нового строя.
Потом он шёл в свой кабинет, куда ещё не проникла улица, и, хватаясь за голову, причитал:
– Надежды нет, всё погибло. Эта солдатня грозит нас затопить в своих грязных волнах. Что делать, что делать?… Неужели нельзя очистить от них хоть коридоры? Какое отвращение!
– Михаил Владимирович, пожалуйте, Преображенский полк пришёл, – сообщал кто-нибудь из членов Думы, всовываясь в дверь кабинета.
И Родзянко, одёрнув сюртук, шёл, восторженно приветствуемый залившей коридоры толпой, и со свойственным ему подъёмом произносил речь перед славными войсками, свергнувшими иго прогнившего царизма.
И опять выходило всё наоборот: если вначале было противно и как-то двусмысленно, что толпы революционного народа направились в любимую Думу, то потом приходилось самим же заявлять, что Дума явилась восприемницей революции, так как не куда-нибудь, а именно к ней стекались первые потоки восставшего народа.
И вот теперь, когда уже всё свершилось, многим приходила в голову мысль, что они совершенно не приготовились к тому, что дальше делать. Не было никакого плана, никакой организации не только у вождей интеллигенции, но даже у вождей буржуазии. Интеллигенция уж туда-сюда, она всегда была слишком идеалистически настроена и занята больше принципами, чем практикой, к которой питала необъяснимое отвращение. Но как могли дельцы-капиталисты встретить революцию без всякой подготовленности к ней, оставалось непонятным. Ведь сами же почти два года твердили старой власти о необходимости привлечения на высшие посты людей, облечённых доверием страны. А в то же время никому в голову не пришло хоть впрок составить список таких людей. Возможно, это происходило из соображения, что нужда в них будет ещё не скоро и десять раз ещё успеется сделать, – какой-нибудь десяток лиц разве долго выбрать. А возможно, казалось неудобным и неделикатным при живых людях (да ещё знакомых) выбирать их заместителей.

И вот теперь все метались в безвыходном отчаянии, не зная, что предпринять. Сейчас ещё выручало то, что приходившие толпы не требовали указаний, а только выражали свою преданность и свой восторг отцам революции. Но даже это было трудно и неприятно, потому что все привыкли говорить в Думе, обращаясь не к бурлящей, страшной толпе, а к собранию чистых, корректных людей. И потому все с надеждой смотрели на Керенского, который с безумно вдохновенным лицом одержимого, расталкивая без церемонии всех, выбегал к толпе, говорил речи, с изнеможённым видом возвращался и бросался в кресло.
Но массы в конце концов могли прийти и спросить: что делать? И избранный комитет Государственной думы на этот предмет решил непрерывно заседать. Высокие двери закрылись. За большим столом с зелёной бархатной скатертью сели члены Думы под председательством Родзянко.
Тесный коридор всё заливался новыми потоками народа, который, колышась, продвигался, поворачивал налево, сам часто не зная куда, и только с одним желанием пройти по этим прежде недоступным местам. Некоторые пробивались к дверям кабинета и требовали председателя. Их отстраняли и уговаривали стоявшие на часах два юнкера. Добивавшиеся председателя говорили, что им нужно получить указания, что делать. Юнкера и какой-нибудь вышедший из кабинета член Думы, успокаивая, объясняли, что как раз сейчас Временный комитет занят тем, чтобы дать всем ясный и точный ответ: что нужно делать.
– Граждане, будьте терпеливы, все указания получите.
И толпы осаждавших послушно останавливались и терпеливо ждали, с надеждой глядя на запертые высокие двери. А внутри кабинета кучка людей под председательством огромного человека в сюртуке сидела за столом, и этот большой человек, сжимая голову в отчаянии, в десятый раз задавал своим товарищам вопрос:
– Что же делать?…







