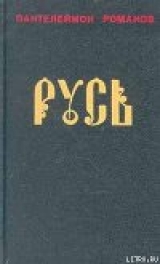
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 46 страниц)
LXI
Батарея Валентина стояла на пригорке в редких берёзках. Мимо неё под гору спешно проходили в сумерках ряды пехоты, безразлично оглядываясь на батарею и скрываясь за срезанным откосом загибающегося шоссе. Некоторое время ещё виднелись из-за кромки земли концы колеблющихся штыков. За ними, мягко погромыхивая, ехали зелёные ящики патронных двуколок. Потом проезжали фуры Красного креста. Ездовой с вожжами в руках, приподнимаясь на сиденьи, заглядывал через спины лошадей вперёд под гору.
Офицер, ехавший верхом стороной дороги, с биноклем, болтавшимся на груди, остановил лошадь и, стоя поперёк движения, пропускал мимо себя поскрипывающие повозки и лошадей с наезжавшими на шеи хомутами, потом поскакал вперёд под гору. Лошадь, вскидывая задними ногами, далеко разбрасывала комки земли и грязи.
Чем больше уходило под гору войск, тем сильнее чувствовалось напряжённое ожидание чего-то.
Львов в шинели и в щёгольски смятой назад фуражке, стоявший у батареи с Валентином, то подходил к краю бугра и смотрел в лощину, то опять возвращался к пушкам.
– Ну, смерть подходит к нам всё ближе и ближе, – сказал он.
– Ничего. Эта смерть хорошая, она конца не испортит, – ответил Валентин, всматриваясь в сумеречную даль.
Где-то далеко справа и впереди послышался дальний выстрел из тяжёлого орудия, и вслед за ним, как будто по сигналу, заговорили пушки.
Лошади, с закинутыми постромками стоявшие под горкой, настораживали уши на эти звуки и беспокойно переступали ногами.
Небо впереди вспыхивало, точно от дальних зарниц, и на нём то и дело сверкали какие-то искорки.
Львов был в приподнятом, возбуждённом настроении.
– Знаешь, – сказал он Валентину, – я считал себя конченым человеком. Внутри гнусная пустота была и каждую минуту ощущение этой пустоты. Летом пил, безобразничал и за каждый проступок ненавидел себя и презирал. Постой, как будто кричат.
Раздражённое воображение, в самом деле, каждую минуту обманывало слух: иногда вдруг начинало казаться, что где-то впереди и внизу кричат протяжным воем толпы бегущих людей; иногда даже чудилось, что слышен лязг сабель.
– Нет, так показалось, – сказал Львов и продолжал: – Я чувствовал себя ничтожеством, когда был один и мне всё казалось, что все видят моё ничтожество. Ведь, казалось бы, я свободный, обеспеченный человек, что мне ещё нужно? И вот нет! Гложет что-то неотступно. Точно не знал, куда себя деть.
– Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается… – медленно проговорил Валентин.
– Откуда это! Именно так! – воскликнул Львов. – Теперь же, когда нас собрали всех, сбили в кучу, всё снялось со своих мест, с меня точно спала какая-то тяжёлая ответственность. Я не знаю, в чём дело, но здесь, что бы я ни делал – вино, женщины, – я не чувствую никакого угрызения совести. Я свободен. Меня освободили, понимаешь?!
– От самого себя? – сказал Валентин, продолжая смотреть вперёд, в сгущающуюся темноту ночи.
Он встал и, подойдя к краю бугра, остановился там. Его высокая фигура неподвижно возвышалась на чуть светлевшей ещё полоске горизонта.
Львов долго смотрел в ту сторону, потом, не будучи в состоянии бороться с охватившей его вдруг усталостью, сел на ящик у колеса пушки и задремал.
Иногда он испуганно просыпался. На батарее было тихо. Вверху чернело уже ночное небо в осенних тучах, слышался храп лошадей, и по-прежнему впереди стояла неподвижная фигура Валентина.
Вдруг он проснулся от какой-то суеты вокруг него.
– Через полчаса снимаемся, – сказал голос Валентина около него.
Львов, чувствуя на лице туманную сырость, встал, стараясь прогнать сон из слипавшихся глаз.
К орудиям спешно подводили лошадей.
Уже брезжил рассвет, когда пушки, гремя железом и подпрыгивая на неровностях, тронулись на рысях под гору.
Чёрное небо постепенно серело и бледнело на востоке. На западе сбегали последние тучи и как будто всё больше и больше открывали свет.
В лощине белел туман. Лошади, сталкиваясь боками и раскатываясь ногами по лужам от вчерашнего дождя, спускались с крутого места.
Под горой уже стали встречаться двуколки с ранеными, ноги которых висели сзади и болтались. Иногда виднелась бледная рука.
Стороной дороги длинной вереницей тоже шли раненые.
– Как дела? – спросил командир батареи, придержав лошадь.
Один раненый с широкой курчавой бородой остановился и, затягивая зубами ослабевший на руке узел марли, сказал:
– Ничего. Народу что полегло, ужасти!
Лошади поскакали галопом. Орудия, повернутые жерлами назад, грохоча мотались по скользкой дороге из стороны в сторону. Уже виднелась по сторонам дороги свежеразрытая снарядами земля, потом стали попадаться лежавшие в различных положениях трупы в лощине на покрытой инеем траве. Одни лежали навзничь, другие – скрючившись, очевидно, раненные в живот, третьи – вниз лицом, с вытянутыми вперёд руками и с запёкшейся кровью в волосах.
В канаве ещё билась лошадь, лежавшая кверху ногами.
– Странно создан человек, – сказал Львов, который ехал рядом с Валентином. – Смотрю на эту картину, и хоть бы что! Ни страха, ни жалости. Какое-то полное равнодушие. Как будто эти трупы не имеют ко мне никакого отношения.
– Да, человек странно создан, – отозвался Валентин, оглядывая валявшихся мертвецов.
Около мостика через ручей, очевидно, ночью произошёл затор и свалка. На досках моста лежали несколько трупов с раздавленными руками и ногами, – по ним проехали чугунные колёса орудий.
Особенно бросался в глаза один офицер, который сидел, прислонившись спиной к перилам. Ноги выше колен были у него отжёваны тяжёлыми колёсами. Из бокового кармана убитого торчали какие-то бумаги.
Валентин соскочил с лошади, вынул эти бумаги и стал их дорогой рассматривать.
Львов выжидательно смотрел то на Валентина, то на листок бумаги, который он держал в руке, стараясь разобрать прыгающие на быстрой рыси строчки.
– Что там? – спросил Львов.
– Ничего особенного. Письмо жене писал, да не дописал. Пишет, что только вернулись из сражения, где приходилось по трупам и по живым на лошади скакать, – проговорил Валентин, – и его поразило, что он смотрел равнодушно на эти трупы, как будто они не имели никакого отношения к нему.
Львов содрогнулся, точно от холода, и почему-то оглянулся на сидевшего у перил моста мертвеца.
Батарея выехала из лощины, проехала по ровному, высокому месту и круто взяла направо, на возвышенность, откуда неожиданно открылся широкий вид.
Было раннее утро. Солнце только что выглянуло и осветило поля, перелески и широкую мутную Вислу на загибе.
Лёгкий к утру заморозок покрывал белым инеем нарытую землю укреплений. Виднелись дальние холмы, затянутые до середины тонким облачком лёгкого тумана или дыма, обвеянные призрачной белизной и чистотой. Торжественная тишина стояла в чутком чистом воздухе, высушенном лёгким морозом. Впереди и справа слышались редкие, разрозненные удары орудий.
Батарея остановилась в низких молодых соснах, что обыкновенно растут на песчаных буграх и почти по земле расстилают свои густые смолистые ветки с длинными тёмно-зелёными свежими иглами.
Валентин вышел между орудиями на край песчаного бугра.
Впереди и внизу широким холстом лежала река, налево по ту сторону её виднелась деревушка.
Около переправы, поблёскивая на утреннем солнце штыками, теснились войска, вступали на узкий понтонный мост и, чернея, двигались узкой лентой. Виднелись маленькие спешившие люди; между ними, точно лодки, проплывали санитарные двуколки.
Орудийные выстрелы стали веселее перекатываться за холмами. Люди у переправы тревожно засуетились и заспешили, как муравьи, и в это время вправо от моста поднялся фонтан воды и донёсся удар разрыва.
Наши батареи стали отвечать, и тяжёлые удары как бы начали перекликаться по холмам. Густая лента пехоты уже перешла через мост и стала мелкими точками растекаться за рекой в ширину. Послышались частые ружейные выстрелы, которые среди тяжких выстрелов орудий были похожи на треск хлопушек. Они то хлопали вдруг, то трещали вперемежку.
К Валентину подошёл Львов.
– Ты что здесь стоишь?
– Смотрю.
Справа от них стоял командир батареи с биноклем в руках. Иногда он подносил его к глазам, иногда отнимал и смотрел простым глазом, как бы проверяя, где находится то, что он видел в бинокль.
Солдаты-артиллеристы спешно подвозили на тачке снаряды, и орудия – то одно, то другое, – дёргаясь назад, окутывались дымом с коротким взблеском огня и оглушали стоявших на батарее.
– Наш командир с биноклем напоминает мне адмирала Нахимова при севастопольской обороне. У него так же фуражка поднялась сзади, – сказал Валентин.
– Если бы было ненастное утро, Валентин, – сказал Львов, – не было бы ничего красивого, а сейчас смотри, как хорошо!
Действительно, отсюда сверху далекие холмы, широкая река, переправляющиеся войска – всё казалось сказочной панорамой, а люди, стрелявшие за рекой из ружей куда-то вперёд, казались игрушечными, и не приходило в голову, что через несколько времени там будут лежать тысячи трупов и искалеченных людей, – так бодро и весело трещали выстрелы и перекатывались по холмам удары орудий.
К реке понеслись на лошадях люди в лохматых шапках, это подошёл Третий кавказский корпус.
Фонтаны в реке всё учащались. Над переправой, как ястреб, вился аэроплан, металлически поблёскивая крыльями. Люди на переправе лихорадочно спешили. Какой-то конный, вероятно, один из командиров, то приближался к мосту, то галопом скакал назад. Длинной вереницей подъезжали к переправе запряжённые шестериком полевые орудия, фуры Красного креста, и шла пехота, поблёскивая штыками.
Командир батареи, похожий на Нахимова, не отрывая глаз от бинокля, что-то показывал рукой подошедшему к нему офицеру в сторону белевших холмов.
– Без телефона работаем, – сказал он.
– Какой уж тут телефон, когда всё на ладони, – отвечал офицер и беспокойно прибавил: – Ой, не успеют перейти, смотрите, как нащупывает!
И в самом деле, фонтаны воды взяли мост в вилку и, поднимаясь то справа, то слева от моста, всё ближе и ближе подходили к нему.
– Вон, вон, смотрите, упал!
Видно было, как одна лошадь с всадником от близко ударившего снаряда шарахнулась и, свалившись в воду, поплыла, кругообразным движением поворачивая назад к берегу.
Вдруг середина моста, где особенно густа была толпа, разломилась, и вместе с красной вспышкой огня полетели вверх обломки досок. Вода покрылась чёрными точками лошадиных и человеческих голов. Люди и лошади барахтались или безжизненно плыли вниз по течению, уносились быстро водой.
Люди, очутившись на той половине моста, беспокойно спешили к берегу, а оставшиеся на этой в нерешительности остановились и, спутавшись, стали поворачивать назад.
Видно было, как перешедшие реку разбегались по берегу, припадали к земле, и скоро замелькали беззвучные вспышки дымков.
А навстречу с бугра скатывались вниз и стреляли люди в сине-зелёных шинелях.
Над разорванным мостом поднимался столбом дым. Мост горел. Неприятельские снаряды, подымавшие фонтаны воды, перекидывались уже за реку. Налево от толпившейся на шоссе пехоты взлетел фонтан из камней и земли.
Послышался близкий удар. Потом такой же чёрный фонтан взлетел шагах в ста от батареи.
– Тяжёлая!.. – беспокойно сказал командир. – Отойдёмте-ка сюда.
Валентин продолжал стоять и смотреть, машинально потягивая из потухшей трубки.
Львов, тревожно оглядываясь, ждал, где упадёт следующий снаряд.
– Валентин, пойдём отсюда.
Валентин, не отвечая, продолжал стоять.
– Господа офицеры, не надо рисковать! – крикнул командир.
Грохот орудий и взрывов всё усиливался. Около крайнего орудия, стоявшего между двух молодых сосен, засуетились люди с носилками. Лошади от близко упавшего снаряда неслись под гору к мосту.
– Валентин, – крикнул Львов, – тебя убьёт там, слышишь!
– Это не имеет значения, – ответил Валентин. Он пошёл было, но вдруг посмотрел на свои руки и сказал: – Трубку потерял.
– Что ты, с ума сошёл, какая теперь трубка! – и Львов, пригибаясь, бросился бежать.
– Нет, трубка должна жить, – проговорил Валентин и крикнул Львову: – Ты её отдашь моему приятелю Митеньке Воейкову, он любит вспоминать прошлое.
И Валентин стал искать трубку в траве.
В ту же самую секунду раздался оглушающий удар, как будто раскололась и ахнула вся земля. Львов почувствовал, как дохнуло на него горячим порывом ветра и отбросило далеко на землю.
Когда он оглянулся в сторону взрыва, то на том месте, где стоял Валентин, ничего не было.
И только солдат-артиллерист нашёл потом трубку, опалённую белым налётом.
– Он нарочно там стоял, – сказал командир. – Что за странный человек!
Войска, перешедшие через реку, закрепились на том берегу, и видно было, как они, вставая с земли, начинали перебегать вперёд, стреляя на бегу, а солдаты в синих шинелях повернули назад и бежали в гору. Наша батарея замолчала.
– Что такое? – крикнул командир.
– Ваше благородие, снарядов больше нет, – ответил бородатый артиллерист.
– Сволочи! Голыми руками заставляют брать!
LXII
Преследование австро-германских войск во второй половине октября после ивангородской операции, как сказано, задержалось благодаря разрушенным противником железным дорогам и мостам.
Войска были обессилены.
Но ставка выбрала этот момент для перехода русских армий в общее наступление.
Французское командование в своих интересах толкало русскую ставку на более глубокое вторжение в Германию, в поход на Берлин.
Это отвечало также империалистическим стремлениям царского правительства, которое боялось внутренних осложнений в случае затяжной войны и желало захватить инициативу в свои руки.
Гинденбург же собрал три группы войск широким фронтом от Карпат до Восточной Пруссии, чтобы предупредить это наступление. Причем главный удар он решил нанести Девятой армией Макензена в правый фланг русского наступления.
19 октября началось контрнаступление армии Макензена в составе пяти с половиной корпусов и шести кавалерийских дивизий. Но Макензен двинул в дело свои корпуса, когда остальные части, например, Бреславльский корпус, ещё не заняли назначенных им мест. Этот скороспелый шаг значительно усложнил операцию, так как русские, как немцы на Марне, почувствовали план противника и успели приготовиться. Главная масса германских войск, подойдя к Кутно, встретила вместо одного Пятого сибирского – два с половиной корпуса.
5 ноября верховный главнокомандующий послал командующему северо-западным фронтом Рузскому телеграмму:
«Передайте от моего имени всем командующим армиями и через них остальным начальникам, что я считаю наше стратегическое положение хорошим. Наступил час, когда все до единого должны напрячь свои силы, дабы наш переход в общее наступление увенчался успехом».
Но германцы после сражения у Кутно прорвались между Первой и Второй армиями и хлынули, широкой волной на Стрыков, Брезины и Тушин, обходя правый фланг наших войск и заходя им в тыл.
Ставка предполагала, что немецкие войска, прорвав фронт; окажутся в мешке.
Это было так соблазнительно легко, что общество, всколыхнувшееся было против реакционной политики власти, поколебавшись некоторое время, решило ждать.
В Варшаве было уже заготовлено шестьдесят поездов под пленных. Но дело повернулось иначе: благодаря прорыву связь между командующим фронтом и Второй и Пятой армиями была прервана. Эти армии понесли до семидесяти процентов потерь; попытка наступления Шестого корпуса, на который возлагали большие надежды, не удалась, а Пятый сибирский корпус, понёсший огромные потери, оставшийся без оружия и без снарядов, оказался вовсе негодным к наступлению.
Спешно сформированный ловичский отряд, которому главное командование предназначало почётную роль – затянуть мешок у Брезины – Тушин, где прорвались немцы, – был смят и рассеян, так как Пятый корпус, который должен был подойти к нему на помощь, сам был разбит и обескровлен.
10 ноября начальник штаба верховного главнокомандующего Янушкевич, крайне встревоженный создавшимся положением, по прямому поводу говорил с Рузским:
– Я удивлён. Я предполагал, что наступление отряда привело к успешному результату, предполагал, что части Пятой армии, в частности, Пятый корпус, освободились и могут поддержать Девятнадцатый и Второй сибирский корпуса. Тогда, при условии развязки у Брезины – Тушин, было бы всё сомкнуто.
В результате боёв Двадцать пятый запасный немецкий корпус, Третья гвардейская дивизия и кавалерийский корпус Рихтгофена, окружённые русскими, прорвались на север, отбросив слабую Шестую дивизию, и вновь обратились фронтом против русских.
В средних числах ноября с французского фронта германцы перебросили четыре корпуса подкреплений и постепенно оттеснили русских за Раву и Бзуру.
LXIII
В числе корпусов, переброшенных с юга на север, был и полк, в котором находился Черняк со своим юным другом Савушкой.
Полк неожиданно в конце октября остановился в польском местечке, где простоял три дня.
Каждый день приходили тревожные вести. Говорили, что под Лодзью неблагополучно, раненых везут из-за Варшавы целыми поездами и что все силы бросают на Лодзь.
Все напряжённо ждали получения приказа о выступлении.
На зелёной площадке местечка, перед низким домом ксёндза, с балясником и сиренью, где поместились офицеры, на столбе был укреплен пулемёт с притоптанной вокруг него землёй. Под вечер донеслось знакомое жужжание, офицеры выбежали из дома и жадно смотрели в небо.
Они видели блестевшие в вышине крылья. Молоденький прапорщик, припав к пулемёту и прищурив глаз, сделал несколько выстрелов.
Слышались нетерпеливые, взволнованные и, наконец, разочарованные восклицания, когда аэроплан, сделав круг-другой над местечком, повернул на запад и скоро скрылся в набегающих на него лёгким туманом облачках.
Ночью полк получил приказ на рассвете выступать.
Офицеры пошли к командиру сверить часы.
По всему местечку были видны суетившиеся фигуры солдат. Одни наскоро из кружки умывались у колодца, другие бежали за забытыми вещами в избы, третьи уже на улице натягивали шинели, застёгивались и спешно строились посередине улицы, покрытой инеем утренника.
Не слышно было разговоров, солдаты или со сна, или от тревожного чувства как бы избегали обращаться друг к другу. Только изредка вырывались сердитые восклицания ещё не отошедших от сна людей:
– Что ты, чёрт, тыкаешься, как слепой! растерялся, – говорил пожилой солдат другому, который искал свою шапку, упавшую и куда-то закатившуюся между ногами солдат.
– Стройся! – молодецки, нараспев прокричал голос одного фельдфебеля, потом другого, подготовлявших части к выходу офицеров.
И когда, застёгивая на ходу шинели, показались офицеры, по всему местечку точно эхо, повторяя один другого, раздалась многоголосая команда:
– Смирр-но!
Лёгкий мороз кусал щёки и уши. Иней на короткой травке у дороги сухо осыпался под ногами. Небо было чисто и ясно.
Около дома командира солдат держал в поводу двух осёдланных лошадей и иногда сердито дёргал за повод одну, которая, отставив переднюю ногу, чесала её зубами.
Первый батальон уже выстроился. Послышалась новая команда: «Смирно!», отданная более громкими и поспешными голосами ротных командиров, как бывает, когда появляется ожидаемое высшее начальство. На крыльце дома показалась рослая фигура командира полка в шинели, туго подтянутой по толстому животу ремнём.
Командир, ещё не сходя со ступенек, обвёл глазами замершие ряды солдат. Потом взглянул себе под ноги, сошёл со ступенек и поздоровался с полком.
В это время из-за дальнего, желтевшего на горизонте леса выглянуло солнце.
Части Первого батальона, заворачивая правым плечом, строились отделениями, и через пять минут батальон выходил из местечка.
Савушка, в шинели, туго стянутой ремнём, шёл стороной дороги рядом со своей ротой. Ему не хотелось ни с кем говорить, чтобы не выдать охватившего его волнения.
Но к нему никто и не обращался. Лица солдат и офицеров были серьёзны, сосредоточенно молчаливы.
Даже Черняк ни разу не обратился к нему, а шёл так же, как и он, впереди, стороной дороги.
А на ночёвках, когда засыпали, Савушке казалось, что он слышит смутный гул и даже отчётливые удары орудий. Он тревожно поднимал голову, напряженно прислушивался. Ничего не было слышно, только храпели лошади.
Но иногда слух действительно ловил неясные гулы, и каждый, не поворачивая головы, искоса поглядывал на своего соседа.
Все напряжённо смотрели вперёд, как будто там должно было начаться что-то особенное. И каждый мысленно отмечал себе черту впереди, за которой должно было н а ч а т ь с я. Но проходили и эту черту, и за ней оказывалось такое же ровное поле с полосами лесов на горизонте.
Один раз на походе Савушка подошёл к Черняку и сказал:
– Вот я всё работал над своим характером, а теперь даже странно об этом, когда, может быть, завтра меня убьют.
– Здоровому человеку нормально не думать о смерти, – сказал Черняк. – Если же ты думаешь о смерти, значит, у тебя не в порядке желудок или тебе нужно полечиться дэшами от преждевременно одряхлевших нервов.
– И полечишься, а всё равно убьют, и от меня, от моей жизни, от всех моих усилий ничего не останется.
Черняк пожал плечами.
– А у тебя? – спросил Савушка.
– Что у меня?
– Ведь у тебя есть чувство тревоги за свою жизнь? За значительность этой жизни? Ответственность перед самим собой.
– Очевидно, у нас с тобой различная природа мышления. У меня, или вернее передо мной, – большая карта, на которой развиваются события, идущие в согласии с моей целью.
– Что?… События эти в согласии с твоей целью?!
– Ну да, – ответил Черняк, опять пожав плечами. – Мысль без организации ничего не стоит. Всё дело в организованных массах. Мы только должны своевременно перевести их сознание и волю на другие рельсы.
– Не люблю этого слова м а с с ы, – сказал Савушка, поморщившись. – В нём что-то оскорбительное, похожее на стадо.
– Любишь ты или не любишь, они от этого существовать не перестанут. А вот мы с тобой наверное перестанем существовать… у меня просьба к тебе. Я не знаю, кто из нас вернётся о т т у д а, поэтому я дам тебе письмо для одной женщины, моей жены, в котором я написал то, что мне стыдно было бы написать, если бы я остался жив. Ты передашь его только в том случае, если наверное узнаешь, что меня… Понимаешь?
– Хорошо, – сказал Савушка.
Черняк достал из внутреннего кармана запечатанный конверт и передал его Савушке.
Приближался вечер. Полковник ехал на своей рыжей лошади, рассеянно подёргивая поводья, изредка вынимал мундштук в серебряной оправе и, продув его с обратного конца, закуривал толстую папиросу.
Полк в этот день без дневки прошёл сорок вёрст. Солдаты, шедшие в хвосте колонны, расстраивали ряды и, прихрамывая, бежали догонять свою часть. Подпрыгнув на ходу, попадали в ногу и занимали своё место в рядах.
Впереди виднелся лес, в который уходила дорога. Вдруг где-то далеко уже ясно, один за другим, послышались два тяжёлых удара. Солдаты, не убавляя шага, шли.
– Далеко, – сказал кто-то в рядах.
– Наши это или е г о?
– Подойди поближе да спроси.
Савушка чувствовал и страх и какое-то возбуждённое любопытство от этих звуков. Он невольно оглянулся кругом. На горизонте виднелась крыша костёла над деревней. На небе стояли неподвижно лёгкие перистые облачка.
Голова колонны вошла в лес и, перестроившись, растянулась по узкой дороге. Солдатские шаги и голоса сильнее раздавались в звонком лесу. Повозка попала в грязную колдобину и со скрежетом осей выбиралась из неё. Послышался окрик ездового на замявшуюся перед глубокой рытвиной лошадь.
Неожиданно все остановились. Задние надвинулись на передних.
– Что такое? Что там? – послышались со всех сторон тревожные вопросы.
Мимо, от головы батальона к хвосту, где ехал командир, проскакали конные дозоры. Все – солдаты и офицеры, – повернув головы в ту сторону, напряженно ждали, почувствовав, что случилось что-то, что должно было прервать спокойное движение батальона. И только лошади, как бы независимо от охватившего людей волнения, пользуясь остановкой, мотали головами однообразно вверх и вниз или чесали вспотевшие шеи о дышло военной повозки.
Мимо стоявших рядов, стороной дороги спешной рысью проехал вперёд полковник, пригибаясь и отводя руками нависшие над дорогой ветки. Сзади за ним спешил адъютант, лошадь которого припадала на заднюю ногу.
Около покинутой избушки лесника полковник остановился. Покраснев от усилия, тяжело прыгнул с седла на затёкшие, усталые ноги. Солдаты смотрели то на него, то прислушивались к дальним, всё учащающимся ударам. К ним примешивалась чуть слышная мелкая трескотня.
Полковник оглянулся, как бы ища кого-то, подозвал к себе ближайшего прапорщика, который вытянулся перед ним в оттопырившейся сзади новой шинели, неловко приложив руку к козырьку.
Полковник отдал какое-то распоряжение. Прапорщик, повернувшись налево кругом, ещё не отнимая руки от козырька, отошёл и с растерянным видом, отобрав человек сорок солдат, повёл их к светлевшему впереди краю леса.
Савушка с бьющимся сердцем оглянулся на лица солдат и по их выражению увидел, что сейчас н а ч н ё т с я…
Видно было, как посланный вперёд прапорщик не знал, что ему делать, и был смущён тем, что ему первому на глазах у всего полка приходится что-то начинать. И он, очевидно, боялся не столько опасности, сколько этих сотен глаз, устремлённых на него с напряжённым ожиданием.
Минут через пятнадцать посланные вернулись. Прапорщик, опять подняв дрожавшую руку к козырьку и вытянувшись, как только мог, перед полковником, доложил:
– Ваше высокородие, господин полковник, позвольте доложить, что впереди обнаружен противник.
Толстая шея полковника покраснела. Он некоторое время молчал, только глаза его бегали по вытянувшейся перед ним фигуре прапорщика. Потом, покраснев ещё больше, он крикнул:
– Это мы и без вас знаем, г о с п о д и н п р а п о р щ и к. Извольте идти опять и войдите в соприкосновение с противником.
Подтягивавшаяся колонна войск растекалась вдоль опушки. Солдаты, держа снятые ружья в одной руке, другой раздвигали кусты орешника или загораживали локтем лицо от хлеставших веток.
Вдруг на правом фланге колонны, продвинувшейся к самой опушке, произошло движение. Все увидели скакавшего по направлению к лесу всадника. В надвинувшихся сумерках обозначился силуэт военного в непривычной, чуждой русскому глазу форме, с заострённой шапкой, похожей на каску пожарного.
Стоявший впереди офицер с биноклем оглянулся на солдат и, сделав таинственный знак, отошёл в глубину леса за деревья.
Всадник въехал в лес, и сразу несколько человек, выскочив из-за деревьев, окружили его. А один маленький, низкорослый солдат почти повис на удилах шарахнувшейся и храпевшей лошади.
Это был немецкий солдат, возвращавшийся к своим, которые, по-видимому, перед этим занимали лес.
Солдат был рослый, со светло-русыми волосами и белыми ресницами. На щеке была брызга грязи. Немец не столько был напуган, сколько сконфужен своей ошибкой. Он растерянно оглядывался и утирал забрызганную щёку рукавом своей сине-серой шинели.
– Попал, брат? – говорил высокий русский солдат с чёрными фельдфебельскими усами, поощрительно подмигнув пленному.
Тот сконфуженно улыбался, и лица окружавших его солдат тоже вдруг заулыбались, как будто они не ожидали, что немец такой же человек и может улыбаться так же, как и они.
Со всех сторон послышались голоса:
– Глянь, я ему говорю, а он смеётся.
– А ты что думал?…
Подъезжали ещё солдаты и как будто всеми силами старались показать пленному, что они не только ничего не имеют против него, но даже рады показать, как они душевно к нему относятся.
Немец, всё ещё продолжавший смущенно вытирать щёку, вдруг совсем смело и открыто улыбнулся и, достав портсигар, протянул его ближе стоявшим. Руки солдат потянулись к портсигару.
Офицер, отошедший к опушке писать реляцию о пленном, вернувшись, услышал приятельский смех и дружественный разговор, подкрепляемый усиленной жестикуляцией рук.
– Вы что, обалдели, что ли?! – крикнул офицер, поправляя на ходу движением плеч ремень шашки. – Ведь это враг, а вы уж в приятели к нему записались?
Солдаты смущённо замолчали, взглядывая на немца, как бы извиняясь перед ним за невежливость начальства.
Пленного под конвоем одного солдата с ружьём отправили в штаб, и все стали расходиться с видимым сожалением о прерванной беседе.
– Чудно! – сказал кто-то. – Человек и человек…
– На нашего старосту похож, – прибавил другой.
Послышалась команда. Солдаты, путаясь в кустах, стали подаваться налево и, выбегая из леса в сторону деревни, не знали, что делать. А издали навстречу чуть слышно хлопали выстрелы, от которых было совсем не страшно.
Савушка, заткнув полы шинели за пояс, чтобы не наступать на них, когда приходилось нагибаться, бежал впереди своей роты. Шашку он бросил, и в руках у него была непривычно тяжёлая винтовка.
Где-то сзади работала артиллерия. Вдруг черепичная крыша крайнего дома в деревне разорвалась целым фонтаном огня, обломков и искр. Между домов тревожно забегали немецкие солдаты.
Сзади Савушки закричали и стали обгонять его стрелявшие солдаты.
Весь воздух над головой был наполнен возникающими и быстро исчезающими певучими звуками, похожими на звуки тонкого прута, когда им быстро взмахнут над головой.
Впереди Савушки, взмахнув обеими руками и выпустив ружьё, навзничь упал высокий солдат, только что разговаривавший с пленным. Савушка, не чувствуя страха и с одной только мыслью успеть добежать до деревни, обежал его. Упало ещё несколько солдат.
Остальные, остановившись и припав к земле, начинали окапываться. Савушка тоже лёг.
Далеко направо, разливаясь как вода в половодье, бежали и ложились всё новые и новые люди. (По-видимому, подошло значительное подкрепление.)
В одной стороне начиналась, всё нарастая, волна человеческих криков, перекатывалась на другую и, ширясь, росла. Савушка до начала сражения чувствовал себя неловко при мысли о том, что вот его и солдат пригнали как стадо баранов и они должны будут по команде бежать, кричать, стрелять. Теперь же он лежал на земле, выкрикивая слова команды, перебегал, стрелял, лихорадочно отодвигая и задвигая затвор. Его охватывала дикая злоба, и хотелось скорее добежать до деревни и переколотить тех, кто стрелял оттуда в него.
Он не замечал времени. Небо уже начинало бледнеть. Выстрелы со стороны деревни вдруг прекратились и только, ещё более учащаясь, доносились издалека справа, и оттуда же слышалась удаляющаяся волна криков.
Солдаты уже вбегали в деревню. В пасмурном свете утра догорал пожар, застеливший всю улицу белым дымом. Посредине улицы и в свежевыкопанной канаве окопа валялись люди в серо-синих шинелях. Один, как будто спрятавшись, сидел за наваленными брёвнами, около него на траве валялось ружьё. Когда его тронули, солдат медленно повалился боком на траву. Глаза его были открыты, а под глазом виднелась маленькая, почти бескровная дырка.







