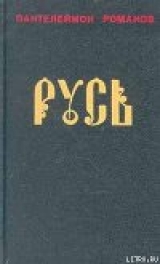
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 46 страниц)
V
Но здесь случилось нечто до такой степени странное, что у Владимира всё спуталось в голове.
Валентин сказал:
– Ты любишь настоящих русских людей. Пойдём, я сведу тебя к одному человеку. Зовут его Фёдором Ивановичем Дурновым. Он питает пристрастие к церковному пению и благоговеет перед национальными талантами и выдающимися людьми. А сам занимается какими-то торговыми делами.
– Значит, свой брат, – сказал Владимир. – Идём.
Едва они отошли на несколько шагов от табачного киоска, как сзади раздался окликнувший кого-то неуверенный голос:
– Андрей Шульц?…
Валентин быстро обернулся.
– Черняк?… – сказал он и остановился.
Сзади них шёл человек в пиджаке, с перекинутым на руку пальто и в очках, из-за которых пристально смотрели чуть прищуренные глаза. Снятую для прохлады шляпу он держал в руке.
Валентин ждал, когда незнакомец подойдёт к нему. А Владимир, поражённый тем, что у Валентина оказалось какое-то другое имя, прошёл несколько вперёд.
Валентин, против обыкновения, не познакомил его с этим неизвестным человеком.
До Владимира донеслось несколько фраз из их разговора:
– Ты что же, ликвидировался окончательно? После нашего петербургского разговора остаёшься на своей позиции?
– Да, очевидно, я на такие роли не гожусь.
– Я давно это думал, – отозвался иронически незнакомец. – Некоторые объясняли это тем, что теперь небезопасно стало работать, – прибавил он, осторожно оглянувшись по сторонам.
Валентин спокойно смотрел на своего собеседника, не думая, очевидно, возмущаться и протестовать против оскорбительных предположений.
– Но я-то думаю, что для тебя это не могло бы служить препятствием, ты не из робких, – прибавил Черняк.
– Дело в том, что я верю в бессмертие души и в загробную жизнь, – сказал Валентин.
Черняк покраснел, как краснеет человек, когда ему на серьёзный вопрос отвечают глумлением.
Он, прищурившись, посмотрел на Валентина через очки.
– Мне кажется, этот юмор здесь мало уместен… – сказал он.
– Ну, какой же юмор. В бессмертие души многие верят, – отвечал Валентин.
– Ну, как знаешь. Одним словом – до свидания.
– Всяческих благ.
Незнакомец ушёл, а Валентин с Владимиром пошли дальше. Владимир шёл несколько времени молча, потом спросил:
– Как он назвал тебя? Почему это так?
– Просто фантазия пришла человеку. Ты только не удивляйся этому слишком и не вздумай удивлять других, а лучше держи это покрепче при себе.
VI
Дом Фёдора Ивановича, к которому Валентин повёл Владимира, стоял на Пречистенке, во дворе. Это был двухэтажный деревянный особняк, с маленькими окошечками, какие бывают только в провинции – летом все уставленные цветущей геранью, зимой – густо запушённые морозными узорами.
Наверх вела крутая деревянная лестница.
– Вот где живёт Фёдор Иванович, – сказал Валентин. – Дом, как видишь, неказист, но сюда заглядывали и Москвин, и художник Коровин, и сам Шаляпин. Тут такие бывают пельмени, каких нигде не найдёшь.
Когда они поднялись по лестнице, Валентин уверенно дёрнул за ручку обитой клеёнкой двери, как будто знал, что она отперта. Дверь действительно оказалась отперта.
– Не рано? – громко спросил Валентин, войдя в тесную переднюю с вешалками и сундуком, и, по своей привычке пригнув голову, посмотрел в раскрытую дверь, ведущую в комнаты.
– В самый раз! – сейчас же отозвался низкий густой голос, переходящий в октаву, и на пороге показался человек – приземистый, широкий, с круглым лицом и двойным подбородком. Он был одёт в чёрный пиджак с отложным воротничком, открывавшим короткую апоплексическую шею.
Это и был сам хозяин. Он стоял в дверях, гостеприимно потирая руки, и ждал, когда гости разденутся.
– Только что за стол сели. Проводили друзей на войну, теперь, так сказать, помянуть их надо.
– Ты любишь всяких знаменитостей, так вот я привёл к тебе знаменитость, нечто вроде Минина и Пожарского: человек жертвует на войну, как верный сын родины, всё своё огромное состояние.
Фёдор Иванович, наклонив несколько набок голову, слушал, с почтительным удивлением взглядывая на Владимира, руку которого он уже держал в своей мягкой широкой руке.
Владимир, красный как рак, укоризненно взглядывал на Валентина, но, помня его предупреждения относительно слабости хозяина к выдающимся людям, не отрекался от приписываемого ему геройства.
– С таким народом да не победить! – сказал Фёдор Иванович и, тихонько обняв Владимира за талию, точно он был хрустальный, ввёл его, как особо почётного гостя, в столовую.
В тесной столовой с низкими потолками и тяжёлой мебелью за большим столом сидело много народа – актёров и художников, а также соборный регент, молчаливый человек с необыкновенно густыми бровями.
Обед только что начался, и первую рюмку хозяин предложил выпить за народного героя Николая Николаевича, только что назначенного верховным главнокомандующим.
Все, переглядываясь и улыбаясь, с полной готовностью исполнили желание хозяина.
Только один мрачный художник в чёрной блузе, с галстуком в виде банта, недовольно проворчал:
– Этот народный герой в девятьсот пятом году нас нагайками драл…
Все сделали вид, что не слышали его замечания.
Разговор, как и следовало ожидать, зашёл о войне. Говорили о том, что войну нужно приветствовать, а то русский человек зажирел и обленился. Тем более что она продлится не более двух месяцев, так как немцы, окружённые со всех сторон, сваляли порядочного дурака, сунувшись в эту авантюру.
Вспоминали отсутствующих, отправившихся на поле брани друзей и приятелей, пили за них, пили по предложению хозяина за Владимира, национального героя, «современного Минина и Пожарского», представителя славного русского купечества, который пожертвовал на алтарь отечества всё своё состояние.
Владимир, в своей франтоватой купеческой поддёвке со сборками на талии и с расчёсанными на пробор кудрями, только оглядывался кругом и на Валентина за помощью. Но Валентин со своей серьёзностью, соответствующей случаю, поднимал вместе со всеми за здоровье героя свой стакан.
– Русь, матушка, поднялась, – сказал Фёдор Иванович. – Призыв, прозвучавший с высоты престола…
– К чёрту престол! – сказал опять угрюмый художник, очень быстро запьяневший.
– Вася, неудобно… такой торжественный момент…
– Все равно, к чёрту!
– Ну, будь по-твоему, – сказал Фёдор Иванович, подмигнув гостям в знак того, что не стоит противоречить выпившему человеку.
Фёдор Иванович отличался редким добродушием и к людям подходил, как он говорил, «по душе, а не по убеждениям». Он со всеми был одинаково хорош: дружил с местным приставом, прятал у себя революционеров и их литературу, чем очень гордился.
Вошёл ещё гость. Он был в светло-сером костюме, с нервным бледным лицом, окружённым полоской бороды, как у норвежских моряков.
– А, Глебушка, садись, садись! – крикнул хозяин и, несмотря на свою толщину и одышку, быстро сбегал в соседнюю комнату и принёс стул.
Пришедший сел за стол. Он почти ничего не ел и много пил, ни на кого не глядя, как человек, переживающий какую-то внутреннюю драму. Потом вдруг увидел напротив себя Валентина. Сейчас же вскочил со своего места и пересел к нему.
– Ты нужен мне сейчас, как никто, – сказал он Валентину.
Тот едва заметно поморщился.
– По обыкновению горишь и не сгораешь? – сказал Валентин.
– Не иронизируй, Валентин, только с тобой я и могу говорить. А сейчас мне это очень нужно.
– Место не совсем удобное, – сказал Валентин и кивком головы указал на стол.
За столом уже всё перепуталось. Бесконечный строй пустых бутылок показывал, что великие события были встречены неплохо. Регент молча выпивал рюмку и, поставив её, моргая, каждый раз долго смотрел на неё. На другом конце стола шёл горячий спор. Но понять, о чём спорили, было уже невозможно.
Через некоторое время Валентин, подойдя к окну, раздвинул штору, и все с немалым удивлением заметили, что уже брезжит рассвет. Когда же синева рассвета стала окрашиваться в нежно-румяный цвет утренней зари, Валентин сказал, что сейчас необходимо посмотреть при восходе солнца на Ивана Великого.
– Он от тебя виден? – обратился Валентин к хозяину.
– От ворот хорошо виден.
– Тогда, не теряя ни минуты, идёмте.
Придерживаясь друг за друга, они ссыпались с крыльца и направились к воротам.
Сонный сторож испуганно смотрел на это шествие, даже протёр глаза и оглянулся по сторонам, как бы проверяя себя. К нему подошёл, чтобы сменить его, дворник.
– Ну, немцы, теперь держись, – сказал он, кивнув в сторону ковылявшей к воротам процессии, и начал мести двор.
Был тот тихий рассветный час, когда улицы Москвы ещё пусты и безмолвны, только кое-где на мостовой виднеется дворник, подметающий улицу, да дремлет на углу извозчик в старом лакированном цилиндре.
Путники, продолжавшие передвигаться гуськом, достигли наконец ворот. Руководимые Валентином, долго искали глазами колокольню Ивана Великого и показывали друг другу в разные стороны пальцами.
– Надо отслужить молебен, – сказал кто-то.
И, ввиду грозного для отечества момента, запели «Спаси, господи, люди твоя» под управлением регента с густыми бровями, причём каждый дул во что горазд, не обращая внимания на других.
Пьяный прохожий, с величайшим трудом перебиравшийся от одного фонарного столба к другому, долго стоял перед компанией, икая и покачиваясь взад и вперёд на подгибавшихся ногах, потом повернулся лицом тоже в сторону Ивана Великого и неслушающейся рукой стал креститься и кланяться.
VII
Расходиться стали, когда уже было совсем утро. Фёдор Иванович оставил Владимира у себя, так как тот после молебна едва доплёлся до дома.
Валентин по обыкновению был совершенно трезв.
С ним вместе вышел человек, похожий на норвежца, – Глеб, оказавшийся его товарищем по университету. Он, в шляпе, с перекинутым на руку пальто, шёл рядом с Валентином и потирал рукой лоб.
– У меня плохо, Валентин, – сказал он наконец.
– Нездоров, что ли?
– Это нездоровье другого порядка. Какой-то червяк сидит у меня в сердце, сосёт и не даёт покоя. Моя мысль облазила все щели, высосала все достижения человеческого мозга. Но всё это, так сказать, теория, а на практике я живу самой пустой жизнью, служу в городской думе и презираю всё, что делаю. Я устал и потерял веру в себя… Тебе всё равно, куда идти? Пойдём ко мне. Мне столько нужно тебе сказать.
– Пойдём, – согласился Валентин.
– Спасибо… Самое ужасное – это то, что нет ни одной мысли, так сказать, священной для меня, такой, за которую я мог бы отдать жизнь… Одно время я даже думал покончить со всем этим, то есть с собой, – сказал Глеб и замолчал.
– И вот теперь я встретил одну девушку, которая полюбила во мне это страдание моё. Нужно было отойти с самого начала… Но воля слаба… Я поддался искушению. Но тут опять сложность! – сказал Глеб, болезненно закусив губы, – так как она – сестра жены моей Анны. Конечно, для меня общественная мораль – чепуха, но я должен думать и о ней… И я, сознавая, что мораль – чушь и ерунда, во имя долга ставлю крест на своём чувстве и уезжаю на фронт. Вчера я объяснился с ней. Видишь, я презираю общественное мнение, а в то же время делаю благородный шаг и бегу от неё. Для чего?
– Не знаю, – сказал Валентин.
– Я тоже не знаю.
– Я летом встречал её, Ирину, – сказал Валентин. – Только ведь ты обманешь её.
– Я честный человек, Валентин! – горячо воскликнул Глеб.
– Потому и обманешь, что честный.
– Но ведь я отказываюсь от неё и уезжаю!
– Можно передумать и поехать с нею вместе.
– Бог знает, что ты говоришь, – сказал Глеб.
Они подошли к дому.
Глеб отпер дверь и, грозясь на Валентина, чтобы он не стучал, стал на цыпочках подниматься по широкой деревянной лестнице на второй этаж.
Они прошли в кабинет, где было полутемно от завешенных штор. Глеб раздвинул шторы, распахнул окно, и в комнату хлынул розовый утренний свет вместе с громким чириканьем воробьёв.
Весь кабинет до потолка был уставлен книжными полками и шкафами.
– Вот сколько книг! – сказал Глеб, указав на полки, – вся человеческая мудрость здесь.
Глеб посбросал прямо на пол с кресел книги и газеты, в одно сел сам, а на другое указал Валентину.
Он с минуту сидел и поглаживал задумчиво свои тонкие, нерабочие руки.
– Откуда у меня такая ненависть ко всякой устроенной и оседлой жизни? – сказал он наконец с недоумением. – Я не могу ни одного вечера побыть спокойно дома. Может быть, моё призвание действительно в том, чтобы бросить всё это, уйти куда-нибудь и отдаться суровой жизни? Тогда я, по крайней мере, не мучил бы своих близких… – Он вдруг весь сморщился. – Э, чёрт, не умею покупать! Уже вторые башмаки жмут.
Глеб стал снимать ботинки, запыхался и бросил.
– Тихон, Тихон! – закричал он вдруг так громко, что совершенно было непонятно, почему он с такой осторожностью шёл по лестнице.
В дверях показался заспанный слуга, с лысиной и седыми бакенбардами, в накинутом сером сюртуке.
Глеб, сидя в мягком глубоком кресле, досадливым жестом показал на свои ноги.
Тихон, встав на колени, начал расстёгивать пуговицы башмаков.
– Вина принеси.
И, когда Тихон ушёл, Глеб продолжал:
– И вот опять двоится: моё сознание переросло войну, политику я презираю, всякое убийство ненавижу, но я рад войне (одному тебе только могу это сказать), может быть, она как-то обновит жизнь, – сказал он, оглянувшись на входившего в кабинет Тихона с вином, и, вдруг сморщившись, крикнул: – Зелёные, зелёные! Сколько раз говорил, что к белому вину нужно зелёные фужеры подавать! И потом туфли. Видишь, я сижу в одних носках.
Глеб разлил вино в принесённые Тихоном зелёные фужеры, внимательно посмотрел на марку и, поджав губы, покачал головой, потом с сомнением попробовал.
– Впрочем, кажется, ничего. Ну, давай выпьем. Когда пьёшь, о многом забываешь… Но самое большое проклятие, Валентин, это бессилие чувства. Иногда кажется, что желаешь чего-нибудь со всей страстью, с исступлением, пока у тебя нет этого. А как только оно у тебя в руках, так всё улетает, ничего не чувствуешь! И стоишь с холодным недоумением и скукой…
Глеб мрачно задумался, потом сказал:
– Ни один человек не интересовал меня так, как ты. У тебя сознание никогда, очевидно, не двоится. Я давно слежу за тобой. Ещё в университете ты был для меня загадкой. Я никогда не мог понять, в ч ё м ты серьёзен? В чём ты н а с т о я щ и й?
Валентин, держа стакан в руке, рассматривал его на свет, чуть прищурив глаз, и ничего не говорил.
– Я хотел бы когда-нибудь посмотреть, каков ты наедине с самим собой. Ведь в жизни ты всё время валяешь дурака, вроде этого молебна с пьяными. Неужели ты так презираешь людей, что не снисходишь до серьёзных с ними отношений… Правильно я тебя разгадал?
– Как ты это сказал, – перебил Валентин Глеба, не ответив на его вопрос: – Желаешь иногда чего-нибудь со всей страстью, пока его у тебя нет, а как только оно в руках, так всё исчезает, ничего не чувствуешь и стоишь с холодным недоумением и скукой? Так ты сказал?
– Да… У тебя хорошая память. А что?
– Просто так.
Глеб сжал пальцами виски, как будто потеряв мысль, потом продолжал:
– В тебе есть дьявольский цинизм. Бог и дьявол для тебя как будто равноценные величины. Ты знаешь, что всё исчезнет, как и ты сам, поэтому ничего не принимаешь всерьёз. Но не маска ли это?
Глеб говорил это в крайнем возбуждении. Он останавливался, несколько раз начинал закуривать трубку, но, так и не закурив, продолжал:
– Ты прикидываешься славным малым, но не носишь ли ты в себе ужас самых последних вопросов, вопросов бога и смерти? Ведь с твоим умом нельзя не думать об этих вопросах, а если о них думаешь, то нельзя оставаться спокойным. Ты же всегда спокоен… Я-то не верю в это спокойствие. И часто думаю о тебе, не ищешь ли ты упорно серьёзного, священного, такого, перед чем даже ты мог бы остановиться и воскликнуть: «Благодарю тебя, жизнь, за то, что показала мне нечто такое, перед чем я могу наконец преклониться, теперь я могу ж и т ь!» Что, я, кажется, заглянул у тебя в такой уголок, куда ещё никто не заглядывал?
– А ведь ты плохо кончишь, – вместо ответа сказал Валентин, – ты плохо кончишь, – повторил он ещё раз, – и девочке этой плохо от тебя будет.
– Я не знаю, чем я кончу, – возбуждённо возразил Глеб.
– Да я-то знаю… Ну, прощай пока, я пошёл.
VIII
Города, земства организовались для широкой помощи власти в деле войны. Частные лица, дамы из общества – все проявляли необычайный патриотический подъём.
А в то же время нужно было хлопотать об отсрочках, заранее стараться поступить самим или устроить близких людей на должности, освобождающие от военной службы, или добиваться зачисления в штабы и на тыловую службу.
Для этого нужно было использовать все знакомства, все связи с людьми, от которых это зависело. И эти влиятельные знакомые, бывшие ещё вчера такими милыми, сегодня, осаждаемые толпами матерей, молодых жён, стали сухи, официальны и неприступны. И приходилось делать вид, что это естественно и неоскорбительно – унижаться и просить, перехватывать этих влиятельных людей в коридорах по пути в кабинет или просто при входе в учреждение.
Приходилось чувствовать оскорбительную зависимость от людей, вчера ещё ничтожных, о которых никогда не думали, что от них будет зависеть судьба сына или мужа.
Вчера ещё чопорные, люди высшего общества – пожилые и молодые дамы – часами простаивали в коридорах учреждений, чтобы поймать этих ничтожных людей.
И от непривычки обращаться с ними и от опасности положения тон у всех этих дам против их воли становился робким, приниженным, нелепо заискивающим. Но ради близких приходилось идти на это.
Хорошо было тем, кто за услугу мог отплатить услугой, то есть кто за освобождение от призыва мог повысить в чине лицо, оказавшее эту услугу. Но огромному большинству приходилось расточать унижения и многообещающие улыбки или просто хвостом ходить за лицом, от которого всё зависело.
И невольно, в связи с отсрочками и освобождением от воинской повинности, образовалась такая масса дел, что появилась необходимость организовать специальные учреждения.
Различные управления и учреждения – казённые и частные – просили о зачислении их в разряд работающих на оборону, чтобы иметь возможность давать служащим отсрочки. Это было необходимо ввиду того, что служащие, которым служба не давала гарантии от призыва, как крысы с тонущего корабля, заранее кидались искать те учреждения, где была надежда на отсрочки, и поступали туда.
А учреждения, которые по характеру своей работы не могли попасть в разряд работающих на оборону, просили, чтобы им давали возможность получить отсрочки для н е з а м е н и м ы х работников.
Все те, кто не хотел идти на фронт, были похожи друг на друга по своим побудительным причинам: им не хотелось умирать как раз в тот момент, когда они только что выбились на дорогу, не хотелось оставлять хорошего, с трудом добытого места, молодую жену или только что родившегося сына.
Из этого вовсе не следовало, что они не любили своей родины или были безразличны к её судьбе. Они любили её. Но каждый рассчитывал, что, если он один не пойдёт, от этого боеспособность армии нисколько не уменьшится.
Те, кто шёл на войну, распадались на несколько групп.
Первая группа – кадровые офицеры, в особенности привилегированные, на войну смотрели, как засидевшиеся в школе ученики смотрят на загородную прогулку. Им война могла дать возможность интересной жизни, власти, наград и приключений.
Вторая группа, огромнейшая по своей численности, – это те, которые шли потому, что их посылали и не идти всё равно было нельзя. Сюда входили миллионы крестьян и рабочих, а также всяких непривилегированных людей.
Третья группа – это штатские интеллигенты того порядка, что в войне видели очищающее таинство и освобождение народов Европы от материалистического духа Германии. Количество этих людей было сравнительно ничтожно на фронте и очень значительно в тылу и на нестроевой службе.
IX
В деревне среди помещиков не было такого подъёма, как в столице. Помещики были разрознены по своим усадьбам, хуторам и поместьям; их тревожила возможность остаться без рабочих рук. Главная масса народа схлынула в города на призывные участки, и в деревне остались только старики и женщины.
И если в городах торжественность обстановки приподнимала чувства даже у тех, кому предстояло защищать престол и отечество с оружием в руках, то в деревне наступившая вдруг тишина создавала настроение какой-то покинутости и обречённости. Здесь, среди обитателей усадеб, была также тревога за мужей, за сыновей, те же хлопоты. Но здесь в значительной степени успокаивало то, что вершить дела будут свои люди, которых из года в год каждая семья видела у себя за винтом или преферансом зимой в старинной гостиной с печами, с тёмной дедовской мебелью и большой керосиновой лампой на овальном преддиванном столе.
Эти люди, конечно, предпочтут отправить больше мужиков, чем людей своего класса.
Говорили, что на приёме в городе будет сам предводитель, Николай Александрович Левашов. А так как доброта его была известна, то это обстоятельство значительно успокаивало.
Упоминали о том, что бедному Митеньке Воейкову, приятелю Валентина, должно быть, придётся идти тоже простым рядовым, так как он не кончил университета и не имеет никакого чина.
У Левашовых собирались выдавать замуж Марусю, младшую сестру Ирины, и была тревога за будущего зятя, кадрового офицера Аркадия Ливенцова, что он попадёт в действующую армию, не устроившись в штаб.
Кроме тревог за близких, в наступившей тишине деревни наводили страх призывные крестьяне. Они стали вдруг вызывающе развязны, при встрече угрюмы, с недобрым, прячущимся взглядом. Точь-в-точь такие лица были в девятьсот пятом году. И это внушало опасение и смутную тревогу помещикам и разночинным землевладельцам.
В особенности как-то потерялся и оробел сосед Митеньки, деревенский купец Житников. Он в своём просторном пиджаке с серебряной цепочкой на жилетке растерянно-заискивающе улыбался, не получая ответа на улыбку, похлопывал по плечу отправлявшихся на фронт мужиков и просил получше сражаться, чтобы немцы не пришли сюда. При этом пугливо оглядывался, а по ночам совсем не спал, карауля амбар и лавку.







