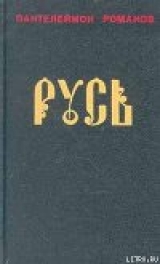
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 46 страниц)
ХСVI
Общество было поражено разгромом русских войск под Дунайцем, где германцы одних пленных взяли больше трёхсот тысяч человек. Но распространился слух о миллионных потерях, о гибели всех галицийских армий.
Говорили о тёмных силах при дворе. И опять намекали на то, что немцы совершенно свободно живут и даже наживают большие капиталы, так как продолжают свою торговлю в ущерб русской промышленности и торговле. Рассказывали, что галицийский разгром нарочно был подготовлен царицей, чтобы напортить Николаю Николаевичу, который знает про её шпионские проделки. Население волновала растущая изо дня в день дороговизна.
А тут ещё на фабриках в Москве появились остро-желудочные заболевания, и прошёл слух, что немцы отравляют воду.
Профессор Андрей Аполлонович был в это время в Москве.
В Москву он попал не случайно. Его пригласили в Москву на съезд промышленников, куда ехал и Стожаров, муж Марианны.
Одним из последствий выступления профессора в кружке Лизы Бахметьевой было то, что он сразу как бы сделался знаменем, с которым либералы пошли на борьбу с властью.
Андрей Аполлонович, не рождённый для политической борьбы, но попавший в её струю, не имел в себе силы обмануть ожидания людей, обративших теперь на него внимание. То, что он сказал в кружке Лизы, было сказано им без всякого расчёта или дальнейших планов. Это было высказывание, за которым не предполагалось определённого действия, так как к действию он вообще не был способен.
Но этого от него и не требовалось. К нему просто приходили люди, везли и сажали в президиум того или иного совещания. Его демонстрировали как высокую научную силу, которая, спустившись с отвлечённых академических высот, включилась в общественное движение.
«Если уж такой кроткий человек, такой не от мира сего учёный заговорил, значит…»
И Андрей Аполлонович вынужден был говорить приблизительно то, что он сказал в первый раз.
Нина, знавшая его лучше других, говорила:
– Я в ужасе от того, что делает профессор. Очевидно, его уже п о н е с л о. Направление, в каком его несёт, он осознаёт вполне, но пределов и границ этого, конечно, не знает. И я боюсь, что он в один прекрасный момент испугается и обманет ожидания всех.
Тем не менее она бесстрашно сопровождала его в Москву.
Съезд открылся под менделеевским лозунгом:
«Воевать надо не только оружием, а фабриками и заводами».
Съезд установил отсутствие настоящей организации войны, констатировал падение рубля и вынес резолюцию, гласившую, что только объединение всех промышленных и торговых сил может дать армии все необходимое.
А в первую очередь нужно бороться с немецким засильем.
В день съезда, 27 мая, в Москве уже с утра было какое-то приподнятое, нервное настроение. Говорили о разгроме русских армий, об оставлении Галиции, об отравлении рабочих. Около газетчиков с раннего утра уже собирались очереди в ожидании свежих номеров газет, и слышались разговоры и восклицания.
Когда кто-нибудь начинал говорить, то сейчас же около него собирались слушатели, и прохожие даже перебегали с другой стороны улицы, чтобы услышать, о чём говорят.
– В чём дело-то? – раздавались нетерпеливые голоса.
– В том, что рабочих травят на фабриках. Говорят, сто человек померло.
– Это всё и х н е е дело. Там бьют, а тут травят.
– Продали нас со всеми потрохами…
На углу Лубянской площади толпа разбирала у мальчишек с лихорадочной поспешностью газеты. Стали раздаваться возмущённые голоса:
– Какого же чёрта! Тут ничего нет. Всё только про Константинополь и проливы… И вот ещё: отошли на заранее заготовленные позиции.
– Теперь пойдут отходить до самой Москвы…
– Это тоже заранее заготовленная позиция?
– Конечно!
– А что ж удивляться, – говорил торговец в двубортном пиджаке и в белом фартуке, вышедший из подвальчика Лубянского пассажа, где у него была торговля квасом и водами, – что ж удивляться, когда все управители – немцы.
– Россия уж такая страна, что ею всегда кто-нибудь чужой управляет, – сказал интеллигент в шляпе, с презрительным выражением.
– Подожди, не век им командовать… Когда-нибудь народ проснётся. Он расчешет!..
– Ух! – воскликнул приказчик из мясной лавки, с толстыми кулаками и с нарукавниками из лаковой кожи. Он слышал только последнюю фразу о том, что народ проснётся и кого-то расчешет, и, ещё не зная, кого будут расчёсывать, напряг кулаки и плечи, как бы просившие работы. – У-ух! – повторил он, замотав головой и задвигав здоровыми плечами так, что от него все посторонились, а какая-то старушка неодобрительно сказала:
– Чего ты, как жеребец!..
– У-ух! – опять повторил приказчик со зловещим завыванием, как будто ему понравилось это восклицание, очевидно вполне выражавшее его внутреннее состояние.
– Вон, народ куда-то пошёл! – крикнул мальчишка босиком и в облупившемся лаковом поясе и кинулся вниз к Театральной площади.
Толпа колыхнулась и бросилась врассыпную туда же.
– Куда идут? Манифестация, что ли? – спрашивали беспокойные голоса в толпе и сейчас же присоединялись, ещё не зная, куда и зачем идут, но уже чувствуя в себе беспричинное возбуждение.
Вдали над толпой подняли портрет, все бросились смотреть, чей.
– Верховного… Николая Николаича!.. – раздались голоса.
– На него вся надежда. Он только один русский и есть.
– За то-то его немка, знать, и не любит! – слышались голоса со всех сторон.
И чем больше раздавалось таких восклицаний, тем больше каждому хотелось высказать что-нибудь соответствующее общему настроению толпы.
– Она, известно, всё переносит… Небось, все бумаги через неё идут.
– А то как же – ж е н а! – сказал какой-то купец, шедший с толстой супругой, которая всё останавливалась и говорила, чтобы он не лез в толпу. – Жена (он выговаривал – жана), она завсегда норовит по-своему гнуть. А немка – тем больше.
– Тут и без этой немки у нас немцев на каждой тумбе по три человека сидит. Вишь, коммерсанты как расстроились, все магазины ихние!
– У-ух!.. – послышалось опять восклицание в глубине толпы.
– Они и тут, небось, шныряют, слушают…
В одном месте послышались крики и возмущённые голоса. Оказалось, что какого-то интеллигента в шляпе с рыжими волосами и в очках приняли за немца и ходили за ним, подозрительно приглядываясь к нему, в то время как он возмущённо кричал, что обратится к полиции, если его будут оскорблять гнусными подозрениями.
– Дурак, – сказал кто-то из толпы, – пустил бы матом как следует, сразу бы и разъяснилось, ежели в самом деле не немец.
– На Красную площадь, знать, пошли?
– Как будто туда.
Действительно, огромная, уже в несколько тысяч толпа, гудя возбуждённым говором, входила в Иверские ворота, выливаясь на площадь. На памятнике Минину и Пожарскому уже виднелись издали маленькие фигурки людей, которые размахивали руками, очевидно, что-то говорили, обращаясь к толпе. И сейчас же по тому направлению врассыпную бросились люди, чтобы захватить места поближе к памятнику.
Оттуда долетали только неясные отдельные слова:
– Измена… Мясоедовщина!.. У нас в тылу шпионы… На фабриках народ травят!..
– А монахиня-то эта, сестра царицына, тоже, небось, р а б о т а е т?…
– А как же, для отвода глаз постриглась. Будь спокоен, у них всё учтено.
– Говорят, немецкого прынца у себя прячет, – сказал кто-то.
Но тут все отвлеклись, и толпа опять колыхнулась в сторону памятника. Оттуда ясно донеслось:
– Русский народ проснётся и потребует!.. Заявит о своей воле к победе! Ура! Россия – освободительница… славянство… Ура!
– Ура! Ур-ра! – понеслось, всё нарастая и перекатываясь, и толпа почему-то бросилась вверх по Никольской, на Мясницкую.
Нина Черкасская решила, пока Андрей Аполлонович будет на съезде, навестить Анну, жену Глеба, и узнать, правда ли она собирается ехать на фронт, как сообщила ей Лиза Бахметьева.
Когда Нина вышла из гостиницы «Националь» на улицу, она услышала крики и увидела толпы, бежавшие к Театральной площади. Стоявшие у ворот домов, выбежавшие на эти крики люди тревожно переговаривались между собою.
Нина пришла к приятельнице взволнованная.
Анна, высокая, худощавая женщина с грустным и ласковым лицом, повела её в свою комнату.
– Я не знаю, – сказала Нина взволнованно, садясь в кресло и оглядываясь, куда положить сумочку, – я не знаю, почему это во время войны все кричат? Этот крик на меня действует ужасно.
– Какой крик? – спросила Анна.
– Я не знаю, какой, но все кричали, когда я шла к тебе.
– Может быть, это какой-нибудь народный праздник?
– Неужели ты думаешь ехать к Глебу на фронт? – невпопад спросила Нина.
– Да, а что?
– Я не могу подумать без ужаса об этом. Как же они там живут? Вместе? То есть я хочу сказать: в одном районе… или как это называется?
– Да, они живут в одном местечке: Глеб на своей квартире, а Ирина в лазарете. Я очень рада за Ирину: это отвлечёт её от тяжёлых мыслей. Ведь летом у неё была какая-то неудачная история.
– Все истории бывают неудачны, – сказала, вздохнув, Нина. – Летом у меня тоже была… история, как ты называешь это. Мы с Андреем Аполлоновичем не можем спокойно вспомнить о ней. Как мы не взлетели на воздух – одному богу известно.
– Почему – на воздух? – спросила с изумлением Анна.
– Потому что о н оказался террористом. Я только не знаю, начинял у нас в доме бомбы или нет… Вот опять кричат! – сказала Нина, тревожно прислушавшись. – Я должна идти. Андрей Аполлонович скоро вернётся со съезда, и это меня волнует. Он такой беспомощный. Ведь ты знаешь: он теперь политический деятель. Не могу понять, как это могло случиться. Очевидно, я как-то проглядела. В политике, как ты знаешь, необходима борьба, а где же ему бороться, когда он может только извиняться.
– Но ведь у него большой авторитет? – попробовала заметить Анна.
Нина безнадёжно махнула рукой.
– Авторитет у него только тогда, когда он находится в сфере своих научных законов, а как только выходит из этой сферы, так за ним нужно смотреть в оба глаза, иначе он сейчас же попадёт в какую-нибудь историю… не в том смысле, в каком ты употребляешь это слово. У меня жил капитан, раненый, так Андрей Аполлонович боялся дышать при нём только потому, что у того очень громкий голос. Вот тебе и борьба!.. Ну, я иду.
И она, простившись, поспешно вышла.
Крики затихли, они доносились уже откуда-то издалека, так что Нина спокойно дошла до гостиницы. Андрей Аполлонович вернулся со съезда, и так как приближался вечер, то он, надев тёплую жилетку, предложил Нине пройтись.
Они проходили по бульвару к Сретенке, когда по тротуарам и просто по мостовой, обгоняя их, побежали какие-то люди.
Нина, не вынимая своей руки из-под руки профессора, спросила:
– Андрей Аполлонович, сегодня народный праздник, по-видимому? Куда вы меня ведёте? Я не люблю народных праздников.
Но в это время за углом облицованного глазированным кирпичом дома послышался звон разбиваемых стёкол, крики, рёв, и люди со всех сторон бросились туда, перепрыгивая по дороге через тумбы. Шедшие навстречу пешеходы, с испугом отпрянывая назад и защищаясь, выставляли вперёд руки.
Толпа, чернея сплошной массой, стояла у магазина готового платья Мандля. Одно саженное зеркальное окно было разбито, и мальчишки бросали камнями в стоявшие на выставке манекены.
Один манекен, схваченный чьей-то рукой, зашатался и свалился на тротуар, стукнувшись своей мёртвой головой об асфальт. Это подействовало на толпу, как при самосуде.
Сейчас же послышался звон другого разбитого стекла, и вдруг что-то заревело и загудело. Толпа, ломая двери, бросилась внутрь магазина.
Человек с толстым затылком, засучив рукава, сдёргивал в магазине с полок штуки сукна и бросал их в окна на улицу; они вылетали вместе с осколками стёкол. И каждый такой бросок толпа с улицы принимала с новым воем и улюлюканьем.
Человек с толстым затылком, побросав сукно, уже ломал лакированные прилавки, и человек двадцать бросились ломать, что можно было ломать.
Толпа кинулась по лестнице во второй этаж, подхватила письменный стол и потащила его к окну, чтобы со второго этажа грохнуть на мостовую.
А на улице радостным воем приветствовали появление этого стола на подоконнике. Все с жадностью ждали, как он полетит вниз на камни мостовой.
– Ссаживай его, ссаживай! Конец подними, а то подоконник не пускает! – кричали снизу, возбуждённо махая руками и перебегая с места на место.
– Это ничего, что с немцев начали, – говорили в толпе, – доберёмся и до тех…
Над Мясницкой вспыхнуло зарево, бросились туда. Но по дороге вдруг шарахнулись с тротуара, очистив полукругом место на мостовой; все задирали вверх головы на пятиэтажный дом и кричали, призывно махая руками:
– Ссаживай! Давай! Вали!..
Два дюжих молодца, по виду штукатуры, распахнув огромное окно на четвёртом этаже, взвалили на подоконник пианино.
– Давай, давай! – кричали исступленно снизу.
Через минуту в воздухе мелькнуло что-то большое, чёрное и, раза два перевернувшись в воздухе, с грохотом, подняв столб пыли, рухнуло на мостовую, рассыпавшись на мелкие куски сухого полированного дерева.
И опять прокатилось протяжное «у-ух!..» и завыло где-то вдали. И как будто вторя этому звуку, зазвонил тревожный звонок и рожок скачущих пожарных.
Нина, ошеломлённая и перепуганная, вернулась в гостиницу. У неё дрожали руки и ноги, детские глаза были расширены от ужаса.
Она долго смотрела на мужа, не будучи в состоянии ничего сказать, и наконец проговорила:
– Начинается, очевидно, то, что когда-то предсказывал Валентин, – начинается ураган… и вы, вы! – повторила она, грозно протянув руку с обличающе направленным на оробевшего Андрея Аполлоновича указательным пальцем, – вы начали его! Не отрекайтесь. Вы одним из первых произнесли это ужасное слово: «Требовать!»…
XCVII
Полицмейстер Севенард, взволнованный, прискакал к градоначальнику генералу Андрианову просить разрешения пустить в ход воинскую силу.
Генерал принял его в кабинете старого двухэтажного дома на Тверском бульваре.
Он сидел у стола и повернул голову к входившему полицеймейстеру. В руке у него было перо, и на столе перед ним – лист бумаги.
– Ваше превосходительство, – сказал вошедший, с бледным лицом, Севенард, – толпа громит магазины с немецкими фамилиями… бесчинствует… Необходимы меры… Магазин Эрманс, совсем не немецкая фирма, тоже…
Генерал, не произнося ни слова, смотрел на говорившего, сохраняя полную неподвижность. Он только немного отвалился на спинку кресла и положил ручку на чернильницу.
Полицеймейстер, начавший говорить быстро и горячо, с каждой минутой под взглядом неподвижных глаз начальника, точно увядая, замедлял речь и наконец совсем замолчал. Он несколько времени выдерживал неподвижный взгляд генерала, стоя молча, потом вдруг громко проговорил:
– Слушаю, ваше превосходительство!
– Можете идти… – сказал генерал.
XCVIII
Район наступления немецких армий всё расширялся. Глеб с Ириной перешли из Десятой армии в Пятую. Прощаясь с Черняком, Ирина дала ему адрес своей сестры Анны и просила его писать.
Она была уверена, что Черняк не выживет. То же говорили и врачи.
Глеб был рад перемене места и обстановки, как он всегда бывал рад, когда в его жизни появлялось что-нибудь новое.
Отношения с Ириной у него сильно осложнились. Собственно, нужно было бы откровенно написать жене обо всём и покончить с неопределённостью положения. Но на сестре своей жены ему не позволили бы жениться, и обнаруженная связь разразилась бы позорным скандалом для всех родных.
Глеб всегда говорил, что лучше быть безумцем, чем мещанином и обывателем, который трусливо взвешивает каждый свой шаг и сообразуется с тем, что дозволено и что не дозволено общественным мнением. В данном случае безумство заключалось в том, что сестра его жены сделалась его любовницей. Это было необыкновенно. Это действительно могло волновать.
Но когда необыкновенное стало обыкновенным и даже повседневным, вся острота прошла, а с нею и то, что его притягивало к Ирине.
Глеб говорил себе, что, конечно, он ни одной минуты не станет отпираться, если Ирина потребует, чтобы он пошёл на открытую связь с ней, потому что было неудобно сказать ей, что он её не любит. Что она подумает тогда о нём? Как на него взглянет при этом неожиданном сообщении?
Было жутко даже представить себе…
Главная трудность была в том, что Ирина не пойдёт, по свойству её прямой натуры, ни на какой компромисс, ни на какую ложь. Она ради своего чувства могла бы пойти на позор, на унижение и всё перенесла бы с гордо поднятой головой. Ей ничего не страшно. Но когда она узнает, что ей идти-то не из-за чего, вот тогда…
Глеб при этой мысли даже весь сморщился, как от нестерпимой боли и стыда.
Однажды вечером было как-то тревожно. Через местечко, в котором жили Глеб и Ирина, постоянно проходили со стороны фронта воинские части, обозы. На вопрос, куда они идут, отвечали обыкновенно:
– Сами не знаем.
В этот вечер, когда Ирина была у Глеба, постучали в дверь. Глеб вышел в сени и вернулся с телеграммой.
Ирина, сама не зная почему, побледнела и расширенными глазами смотрела на руки Глеба.
– От Анны… – сказал Глеб, – завтра приезжает. Зачем она в такое время!.. Я же писал ей. Что ты? – спросил он вдруг, оглянувшись на Ирину, – что с тобой?
Ирина, закусив губы, остановившимся взглядом смотрела перед собой на стол.
Глеб растерялся. Он не знал, молчит ли Ирина, чувствуя вину перед сестрой, или оттого, что сомневается в его любви.
Тут бы самое лучшее было подойти к Ирине, весело, горячо обнять её и сказать, что он любит только её, а с Анной нужно как-нибудь поосторожнее, помягче обойтись, чтобы не убить её сразу этой новостью.
Но весело и горячо обнять сейчас Ирину было как-то неудобно, потому что Анна сейчас едет и, наверное, считает каждую минуту, когда она увидит любимого человека, а он в это время будет весело и горячо обнимать другую женщину, её с е с т р у.
Поэтому Глеб просто взял руки Ирины, заставив её этим посмотреть на себя.
Глаза её, ставшие вдруг чужими и холодными, с немым вопросом смотрели на него.
– Ты веришь в мою любовь к тебе и… вообще в меня?
Ирина продолжала молча смотреть на него.
– Ты должна верить мне, – сказал Глеб и, взяв обеими руками голову Ирины, поцеловал её почему-то не в губы, а в пробор волос.
И сам сейчас же заметил это.
– Ты скажешь ей? – спросила в упор Ирина.
– Конечно! – решительно ответил Глеб, чтобы Ирина не подумала, что он боится сказать Анне об их связи.
Действительно, Глеб, подъезжая на другой день к станции, решил в первый же момент встречи сказать жене всю правду.
Он увидел её на площадке вагона, когда поезд ещё не остановился, так же, как и Ирину зимой.
Анна стояла в летнем синем костюме с кармашком на левой стороне груди и в большой соломенной шляпе, из-под которой выбивались её густые, волнистые волосы.
Она чуть не бросилась при виде Глеба с площадки на ходу. Он сам вскочил на площадку и остановил её.
Анна схватила его своими руками в белых перчатках за голову, прижала её к груди, потом отстранила её и опять прижала, потом заплакала, потом засмеялась и каждую минуту осыпала его лицо поцелуями.
– Боже мой, наконец-то! Я думала, что не доеду никогда! Чего это стоило, если бы ты знал: я и лгала, и унижалась, и строила из себя важную даму. Всё было! – говорила Анна, не выпуская руки Глеба и проходя с ним по платформе мимо станционного садика с акацией.
Глебу хотелось поскорее дойти до шарабана, потому что его все здесь знали. Анна же, не стесняясь, выражала ему свою супружескую радость и нежность после долгой разлуки.
Все, вероятно, только разведут руками: ещё три дня назад ездил с одной женщиной, которую все считали его женой, а сейчас едет с другой, которая держит себя с ним тоже как жена.
А когда они выехали со станции, Анна, вдыхая вечерний запах полей, начала говорить о том, что она испытывает сейчас такое же счастье, как тогда, когда они в п е р в у ю их весну ходили в поле.
Глеб как раз в эту минуту приготовился было сказать ей о своей связи с Ириной. Но это было бы бесчеловечно – нанести ей предательский удар в такую минуту. И в то же время не хватило силы ответить ей таким же чувством. Но чтобы она не заметила его холодности, ему пришлось взять её руку и покрепче стиснуть её, как бы этим молчаливо отвечая на её слова.
Он думал, что нужно было во имя человечности дать ей пережить хоть призрак того счастья, какое было сейчас у неё. Да у него и у самого при воспоминании об их п р о ш л о м к горлу подкатился тяжёлый ком, вопреки всякой логике, и на глаза навернулись слёзы.
Он оставил Анну устраиваться в своей квартире, которую она с восторгом осматривала, и пошёл за Ириной. Анна в первую же минуту с нежной заботой спросила о ней. Глеб решил предупредить Ирину о том, что он решил не убивать Анну страшной для неё правдой в первый же момент её приезда.
Но когда он увидел Ирину – бледную, с глубоко ушедшими глазами, – он понял, что она не спала ночь, и почувствовал, что говорить с ней сейчас об отсрочке объяснения невозможно.
Он пошёл с Ириной более короткой дорогой мимо водокачки, большого деревянного чана на высоких подмостях из бревен, который стоял на площади около двухэтажного дома.
Когда они проходили мимо забора аптекаря под липами, Ирина вдруг остановилась, на лице мелькнула болезненная улыбка, и она сказала:
– Здесь мы с тобой месяц назад шли, и ты сказал, что это наша п е р в а я весна.
Глеб молча крепко прижал руку Ирины, которая лежала на его руке.
Анна только что умылась с дороги, распустила и вновь собрала волосы, уложив их слабо заплетёнными косами в несколько рядов на голове, переменила дорожное платье, надев белое полотняное с прозрачными прошивками, с поясом на высоких бёдрах и с заглаженными складочками на груди блузки.
В сравнении с девической фигурой Ирины она казалась более широкой и рослой, несмотря на свою худобу. Она бросилась навстречу Ирине, обняла её за плечи с несвойственной ей быстротой и силой, отстранилась, потом ещё раз обняла.
Ирина поняла, что она ещё ничего не знает.
Войдя в дом, где уже был приготовлен чай, Глеб и Ирина начали расспрашивать о Москве, рассказывали о своей жизни здесь. Причём Глеб сел рядом с Ириной за чайным столом, Анна же за самоваром, по своей привычке хозяйки, сидела одна. И было похоже на то, что Глеб с Ириной – муж и жена, а она – приехавшая их навестить родственница.
Поэтому Глеб встал и прошёл по комнате, чтобы не пересаживаться сразу от Ирины к жене. И только потом уже, взяв стул от стены, поставил его рядом со стулом жены.
И как только он сел, то вышло, что он сидит с любимой женой, а Ирина в качестве родственницы присутствует при радостной встрече супругов.
Глеб опять встал.
Под предлогом желания дать отдохнуть сестре с дороги Ирина скоро собралась уходить.
– А где же ты живёшь? – спросила её Анна.
Та, покраснев, сказала, что в лазарете, в полуверсте отсюда.
– Бедная… Глеб, ты проводи её, – сказала Анна с тревогой, – уже темно.
И вышло так, что она, как жена, оставалась здесь, а Ирина должна была уходить. И, конечно, момент для объяснения был упущен. Нельзя же было ни с того ни с сего сказать: «Ты уходи ночевать в какое-нибудь другое место, а Ирина останется здесь».
А у хозяйки завтра глаза на лоб полезут, когда она увидит, что у Глеба уже другая женщина.
Глеб, снедаемый всеми этими мыслями, вышел проводить Ирину. Но она почти от порога, не сказав ему ни слова, бросилась бежать. Догонять её было неудобно: соседи подумают, что вышел какой-то скандал. А идти к ней в лазарет, чтобы успокоить, – тоже нельзя было: Анна, оставшись на долгое время одна, могла догадаться об истинном положении дел. Он походил минут десяток около дома и вернулся.
На другой день Ирина пришла сама и всё время спокойно говорила с сестрой; только глаза её горели сухим, беспокойным блеском. А когда Глеб обращался к ней, она отвечала, не взглядывая на него.
Он никак не мог поймать её убегающего взгляда и с отчаянием чувствовал, что она уходит, ускользает от него.
Это было ужасно.
Через три дня Анна уезжала. Она с тревогой оставляла мужа и сестру.
Поезда почему-то перестали доходить до последней станции, и нужно было ехать за тридцать вёрст на следующую станцию. Ходили тревожные слухи, и по ночам в разных местах горизонта розовели зарева дальних пожаров, поселяя беспокойство и тревогу.
Анна ничего не заметила, и Глеб перед самым её отъездом, улучив минуту, даже сказал об этом Ирине, как будто их главной задачей было сохранить от Анны их отношения. Ирина побледнела и странно, почти с испугом, отдёрнула свою руку, когда Глеб хотел взять её.
Глеб понял, какая мысль мелькнула у Ирины при его словах о том, что Анна ничего не заметила. Значит… значит, он делал всё, чтобы она не заметила.
Начать разуверять Ирину в том, что у него ничего не было с женой, у Глеба не хватило духа. Её внезапная бледность, горячечный блеск глаз и жест, с каким она отдёрнула руку, как бы испугавшись одного прикосновения к нему, показали ему полнейшую бесплодность всяких уверений.
Он потерял всё своё спокойствие и безоблачность настроения. Хотел броситься к ней, упрекнуть её в узости взглядов, но в это время Анна в дорожном костюме и в шляпе с вуалью выходила на крыльцо, держа в руке мокрый от слёз платок.
Когда Глеб вёз жену на станцию, у него была мысль сказать ей дорогой всё и скорее вернуться к Ирине, уверить её в своей любви к ней.
Но ему пришлось усадить Анну в вагон, просить её скорее написать письмо ему, даже ещё идти некоторое время рядом с тронувшимся поездом и говорить ей нежные прощальные слова.
Сказать ей обо всём в момент её отъезда было и подавно невозможно: в каком состоянии она поехала бы?
Проводив поезд, Глеб погнал лошадь, так как наступал уже вечер и раньше чем через два с половиной – три часа он не мог доехать до дома.
Он съехал с шоссе на обочину дороги, изрезанную засохшими колеями.
Небо стало алеть, как от восходящей луны, но более светлым розовым тоном. Навстречу ему попадались пролетавшие по шоссе мотоциклетки с солдатами в автомобильных очках, грузовики, военные повозки, наполненные почему-то самыми обыкновенными вещами. На одной, в которой сидел в обвисшей фуражке и вылинявшей гимнастёрке денщик, были наложены туалетное зеркало, люстра, канделябры.
Чем дальше ехал Глеб, тем гуще валили толпы солдат. Стороной дороги, волоча за собой за ремни по земле ружья, как салазки, шли два пьяных солдата.
Они, обнявшись за плечи и размахивая свободными руками, пели. У одного соскочила фуражка, он этого не замечал.
Глеб почувствовал, что случилось что-то страшное.
– Куда едете? Что случилось? – спросил он у одного солдата, ехавшего на повозке, нагруженной такими же странными вещами. На повозке, кроме него, сидело ещё человек пять солдат, очевидно подсевших по дороге, со спущенными через грядку телеги ногами.
Глеб задал этот вопрос и тут же увидел, что все солдаты пьяны.
– Текай!.. кончено дело! – крикнул один из них, цинично выругавшись и захохотав, и они, махая на лошадей руками, погнали их вскачь.
В деревне, от которой осталось десять вёрст до дома, была сумятица. Вся улица была запружена подводами, лошадьми. Всё это стремилось вперёд, и при всякой задержке раздавались крики, брань:
– Чего стали, проезжай! Проезжай, говорят!
– Куда поперёк дороги заворотился! – кричал солдат в надетой козырьком назад фуражке на другого солдата.
А сзади надвигались новые повозки, лошади, автомобили, которые нетерпеливо гудели, и из них высовывались люди, угрожавшие револьверами. Некоторые сворачивали лошадей за деревней через канаву и пускали их вскачь по полю.
Вдруг впереди показались какие-то огни, похожие на огни факелов, и сейчас же раздались крики. Люди, повозки, лошади, – всё бросилось в стороны. Послышался тяжкий грохот железа, и показались скачущие лошади, на которых сидели люди с факелами, а за ними блестели в темноте от света медные части орудий.
– Артиллерия! – крикнул кто-то, – раздавят!
Вслед за этим послышался хряст повозки, крики, и всё смешалось в кучу. Люди, морщась, обегали это место и бежали дальше.
Глеб, предчувствуя несчастье, погнал лошадей. Он тоже переехал канаву. Навстречу ему по шоссе катилась в темноте лавина повозок, орудий, гремевших железом по мелкому щебню шоссе.
Впереди зарево всё расширялось.
– Где горит? – спрашивал он встречных. Те тревожно оглядывались назад и, ничего не ответив, начинали с ожесточением нахлестывать лошадей. Другие, не оглядываясь, отвечали:
– А кто её знает – тут везде горит.
Наконец Глеб ясно понял, что горит село, в котором они проживают.
Глеб погнал лошадь по узкому проулку к лазарету. Подъехав к лазарету, Глеб почувствовал, как у него похолодела спина: лазарет с раскрытыми дверями, с матрацами, брошенными на освещённом пожарном дворе, был пуст…
Глеб повернул измученную лошадь к своей квартире, в ту сторону, где горело. Мимо пожара по площади двигался непрерывный поток, похожий на чёрную реку. Из темноты этого потока выделялись, освещаемые отблеском пожара, смуглые, точно закопчённые лица солдат, лошадиные головы, дышла повозок и закрытые покрышками жерла орудий. Горел двухэтажный дом с водокачкой – деревянным чаном на высоком помосте.
В квартире Глеба тоже были настежь раскрыты окна и двери.
– Где лазарет? Где лазарет? – закричал Глеб голосом, в котором он не узнал себя.
Из дома выскочили два каких-то солдата и скрылись за углом.
– Лазарет час тому назад уехал. Вишь, как наседает, – сказал чей-то спокойный голос из темноты. И Глеб только теперь вновь услышал вдали глухие, точно подземные удары, от которых вздрагивали земля и воздух.
Ирины не было нигде.
Глеб опять каким-то образом очутился около пожара. На площади ярко, как сухая лучина, горел дом, уже весь охваченный пламенем. На втором этаже его видны были стёкла в рамах, отливавшие от блеска огня радужными пляшущими отсветами.
Напротив дома стояла толпа, ярко освещённая пожаром, и жадно, не отрываясь, смотрела на вымётывавшиеся из прогоревшей крыши огненные языки. Стёкла в окнах вдруг растаяли и потекли.
Столбы помоста водокачки горели, и огонь исчезающими и вновь вспыхивающими зайчиками бежал вверх по брёвнам к чану.
Толпа с замиранием сердца ждала, когда брёвна перегорят и огромный чан с водой рухнет на землю.
– Сейчас обвалится, сейчас, накажи господь! – крикнул кто-то. Но в это время крыша горевшего дома, пустив в тёмное небо тучу мелких искр и скрыв пламя в чёрном дыму, рухнула со своими стропилами и остовом обгоревшего слухового окна внутрь, в середину яркого добела пламени.
Из толпы, точно из одной груди, вырвался вздох.
Через минуту в помосте под чаном хрустнуло что-то, и он накренился набок, точно одно из брёвен ушло в землю.
– Отходите, отходите! Водой зальёт! – кричали разные голоса.







