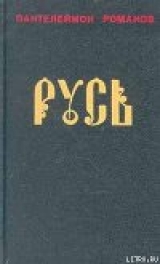
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 46 страниц)
LII
А Житников в самом деле никогда ещё не переживал такой горячей поры, как теперь.
Война сильно затронула деловой мир. Некоторые фабриканты, промышленники и торговые фирмы разорились вследствие закрытия банками кредитов и призыва в действующую армию служащих или самих хозяев. Но на их место, как буйная березовая поросль после лесного пожара, стали вырастать новые предприятия и разбухать новые состояния оборотистых и быстро приспособившихся к новым условиям людей. Эти уже не наживали спокойно и медленно капиталы, как их отцы, сидевшие в картузах у порога своих лавок в ожидании редких покупателей, не довольствовались прибылью в копейку на рубль. Война, сообщившая всей жизни новый темп, внесла этот темп и в торговые дела.
Покупатели теперь толкались перед лавками, стараясь купить товар, пока на него не накинули лишних копеек. А купцы проявляли небывалую энергию в закупке товаров по случаю возможного их уменьшения или исчезновения. И уже не заискивали перед покупателями, а проходили мимо них, строгие и неприступные, точно генералы, озабоченные снабжением армии.
Даже базарная мелкота, привозившая из деревни на одной лошадёнке с жеребёнком картошку, и та стала неприступна, избегала всяких прежних приятельских разговоров со знакомыми покупателями, чтобы не стыдно было накидывать цену.
В воздухе запахло большими деньгами, и этот запах сразу уничтожил былое купеческое добродушие и радушие в обращении с клиентами.
Житников сначала потерпел было убытки: так как железные дороги, мобилизованные военными властями, не принимали частных грузов, то у него остались непроданными все яровые яблоки, которые пришлось стравить свиньям.
Тётка Клавдия со злыми слезами смотрела, как свиньи, забравшись передними ногами в корыто и повиливая своими закрученными хвостиками, хряпали великолепную полуфунтовую боровинку и коричневые. Но потом дела с лихвой оправдались на других участках хозяйства. Житников, с большой седой бородой, в лаковых сапогах и просторном пиджаке, с цепочкой на жилетке, ходил с утра до вечера с ключами в руках то в лавку, то в амбар, где ссыпали купленную муку, крупу, пеньку, пуды которых отмечались углём на дощатой перегородке закромов.
Жена его, старуха с бородавкой и волосками на подбородке, появлялась всюду с толстой суковатой палкой, гневно пророчески, с поднятием руки вверх, обличала плохо работавших подённых баб, за которыми, кроме того, присматривала худая и высокая тётка Клавдия.
– Приберегай, приберегай товар! Продать всегда успеешь, – говорила старуха мужу и стучала палкой о пол.
– Знаю без тебя, – отвечал Житников, с досадой на прямолинейность старухи, которая говорила это, не стесняясь подённых, так как крепко была уверена в данных им богом правах, которые нечего скрывать от людей.
Житников сам хорошо понимал, какую теперь нужно было вести линию. Было ясно, что если война продлится (а она, благодаря бога, день ото дня затягивалась всё больше и больше), то товаров будет всё меньше и меньше.
Значит, нужно было, не теряя ни минуты, всё скупать и как можно меньше продавать, чтобы потом, когда начнутся государственные затруднения, иметь возможность предложить готовенький товар и потребовать за него повышенную цену.
И уже часто, когда приходила в лавку какая-нибудь баба и спрашивала мыла, Житников, испуганно оглянувшись на полки, разводя руками, говорил:
– Нету, матушка, вчерась последнее продал.
– Господи, батюшка! – восклицала, всплеснув руками, покупательница, – а я бельё замочила…
– Уж не знаю, как быть, – отвечал Житников, задумываясь. – Теперь, может, только на будущей неделе будет. Но дороже…
– Да уж господь с ним, заплатишь и дороже, когда достать неоткуда.
– В понедельник приходи. Только не болтай никому, я уж одной тебе по знакомству достану.
Чем больше скупали всяких продуктов, тем скуднее ели сами. В амбаре стояли целые кадки с густым, как сливочное масло, медом, а чай пили с маленькими кусочками сахара, обкусывая его десятки раз со всех сторон. Варенье в кладовой всё засахарилось, и ряды тёмных банок, стоявших на полках, покрылись изнутри белым налётом. К ним не прикасались. Только изредка накладывали в стакан, когда приходила какая-нибудь баба купить вареньица для больного.
Эта огороженная высоким забором усадьба была похожа на готовящуюся к осаде крепость, куда со всей округи свозилось всё, что только можно было купить.
Всё это исчезало в подвалах, погребах и амбарах, чтобы ждать более счастливых дней, когда можно будет пустить в продажу с двумястами процентов прибыли.
Прежде Житников никогда не читал газет и не покупал никаких книг, кроме дешёвых листков о спасении души. Теперь же он выписал газету и прежде всего смотрел страницу, указывавшую на состояние цен, а затем переходил к обзору военных событий.
Когда какая-нибудь молодка, у которой муж был на войне, придя в лавку, спрашивала, не слыхать ли чего про мир, Житников, неодобрительно покачав головой и посмотрев на неё поверх очков, говорил наставительно-ласково:
– Сначала, матушка, победить надо, а потом уж про мир говорить. А то мы все только о мире думаем, а воевать-то кто же за нас будет?
Бабы всё чаще и чаще спрашивали о мире, и Житников уже со страхом каждый день развёртывал газету, не ожидается ли и в самом деле мира.
Но своих тайных мыслей он не высказывал никому. Даже сам не продумывал их до конца и, как бы стараясь заглушить их, каждый праздник служил молебен.
В городе товары он брал у Владимира Мозжухина, который широко и с большим толком повёл свои дела, добившись поставки скота и леса на армию.
Владимир пустил теперь в дело свою способность задушевного общения с людьми, сдобренного выпивками, шашлыками собственного приготовления. Через одного приятеля Владимир устраивал мясные поставки, через другого – продажу казне леса на шпалы по такой цене, какая не снилась в мирное время. Прежнюю бескорыстную жажду общения, потребность говорить по душам, обниматься со всякими встречными Владимир заменил общением, имевшим целью только устроение дел. Теперь он не стал бы готовить шашлык для Авенира с Федюковым и приглашать их к себе на дачу, да и сам почти не ездил к ним. Времена стали другие.
А у Житникова оставался невыясненным один вопрос, а именно вопрос об имении Митеньки Воейкова. Он не знал, как рассматривать свою роль в этом имении, кем он является: управляющим, арендатором или… У него мелькала иногда грешная, захватывающая дух мысль о том, что, может быть, Митеньку ещё возьмут на войну и убьют. На этот случай нужно было бы вытребовать у него доверенность или какую-нибудь бумагу на бесконтрольное управление, при этом такую бумагу, чтобы она, в с лу ч а е ч е г о, давала ему право пользоваться имением и впредь…
Пока этой бумаги не было, он старался сделать все, чтобы впоследствии не хвататься в отчаянии за затылок от упущенных возможностей: менял в усадьбе свои старые хомуты на новые, по ночам что-то перевозил из воейковской усадьбы к себе и раз в неделю писал Митеньке о несчастных случаях со скотом и всяких неожиданных убытках и просил Митеньку снять с него эту тяжёлую работу.
LIII
Митенька же не подавал о себе никаких вестей. Он устроился в военной организации и чувствовал себя хорошо.
Но тут на пути к полному благополучию и беззаботности вставало одно обстоятельство. Его непосредственный начальник оказался грубым и неопрятным человеком. Сидя у себя в кабинете за столом над бумагами, в военной форме и походных сапогах, он угрюмо, точно с невыспавшимися глазами и всегда с недовольным видом отдавал Митеньке распоряжения, закидывая назад свои сальные жёсткие волосы и пропуская их через пальцы. Руки у него были толстые, мягкие, с короткими тупыми пальцами. Он имел дурную привычку грызть ногти. При этом он курил, не выпуская изо рта папиросы, и окурки бросал прямо в угол.
Митенька, относившийся прежде с презрением к делению людей на касты и на чины, теперь испытывал непобедимый страх перед этим грубым волосатым человеком. Он боялся его, как какой-нибудь мелкий канцелярский чиновник боится своего начальника-генерала, и на все распоряжения начальника только отвечал: «Понимаю, хорошо, будет исполнено».
Но на самом же деле от страха ничего не понимал.
Он только с замиранием сердца иногда ждал, что начальник в один прекрасный день позовет его и скажет:
«Вот что, милый мой, довольно здесь бить баклуши. Ведь я вижу, что вам нечего делать, а теперь война, и государству дорога каждая копейка. Отправляйтесь-ка на фронт ездить верхом по болотам и записывать разоренных войной жителей».
Но он иногда видел, как в кабинет его начальника входил управляющий канцелярией, высокий военный с полковничьими погонами, и тогда начальник Митеньки из грубого и раздражительного сразу превращался в любезного медведя, с непривычной для него торопливостью раскладывал перед управляющим ведомости, листы, ронял их, с покрасневшей шеей торопливо поднимал. И по уходе управляющего у него несколько времени были красные уши.
Возможно, что во время этих посещений у него мелькала мысль, что управляющий вдруг скажет ему:
«Вот что, милый мой, вся эта ерунда, которую вы делаете, – статистика пострадавших от войны – никому не нужна и, вероятно, делается в десятках других мест. Казна в такое время не может держать и кормить сотни ни на что не нужных трутней, отправляйтесь-ка…» и т. д.
А управляющий, в свою очередь, заходил, вероятно, потому, что нужно было идти с докладом к генералу и показывать ему, как велика работа и достижения.
Иначе генерал может сказать:
«Вот что, милый мой, нужна эта ерунда, которую вы здесь делаете, или не нужна – это вопрос другой, но вы обязаны её делать так, чтобы все колёса машины работали полным ходом и без перебоев».
И действительно, скоро безвозвратно миновало то время, когда служащие томились без дела.
Ничто не имеет такой способности к размножению, как бумага. Если в казенное учреждение послать запрос по самому пустячному делу на бумажке в четверть листа, то при хорошо поставленной канцелярии через три месяца из этой бумажки вырастет уже целое д е л о, для которого потребуются папки, а для папок – полки.
Из донесений сотрудников с мест о состоянии районов, подлежащих обслуживанию со стороны организации, выросли сводки, из сводок получились м а т е р и а л ы, из материалов – доклады. А возможность докладов повлекла за собой и возможность заседаний с обсуждениями и решениями. Для всего же этого оказались нужны протоколы, а для писания протоколов – секретари.
Ещё не успело начаться самое дело помощи жертвам войны, а уже количество материалов так возросло, что в них едва успевали разбираться десятки людей. И если бы им сказали, что никакой помощи не будет производиться, то им и без этого за глаза хватило бы дела: дай бог только успевать обрабатывать материалы.
Организация, по мысли Лазарева, предполагала питать жертв войны, значит, нужен был продовольственный отдел, а у этого отдела – центральные и второстепенные склады, а у каждого склада – заведующие и бухгалтеры.
Организация предполагала прийти на помощь жертвам войны юридическим советом, значит, нужен был юридический отдел. А как только дошли до юридического отдела, так увидели, что организаторам ничто не мешает помогать жертвам войны (главным образом будущим) в о в с е х отношениях, во всех случаях жизни. И отделы – самые разнообразные – быстро и весело стали возникать на территории учреждения.
Если же отделы размножились, то уж наверное, как бы в порядке самозарождения, образуется с т а т и с т и ч е с к и й о т д е л. Уж наверное где-нибудь в углу притулится сначала один столик, за которым подслеповатый человек в очках, очень тихий, очень худощавый, будет что-то писать, разграфлять бумагу и ставить цифры в клетки.
И дайте только этому тихому человеку хоть немного здесь посидеть, как около его столика незаметно вырастет другой столик, и за ним окажется такой же тихий и худощавый человек.
А там и пойдут во все отделы бумажки с требованиями с т а т и с т и ч е с к и х д а н н ы х.
Эти запросы о статистических данных имеют какое-то гипнотическое влияние на всех: получивший такой запрос сначала остолбенело смотрит на него, потом сразу пишет: «Удовлетворить требование статистического отдела».
Слова «это нужно для статистики» могут звучать и успокоительно, и угрожающе, в зависимости от интонации, с какой они будут произнесены.
Генерал, возглавлявший организацию, был полный пятидесятилетний мужчина с одутловатыми щеками, поросшими редкой бородой с проседью, из-под которой между отворотами генеральской тужурки просвечивала белая эмаль ордена.
Сначала он сам иногда ходил по коридорам в сопровождении управляющего канцелярией и осматривал отделы. Останавливался обыкновенно на пороге и, глядя на людей, как на неодушевлённые предметы, спрашивал управляющего:
– Это что тут такое?
Управляющий совался во все стороны, чтобы видеть из-за генеральских плеч, загораживавших всю дверь, и никак не мог понять, о чём спрашивает его генерал, отвечал часто невпопад: на вопрос о служащих давал ответ о столах и наоборот.
Но чем больше росла организация, тем меньше генерал становился видим. Он уже не выходил из своего кабинета. Около двери этого кабинета скоро оказался адъютант, сидевший за столиком. Он с испуганным видом останавливал всякого, кто брался за ручку двери генеральского кабинета.
И как только служащие увидели этот испуг на лице адъютанта, сами стали испытывать трепет, когда подходили к этой двери.
Лазарев – душа этого предприятия – зорко следил за тем, где ещё может быть оказана помощь жертвам войны, то есть какой ещё отдел можно создать и поднести генералу на утверждение новую смету.
И генерал, хмурясь, как он всегда хмурился, когда что-нибудь подписывал, с удовольствием утверждал бытие нового отдела, так как под его ведением вырастало целое министерство и даже совокупность нескольких министерств.
LIV
Эта осень не была похожа на обычную петербургскую осень. Правда, как всегда, сквозь туман шёл целыми днями мелкий холодный дождь пополам со снегом, и мягкий размочаленный торец на широком Невском весь пропитался осенней влагой.
Север нес низкие серые тучи, и осенний ветер, прижимая сзади к ногам пешеходов мокрые пальто, дул в них, как в паруса, и заставлял быстрее бежать.
Но и сквозь эту осеннюю сырость Петербург всё-таки казался другим: везде шли и ехали военные, над оградами у ворот дворцов и богатых особняков виднелись мокрые флаги Красного креста, и везде царило приподнятое движение, которого не мог погасить даже осенний петербургский дождь.
Ярко освещённые по вечерам подъезды театров, кино, концертных зал и ресторанов манили к себе с мокрой, промозглой улицы, и к началу спектаклей густая толпа людей, опуская и стряхивая перед входом мокрые зонты, теснясь, спиралась в дверях.
Люди нетерпеливо, жадно заглядывали через головы передних внутрь, где празднично белели колонны и каменные лестницы в красных коврах с медными прутьями.
Потоки новых людских масс вливали новую, лихорадочно приподнятую струю жизни в холодный и чиновный Петербург.
Митенька Воейков с особенной жадной чуткостью ощущал эту приподнятость, это нетерпеливое желание людей видеть, переживать то новое, что вошло теперь в жизнь.
Он чувствовал себя пьяным от свободы и от людского множества, когда он сбросил с себя вконец утомившую его повинность нести какую-то особенную жизнь, не похожую на жизнь обыкновенных людей.
Митенька переселился в общежитие и занял отдельную комнату, похожую на небольшой номер гостиницы, с постелью, письменным столом и шкафом у стены.
В этом общежитии, – помещавшемся в том же доме, где было и учреждение, – жили мужчины и женщины.
Каждый день за чаем, обедом и ужином столовая наполнялась шумным народом и весёлым говором уже перезнакомившихся между собою мужчин и женщин.
Все эти люди или разбивались уже на парочки, или веселились по вечерам шумной компанией.
Митенька, благодаря своей нерешительности, ограничивался только тем, что за обедом украдкой смотрел на сидевших за столом женщин и мысленно выбирал, какую из них он хотел бы полюбить.
Иногда даже встречался с какою-нибудь глазами и день, и другой. А потом оказывалось, что она уже отправилась в театр с более предприимчивым человеком.
Приходилось начинать снова.
Возбуждающая притягательность женщин, населявших общежитие, была в том, что все они, получив службу, уже не были прикованы к семье, к мужу. Они могли пользоваться жизнью, как хотели, не предъявляя к мужчине никаких особых требований. Это было что-то совсем новое.
И Митенька был доволен, что он отделался от посещений кружка, так как работа в кружке меньше всего соответствовала тому настроению, какое было теперь у него.
Он часто вспоминал об Ольге Петровне, отношения к которой больше соответствовали бы его теперешнему настроению. И один раз у него до боли забилось сердце и потемнело в глазах, когда он, будучи в театре и обводя глазами ложи, в полумраке зрительного зала увидел её в ложе… Да, это была несомненно она, в чёрном платье, с переливающимися в ушах бриллиантами. Она сидела между моложавым генералом и полной женщиной. Потом он видел её, когда она со своими спутниками прошла по проходу своей лёгкой и чёткой походкой.
Митеньке с поздним сожалением ярко вспомнилось всё то, что было у него летом с этой теперь такой далёкой для него женщиной.
Алексей Степанович после ухода Митеньки с кружка ни разу не зашёл к нему. Он работал на заводе по изготовлению снарядов. Завод состоял из нескольких корпусов с полукруглыми крышами и стеклянными стенами из мелких закопчённых стёкол, местами выбитых. И каждое утро, когда в городе ещё горели туманные огни фонарей и шли первые трамваи, Алексей Степанович ехал на работу. Подняв воротник своей тёплой, на вате, куртки, соскакивал на последней остановке перед заводом, где вагоны, делая круг, поворачивают назад. Потом шёл через проходную будку по бесконечному двору, усеянному попадавшимися под ноги чугунными шкварками, которые скрежетали под ногами и царапали подмётки сапог, как ракушки на морском берегу.
Действовал ли так промозглый петербургский рассвет, но его всякий раз охватывало раздражение и отвращение при виде заводских корпусов на фоне серого предрассветного неба. Да и все рабочие приходили на завод какими-то обозлёнными, огрызавшимися друг на друга по малейшему поводу.
Если у иных в начале войны, когда на завод приезжали ораторы, был некоторый подъём, то теперь, за три с половиной месяца войны, от этого подъёма не осталось и следа. Давали себя чувствовать уже начинавшаяся дороговизна, сверхурочные работы и страшная усталость. Картошка поднялась в цене чуть не вдвое, мясо видели редко, и дома выводили из себя ворчанье и ругань хозяек, раздражённых бесконечными поисками молока для детей.
На заводе нет-нет да увольняли кого-нибудь из рабочих, прикосновенных к июльским забастовкам. Время от времени в цехах появлялись какие-то листки, которые ходили по рукам. Хотя рабочие отмахивались от них и говорили:
– Видали мы это… лучше посмирней сидеть, а то как раз зашумишь…
И всё-таки те же рабочие, которые говорили это, иногда останавливались и вслушивались в разговоры других, если речь заходила о тяжести жизни.
Один раз после смены Алексей Степанович, закуривая в уборной папироску, сказал:
– Что-то к нам давно на машинах не приезжали. Работы навалили, а проведать никто не проведает. Скушно стало.
– Они проведывали, когда мы нужны были, – угрюмо отозвался вихрастый, чахоточный рабочий, Сергей Кочетов.
Это был один из тех, что вечно озлоблены, раздражены и только ищут случая, чтобы вылить это озлобление в словах, всегда направленных мимо цели. И часто человек, думающий в их недовольстве найти основание для привлечения их к активному действию, наталкивается на неожиданный отпор.
– Что ж, значит, без нас обойдутся?
– По-ихнему выходит так, – ответил Кочетов, ни на кого не глядя. Он торопливо курил папироску, жадно затягиваясь и поминутно сдувая пепел. Его тощая грудь дышала тяжело, и впалые глаза горели беспокойным огнём. Волосы, жёсткие, нечесаные, торчали сухими вихрами.
– А вот п о н а ш е м у-т о как? – сказал Алексей Степанович, обращаясь к Кочетову и подмигнув в то же время своему соседу.
– По-нашему?… По-нашему – сиди и молчи, да спину гни, покамест тебе по ней не накостыляли. Вот что «по-нашему».
Он бросил докуренную папироску в вонючий угол и плюнул. Потом недоброжелательно посмотрел на Алексея Степановича и прибавил:
– Очень заноситесь, а куда сядете – ещё неизвестно. Мы уж учены… Прошлый раз так-то приходили нас подымать… какие дураки, поверили, сунулись, – теперь ищи их…
– А что ж мы за люди такие, что нас другие должны подымать, а сами подняться не можем?
– Куда это подняться? – спросил Кочетов, исподлобья недоброжелательно взглянув на Алексея Степановича, как на врага.
– А вот, к примеру, нас милостью подарили – отчисление от заработка в пользу Красного креста сделать предложили, что ж, нам так бы и сидеть?
– Иной раз лучше и посидеть…
– …для спасения души на других поработать, пока совсем из паров не выйдешь и тебя на улицу выкинут, – договорил, опять подмигнув своему соседу, Алексей Степанович. – Кому война, а кому – масленица.
– Чья бы корова мычала, а твоя молчала, – сказал Кочетов.
Он взялся рукой за стену и, согнувшись в углу, надрывался от кашля. Потом выпрямился и с покрасневшими от напряжения глазами опять вполуоборот недоброжелательно покосился на Алексея Степановича.
– А что? Почему моей корове молчать?
Кочетов, собравшийся было уходить из курилки, вдруг совсем повернулся к Алексею Степановичу и смотрел на него некоторое время, как бы собираясь ему сказать кое-что такое, от чего он сразу прикусит язык, но не сказал.
– А что? – повторил Алексей Степанович. Он откинул волосы, взяв папироску в угол рта и прищурившись от дыма.
– То, что сам не очень-то воюешь. Тебе не тут, а на фронте место.
И так же, как в деревне, Алексей Степанович увидел обращённые на себя скрыто насмешливые взгляды, каким смотрят на человека, поддетого ловким и неудобным для него вопросом. Но он, нисколько не смущаясь, спокойно и иронически глядел на Кочетова, как будто не он был в затруднительном и глупом положении, а сам Кочетов со своими замечаниями. И это сейчас же передалось слушателям. Они уже с интересом ждали, что ответит Алексей Степанович. Некоторые, собравшиеся было уходить, останавливались в дверях.
– А что ж я дурак, что ли, за чужие капиталы шею подставлять? И без того немало таких набралось. Ты, если бы здоров был, небось, вприпрыжку бы на фронт побежал.
– А ты, значит, своё драгоценное бережёшь, да этим ещё похваливаешься?
– А как же, здоровье беречь надо. Они ведь моего отца с матерью кормить не будут, а ежели я захвораю, меня на пенсию не возьмут и в автомобиле возить не будут.
– Правильно! – с удовольствием сказали несколько голосов. – Ежели только спину гнуть, а об себе не думать, так и околеешь – никто спасибо не скажет.
Видно было, что каждый, хоть косвенно, рад был принять участие в разговоре и стать на сторону того, кто защищал свои интересы.
– Моё драгоценное, глядишь, ещё и на общую пользу пригодится.
– Долго ждать.
– Не знаю. Может, придётся и подождать, пока у вас глаза на место станут.
В курилку заглянул старший мастер Иван Семёныч с серебряной цепочкой на жилетке и посмотрел подозрительно на замолчавшего при его появлении Алексея Степановича.
– Ты что тут разглагольствуешь?
– Так, про своих родителей рассказываю, Иван Семёныч, – сказал Алексей Степанович, невинно и беззаботно встряхнув волосами, проведя по ним рукой.
Иван Семёныч, видя по сконфуженно улыбающимся лицам, что разговор был не о родителях, взглянув ещё раз на Алексея Степановича и на всех бывших в курилке, сказал:
– Умны очень стали, как бы голов не растеряли.
А потом его ждал конфуз… Кто-то на каменной стене цеха написал мелом:
«Товарищи! Если Россия победит, нам лучше не будет. Нас ещё больше будут давить».
Иван Семёныч, плохо видевший, как ни в чём не бывало разгуливал мимо этой надписи. В это время как раз пришёл фабричный инспектор. Рабочие уткнулись в свои станки и притихли, когда увидели фигуру инспектора, ошеломлённо смотревшего на эту надпись.
Инспектор подозвал к себе Ивана Семёныча и спросил:
– У тебя всё в порядке?
Иван Семёныч, почувствовав в тоне инспектора что-то недоброе, стоя под самой надписью, водил глазами по всем направлениям, как бы ища неисправности.
Тогда инспектор указал пальцем на стену.
Иван Семёныч торопливо надел очки, и вдруг его шея стала красной, как кирпич. Он сам бросился стирать эту надпись, а инспектор, посмотрев на него, сказал:
– Очки-то только по праздникам, должно быть, надеваешь?







