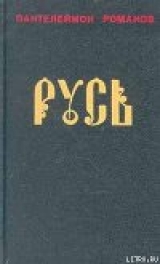
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 46 страниц)
XXI
В тылу не терпели таких лишений, как на фронте. Установившееся затишье позволило даже совсем забыть о войне и по-старинному встретить и проводить широкую масленицу.
В этом году всю масленую неделю продержалась настоящая зима. В Москве по утрам, когда над бульварами занималась заря и открывались первые булочные, на улицах лежал свежий, выпавший за ночь снежок, схваченный лёгким морозцем.
Днём всю неделю пахло блинным чадом. Народ кишел в Охотном ряду перед магазинами и лавками, на открытых дверях которых висела мороженая рыба и – головой вниз – чёрные, краснобровые глухари. А продавцы с лотками занимали весь тротуар от Тверской до трактира Егорова.
И весь Охотный, с растолчённым снегом, занавоженными извозчиками дворами, вероятно оставался таким, каким был он сто лет назад, с низенькими домами и магазинами, и только в конце его, на углу Большой Дмитровки, возвышалось огромное здание Российского благородного собрания.
Купцы, обыкновенно пившие за конторкой чай, и шустрые приказчики теперь сбивались с ног, бросаясь от одного покупателя к другому, и, стараясь угодить, сами выносили плетёные корзины с навагой, икрой и осетриной в дожидающиеся у магазина сани.
На Страстной площади перед монастырем по вечерам длинной вереницей стояли лихачи. Кучера в синих до земли кафтанах, с рядом серебряных пуговиц на толстом подкладном заду обходили своих рысаков, поправляя им чёлки и смахивая веничком из конского волоса напорошившийся на сиденье и полость мелкий снег.
То и дело подходил какой-нибудь загулявший купец или приехавший с фронта военный и нанимал лихача. Высокие санки с узким задком из плетеной, залакированной соломки неслись вдоль Тверской. Рысак в попоне или голубой сетке, раздувая ноздри и пыхая паром на шибкой, размашистой рыси, бросал комки снега, стучавшие в передок. А седоки, спрятав лица в мех воротников, отдавались быстрому бегу саней между двумя рядами освещённых магазинов, сверкавших морозными узорами окон.
На Девичьем Поле толпился простой народ, для которого тут были устроены развлечения – карусели, расшитые и разукрашенные позументами. Мальчишки с красными от мороза щеками, мелькая в сливающемся круге, лихо неслись на диковинных драконах и конях.
Но на первой неделе поста с самого понедельника распустило. С крыш полились дождём капели. Рыхлый снег посерел и замесился под ногами.
Унылый великопостный звон нёсся над старой Москвой. Старушки с исплаканными лицами, покрытые чёрненькими платочками, с костылями в руках уже плелись в церковь к службе. Иногда к церковной паперти подходил толстый купец с запухшими глазами и с покаянным вздохом молитвенно поднимал сложенные в щепоть жирные пальцы.
А торговцы в Охотном ряду на соблазн говельщикам уже выставили новые, великопостные приманки – всякие грибы и соленья в кадках, острые маринады из вишен и слив. В промасленной бумаге лежали большие брусья желтоватой ореховой халвы или белой кавказской, что откалывается, как мрамор, и пристаёт к зубам.
Какой-нибудь мастеровой в прожжённой шапке, проходя мимо, говорил:
– Господам и купцам круглый год масленица: одна кончилась, они другую начинают.
– Они и из войны себе масленицу сделали.
А в родительскую субботу старушки с узелочками потянулись на кладбище – поминать родителей.
В Вербное воскресенье на Красной площади вдоль всей Кремлевской стены ставились палатки, около которых толклись толпы народа. Над головами, колеблемые ветром, качались на нитках связки красных воздушных шаров, на которые разбегались глаза у ребятишек.
В воздухе стоял надрывный писк всяких свистулек и резиновых надувных чертей. Разносчики с ящиками на ремнях толклись в толпе и продавали всякие великопостные чудеса.
А по чистому пространству площади, мимо памятника Минину и Пожарскому, двигались непрерывной вереницей собственные экипажи: выезжали на гулянье и на всенародный смотр богатые московские невесты.
Но в этом году заметно меньше было их: большинство ушло в сёстры милосердия, а потом и выезды эти стали уже выходить из моды.
Проводив Вербное воскресенье, Москва начинала ждать Пасху.
XXII
1 апреля в царской ставке, помещавшейся в доме могилёвского губернатора, был созван военный совет, на котором присутствовали сам царь, генералы Алексеев, Эверт, Куропаткин и вновь назначенный вместо Иванова главнокомандующий Юго-Западным фронтом Брусилов.
Члены совета собрались в гостиной губернаторского дома и тихо переговаривались, поглядывая на золоченые фигурные ручки высоких дверей царского кабинета.
Отяжелевший Куропаткин, злосчастный герой японской войны, стоял у окна и, заложив большой палец за ремень на толстом животе, тихо разговаривал с новым главнокомандующим Юго-Западного фронта Брусиловым.
Брусилов, со своим узким, точно сдавленным, тонким лицом и узким высоким лбом, вежливо, но нехотя отвечал на вопросы старого генерала. Он, видимо, имел, что сказать в совете, и не хотел высказываться раньше времени в частной беседе.
Командующий Западным фронтом генерал Эверт угрюмо стоял в стороне и, беспокойно играя за спиной пальцами, смотрел в окно.
Вдруг ручка у двери повернулась. Куропаткин, с таким вниманием выспрашивавший Брусилова, сейчас же повернулся от него в сторону двери, недослушав и потеряв всякое внимание к собеседнику.
Генералов пригласили в кабинет.
Там было три человека: Николай II, Алексеев и великий князь Сергей Михайлович, занимавший должность инспектора артиллерии.
Николай в простой гимнастёрке с Георгием, с несколько помятым от сна лицом, стоял у письменного стола и, наклонив немного набок голову, вяло и недовольно слушал, что говорил ему его начальник штаба.
Сергей Михайлович, имевший родственное сходство с царём, как свой человек, стоял у окна и смотрел в чёрный безлистый сад.
Император поздоровался с пришедшими, и все, подойдя к другому, большому столу, на котором была разложена карта, стали рассаживаться, осторожно передвигая стулья.
Алексеев, со своим солдатским лицом и прямыми усами, как хороший слуга, заботливо подвинул по сукну стола колокольчик ближе к царю.
Но Николай, подвинув колокольчик обратно, сказал:
– Ведите заседание вы.
Ничто так его не утомляло, как председательствование в заседаниях, где требовалось длительное напряжённое внимание, тем более сейчас, когда у него было ещё не разошедшееся дурное, после сна, настроение и он украдкой часто зевал, не разжимая челюстей, отчего на глазах выступали слёзы.
Алексеев поклонился и начал докладывать о том, что во исполнение обязательств, принятых в Шантильи, русские войска должны перейти в общее наступление в помощь союзникам.
Николай сидел, сложив руки и остановив заспанный неподвижный взгляд на чернильнице.
– Отеческому сердцу вашего величества придётся ещё раз испытать великую скорбь, – говорил Алексеев, – так как новые сотни тысяч лучших сынов родины должны будут сложить головы в этом гигантском наступлении.
Николай, не отрывая глаз от чернильницы, покивал головой.
– Я позволил бы себе предложить начать наступление на всех фронтах одновременно, – продолжал Алексеев, – причём главным центром наступления должен быть Западный фронт генерала Эверта, с поддержкой генералом Куропаткиным на Северном.
Угрюмый Эверт, сидевший совершенно прямо, не изменил выражения лица и не взглянул на докладчика.
Куропаткин, сложив пухлые руки с обручальным кольцом на столе, смотрел на Алексеева и слегка поклонился, когда тот упомянул о нём.
Брусилов сидел, опустив глаза, как сидит ученик, когда учитель называет имена успевающих, а его обходит молчанием.
Алексеев продолжал:
– Фронт генерала Брусилова имеет второстепенное значение и предназначается вначале для оборонительных действий.
Брусилов быстро поднял голову.
– Для оборонительных? – спросил Николай и, подумав, кивнул головой. – Хорошо.
Когда Алексеев кончил говорить, слово взял Брусилов. Он тоже упомянул о громадных жертвах и скорби отеческого сердца царя, но позволил себе заметить, что его Юго-Западный фронт как раз обладает сейчас достаточной боеспособностью и годен для наступательных, а не для оборонительных только целей.
– Для наступательных? – спросил Николай и, с минуту подумав, кивнул головой. – Хорошо.
– В особенности, ваше величество, теперь, когда, в большом количестве стали подвозить снаряды. – И он сделал лёгкий поклон в сторону Сергея Михайловича, который, занявшись своими ногтями, сидел, опустив голову. Тот поднял глаза, но сейчас же отвёл их в сторону.
– Я осмелился бы предложить начать наступление именно Юго-Западным фронтом, – сказал Брусилов, – и определить днём наступления первое мая.
– Чем скорее, тем лучше. Запишите, что первого мая, – обратившись к Алексееву, проговорил Николай.
– Я, к сожалению, не могу приготовить свой фронт к этому сроку, – сказал Эверт угрюмо, – я прошу отсрочки до двадцатого мая.
Алексеев озадаченно посмотрел на царя.
Тот хотел в это время зевнуть, но, под взглядом своего начальника штаба, удержался и крепко сомкнул челюсти.
Он только молча кивнул головой, выражая этим своё полное согласие на отсрочку до двадцатого мая.
Судьба многих сотен тысяч жизней была решена. И грандиозное наступление русских войск от Карпат до Рижского залива было назначено на двадцатое мая.
Вдруг император досадливо поморщился. Алексеев с тревогой посмотрел на него. Николай вспомнил, что он опять не отправил императрице фотографических карточек своей работы и что нужно сегодня же отослать с курьером, так как императрица второй раз напоминала. Он просто не понимал, как он мог второй раз забыть об этом.
Император, как бы боясь, чтобы его не задержали каким-нибудь вопросом, встал и молчаливым кивком головы отпустил генералов.
XXIII
Черняк несколько раз писал Ирине по адресу её сестры, но ответа не получал.
Потом Анна получила от Глеба телеграмму о гибели Ирины и, после бесплодных поисков, примирилась с её смертью и только просила Глеба приехать, бросив службу, так как она не могла больше переносить гнетущего одиночества.
Глеб приехал и выложил всё Анне о своих отношениях с покойной Ириной, тем более что теперь всё равно спрашивать не с кого было.
Он сказал, что эта преступная с точки зрения обывательской морали связь была в н у т р е н н е для него необходима и знаменует собой некоторый этап в его жизни.
Анна, уже привыкшая к этим сюрпризам, несколько минут посидела в состоянии столбняка, и дело кончилось тем, что ей пришлось утешать Глеба, на которого тоже напал столбняк. Он никогда не мог видеть угнетённого состояния жены и вместо того, чтобы успокаивать её, сам впадал точно в такое же состояние.
Однажды вечером, когда Глеб ушёл по делу, послышался звонок, который странной тревогой отозвался в сердце Анны.
Она слышала, как прислуга, старая Даша, жившая много лет у них, прошла через столовую в переднюю открывать дверь. Потом на момент была тишина, и в следующий момент послышался крик Даши.
Анна бросилась в переднюю.
Там стояла сестра милосердия в чёрной косынке, с худым, бледным и заострившимся, как после тяжёлой болезни, лицом.
Это была Ирина.
Анна не знала, что говорить. Она бросилась к сестре и только молча осыпала поцелуями её щёки, глаза, руки.
– Жива!.. жива, здесь, со мной!.. – только твердила она между поцелуями. А в стороне стояла Даша, утиравшая фартуком слёзы.
Когда обе несколько успокоились, Ирина стала рассказывать о себе.
– Я была тяжело больна, лежала в Киеве… полгода уже, как выздоровела, но я не хотела… не могла показаться в тех местах, где есть люди, знающие меня. Потом я решила, что с тем предательством, какое у меня на совести, оставаться не могу…
Анна схватила Ирину и прижала к своей груди руками, как бы желая не дать ей говорить, и сказала:
– Я уже знаю об этом предательстве. Всё это вздор. Сейчас главное то, что ты жива.
В простом сердце Анны в самом деле не было места ни гневу, ни ревности. Она уже привыкла к изменам Глеба. Она всё верила в ценность мятущейся души мужа и любила его, как мать любит своего ребёнка, который доставляет ей только одно горе.
Первым движением её было утешить, успокоить Ирину, убедить её в том, что она слишком преувеличивает свою вину. Анна знала Глеба и знала, что трудно не поддаться завораживающему действию его воспаленной мысли. Анна знала и давно примирилась с тем, что он не любил её самое как женщину, и был вопрос, любил ли он хоть кого-нибудь-то в своей жизни.
Если же он, вопреки ожиданиям, действительно полюбил Ирину и если она своей богатой душой смогла дать что-то большое, то Анна могла только быть рада этому, так как Ирину она любила почти так же сильно, как Глеба.
И разве теперь, в таком катаклизме, можно всё мерить старыми понятиями? Ведь все живут не так, как хотят показать это себе и другим. Все лгут перед самими собою и перед другими. А они не будут лгать. Только и всего.
Все эти мысли в одно мгновение промелькнули в голове Анны.
И она, взяв голову Ирины своими руками и глядя ей в глаза, проговорила:
– Если бы ты сказала это мне сразу, тогда, когда я приезжала к вам на фронт, то никакого ужаса не пережила бы, потому что никакого ужаса в этом и нет…
– Как нет? – тихо спросила Ирина.
– Так. Ты любишь Глеба и меня. Я люблю Глеба и тебя. Мы все любим друг друга. А если так, значит, это естественно.
Ирина сначала смотрела на сестру молча, потом вдруг опустилась на пол у кресла, в котором сидела Анна, и стала целовать её колени и руки.
– Я решилась приехать к тебе только тогда, когда сказала самой себе, что это кончено и похоронено.
– Ничего не надо хоронить. Если что живёт, то пусть живёт, – сказала Анна и вдруг кинулась в переднюю, так как там раздался звонок. Это пришёл Глеб.
Анна бросилась к нему на шею и так туго прижала его голову к себе, что даже Глеб, не очень чуткий к переживаниям других, решил, что настроение жены имеет какую-то особенную причину.
Так обнимают пришедшего человека, когда для него есть неожиданный и радостный сюрприз.
Потом она убежала, ничего не сказав, в спальню, где сидела Ирина. Она обхватила шею Ирины руками и, повернувшись к входившему Глебу, смотрела на него.
Глеб был потрясён – и тем, что увидел Ирину живою, и тем, как Анна отнеслась к ней, когда узнала всё.
Он стал говорить, что этот день самый счастливый, самый незабвенный, так как знаменует собой совсем новый, совсем исключительный этап в его жизни, что побеждено самое тёмное в душе человека: ревность, тот предрассудок, который лишает человека возможности возвышающих переживаний и взлётов.
– Вот истинно новое завоевание! – воскликнул он. – И ты оказалась на такой высоте, – сказал он, обращаясь к жене, – на такой высоте…
Он не кончил и махнул рукой.
Анна, глядя на него с улыбкой, сказала:
– Когда вся цель в любимом человеке, тогда нет ничего легче сделать всё, чтобы он был счастлив. Поэтому здесь никакой особенной заслуги с моей стороны нет. Я одна не могла дать тебе полноты, потому что некоторые стороны твоей души не находили во мне того, что было нужно тебе. Мы вдвоём с Ириной, надеюсь, сможем дать ту полноту, какая тебе нужна.
– Слышите, вы, мещане?! – крикнул в восторге Глеб куда-то в пространство, повернувшись лицом на запад, где заходило повернувшее уже на весну солнце.
Ирина сидела, бледная, с глубоко ушедшими глазами, и молча смотрела на Глеба каким-то странным взглядом, которого он не замечал в своём подъёме.
– Я скажу откровенно. В последнее время своей близости к Ирине я чувствовал, что начинается какое-то повторение, что её и моё чувство притупляются обыденностью отношений. И вдруг новый, неожиданный взлёт. Это необычайно! Это изумительно! Ведь почему я часто её мучил, – сказал Глеб, указав на Анну и нежно привлекая её к себе, – почему я метался, уходил из дому? Потому что я никогда не мог жить в спокойных, неподвижных низинах жизни. Что сказали бы наши бабушки, тётушки и добрые соседи, если бы они увидели нас троих лет десять тому назад!
Глеб говорил это вдохновенно, ходя по комнате большими шагами, как будто он находился перед многочисленной аудиторией.
Ирина сидела молча и смотрела на него с прежним выражением.
– Да, – сказала, вдруг вспомнив, Анна, обращаясь к Ирине, – на твоё имя здесь несколько писем, они пришли уже давно.
Она принесла эти письма. Ирина, не распечатывая, положила их на диван возле себя, потом ушла в свою комнату.
XXIV
Ирина после знакомства с Черняком странно воспринимала свою встречу с Глебом.
То, что прежде привлекало её в нём, – беспокойная внутренняя жизнь, вечные метания и большая эмоциональность, – теперь вдруг представилось ей совсем в другом свете.
Когда он ходил в первый вечер по комнате и говорил, ей вдруг стало неловко за него.
Так же ей было неловко при каждом повышенно-ласковом его обращении к ней в присутствии сестры. Как будто он всё хотел кому-то показать, какие у них необыкновенные отношения.
Она уже ни к одному его слову не могла отнестись с серьёзным вниманием, с каким она слушала его вначале.
Так бывает, когда мы при первом знакомстве примем человека за умного и глубокого, высказывая ему свои самые сокровенные мысли, и вдруг однажды, по какому-нибудь неуместному или слишком высокопарному слову его, увидим в нём просто недалекого человека.
Тогда начинается неприятное ощущение неловкости от того, что наш собеседник не подозревает изменившегося к нему отношения и продолжает с прежним подъёмом высказывать свои умные мысли, считая нас своим единомышленником. А мы уже с поражающей отчётливостью видим его ограниченность, отсутствие минимальной чуткости и способности оценки, кому и при каких обстоятельствах можно говорить то, что он говорит. И с чувством стыда вспоминаем о том, как наивно и с каким волнением высказывали ему свои мысли.
Когда Глеб говорил о войне, о возможной революции, она видела, что и война и революция имеют для него значение постольку, поскольку они помогут ему разрешить какие-то «проклятые» вопросы, освободиться от гнёта морали и мещанства.
При этом ей представлялся заострившийся профиль Черняка на лазаретной койке, с неподвижно устремлённым перед собой взглядом.
Для этого человека не существовало проклятых личных вопросов. Для него был один, действительно п р о к л я т ы й вопрос, который должен быть разрешён во что бы то ни стало. Это вопрос о том, как соединить людей для того, чтобы они восстали против строя, порождающего такие ужасы, как взаимное истребление людей, чтобы человечество не видело больше разбитых черепов и раздавленных колёсами пушек рук и ног.
Перед Пасхой Ирина поехала в деревню к своим старикам, чтобы в уединении осмыслить и разобраться в том, что происходило с ней.
В её переписке с Черняком напрасно было искать с обеих сторон следов какой-либо влюблённости. Знакомство это имело для неё то значение, что указывало на возможность иной, более широкой жизни, чем жизнь личная с её провалами и разочарованиями, приводящими к полной пустоте. Она почувствовала, что нельзя строить своей судьбы на вере в одного человека и на отдаче ему всех своих сил.
Она теперь ясно чувствовала, что её судьба должна быть совсем другой, чем судьба её сестёр Анны и Маруси, которые всё своё счастье полагали в любимом человеке. Они обладали, очевидно, той спасительной ограниченностью, которая делала их жизнь уютной и простой, как и жизнь её стариков, проживших всю свою жизнь в старом деревенском доме.
Ирина приехала на свою станцию ранним апрельским утром и тут впервые за два года ощутила радость от безмятежного, какого-то в е ч н о г о вида родных полей. После лазаретной крови, ран и страданий было странно-радостно увидеть те же, что и много лет назад, зеленеющие поля, свет утреннего солнца и бесконечные дали, сверкающие от утренней росы, с деревнями, мельницами и церквами на горизонте.
Маленькая станция с дощатой платформой, обращённая лицом к восходу, как бы грелась в лучах только что взошедшего весеннего солнца.
Безлистые ещё деревья бросали от себя прозрачные тени, и прилетевшие грачи ломали на гнёзда хрупкие, уже налившиеся соком ветки ракит, наполняя воздух своим непривычным после зимы карканьем.
У коновязи под берёзами стояла знакомая рессорная коляска, обитая на сиденье сукном и запряжённая тройкой лошадей с коротко подвязанными хвостами.
Колёса скользили и раскатывались на подмёрзшей за ночь грязи дороги, и лошади, нажимая боками на оглобли, осторожно пробирались по задворкам деревни, где ещё косогорами лежал не растаявший под навозом снег и лёд.
А когда выехали на большую дорогу, лошади бодро взяли крупной рысью и, пофыркивая, побежали навстречу потянувшему свежему утреннему ветерку. От них летела линявшая шерсть и приставала на чёрное сукно весеннего костюма.
Колеи бесконечно широкой большой дороги ещё белели в низинах пленкой тонкого льда, который со звонким стеклянным хрустом продавливался колёсами и чавкавшими в весенней грязи ногами лошадей.
По сторонам дороги зеленели и сверкали капельками росы ещё наполовину затопленные весенней водой озими. Впереди на чистом высоком небе стояли лёгкие, всё уменьшающиеся барашки облаков. И стволы берёз длинной чередой уходили вдаль.
Родной дом с виду был всё тот же. Так же издали с большой дороги виднелся в просвет аллеи его высокий фронтон с полукруглым слуховым окном, старые облупившиеся колонны у подъезда с круглым цветником, в котором уже виднелась воткнутая лопата садовника.
Те же тёплые сени и большая парадная лестница наверх с венецианским зеркалом на площадке и с матовыми шарами абажуров по сторонам.
Отец был всё такой же величественно высокий, с военной выправкой, но уже заметно начавший горбиться. Его орлиный нос, на котором, как всегда неловко, сидело пенсне, заострился.
Он, видимо, старался сдержать волнение и преувеличенно сурово ворчал своим баском на седую, в буклях Марью Андреевну, которая не давала ему расспросить дочь о войне и всё перебивала его, поминутно целуя Ирину и держа её руку в своих старческих сухих руках.
Марья Андреевна ругала полководцев и в особенности мужиков за то, что они бегут с фронта, терпят поражения и теряют былую славу России.
Ирине были неприятны эти слова матери, но она не возражала ей, зная, что от этого не будет никакого толку.
Зато отец обрадовал её своими взглядами. Он, махнув рукой на слова жены, сказал:
– Эта слава дорого обходится. Лучше бы бросали, пока не случилось чего похуже.
А потом Ирина поняла, что слова отца «дорого обходится» сказаны им совсем не в том смысле, в каком она думала, то есть не в смысле потери человеческих жизней, а в несколько другом: у отца было громадное имение и масса хлеба, который, оказалось, нельзя было в этом году сбыть за границу благодаря закрытию Дарданелл.
Ирина ходила по дому и всеми силами хотела и не могла найти здесь той прелести, какую она знала и представляла себе по детским воспоминаниям.
А главное, неприятны были отсталые, наивно-эгоистические барские суждения отца и матери. Она с детства привыкла считать отца добрым, бескорыстным, благородным. Ирина всегда гордилась этим, как исключительной и бесспорной принадлежностью отца. А теперь в его суждениях, когда он говорил о плохо сражающихся м у ж и к а х, проглядывали черты такого тупого, барского бессердечия, как будто он говорил не о людях, а о скоте, с которым обращаются слишком снисходительно.
Ей было больно признать, что суждения отца ничем теперь не отличаются от суждений любого черносотенца. Почему так случилось? Неужели он и прежде был такой?
Ирине казалось, что и вся здешняя жизнь, со строго придерживавшимся обиходом дома, со старичком-лакеем за обедом, со строгой точностью в распределении дня, носит на себе отпечаток впервые обнаруженных ею свойств стариков-родителей.
Всё здесь было так, как десять лет назад. Жизнь уходила вперёд, а обитатели этого дома уходили назад, сами этого не замечая.
Отец так же, как десять лет назад, спал час после обеда, потом в короткой шубке, обшитой барашком, в перчатках и с палкой в руках отправлялся в парк, где ходил по одному и тому же месту.
Когда наступила великая суббота, в доме началась предпраздничная уборка.
Марья Андреевна, строгая и величественная в своих седых буклях, сама обходила комнаты и проверяла чистоту бронзовых ручек на белых высоких дверях и медных отдушниках, которые чистили бабы суконкой с мелом.
Из кухни доносился раздражающе-вкусный пасхальный запах куличей. И в окно кухни виднелось яркое пламя с вечера затопленной русской печки.
В прозрачном, чутком весеннем воздухе ясно слышалось журчание застывающего к вечеру ручейка в овраге. Сквозь голые вершины осинника виднелась потухающая заря, а безлистые макушки осин стояли в торжественной неподвижности и тишине.
Ирина всеми силами старалась вызвать в себе прежнее детское отношение ко всему этому. Но не могла. Она поминутно ловила себя на тайном раздражении против матери. Это раздражение вызывали в ней наивная убеждённость и барская серьёзность Марьи Андреевны, с какой та следила за убиравшими дом горничными. Но и в то же время в каком-то новом для себя свете Ирина видела этих тупо-покорных горничных, которые испуганно и молча выполняли все приказания.
Перед отъездом Ирина получила письмо от Черняка, в котором он просил её зайти в Петербурге к его жене Маше и познакомиться с ней.







