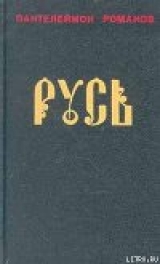
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 46 страниц)
Солдаты сначала робко, потом смелее начали нырять в избы. Один показался из сенец, что-то неся в полй шинели и жуя на ходу.
– Где нашёл? – послышались вопросы подходивших солдат.
– Вот там, в подвале.
– Это что же, грабёж?… – крикнул возмущенно Савушка. – Брось сейчас же!
Солдат испуганно опустил руки, и из полы шинели покатились на землю антоновские яблоки.
– А что ж нам с голоду, что ли, подыхать? – сказал угрюмо чёрный солдат: – Где кухни-то? Их теперь с собаками не сыщешь. Что ж мы работаем, работаем, а жрать ничего не моги? – говорил он, как рабочий на покосе, окончивший свою полосу и вместо обеда получивший выговор от хозяина.
Савушка, покраснев, отошёл.
Около крайней избы стоял полковник с обвисшими после бессонной ночи щеками и кричал на офицера, стоявшего перед ним с рукой у козырька:
– Где люди? Извольте собрать людей! Это не войско, а кабак!
Офицеры бросились по избам искать солдат. Но те только делали вид, что слушаются, и, повернув за какой-нибудь угол, опять исчезали. И у всех был виноватый вид и прячущиеся глаза. Казалось, что их влекла неодолимая сила в эти оставленные жилища, где можно достать даром какую-нибудь вещь.
Савушка вдруг с тревогой вспомнил о Черняке. Разыскивая его, он заглянул в избу и увидел лежащих на полу трёх, очевидно, тяжелораненых немцев. У одного из-под накинутой на него шинели натекла лужа чёрной крови на полу. Он с усилием приоткрыл свои белёсые ресницы и едва слышно прошептал:
– Тринкен…
Савушка оглянулся и зачерпнул кружку воды из стоящего на табуретке ведра.
Раненый слабо и жадно пил, потом поднял глаза на своего врага и, взяв его руку своими влажными, горячими руками, поцеловал её, прежде чем Савушка успел её отдёрнуть.
LXIV
Черняк со своей ротой был направлен по опушке леса в обход деревни. Рота столкнулась с какими-то другими частями. Слышались только крики, беспорядочные выстрелы, и не слышно было собственного голоса.
Наконец солдаты ворвались в оставленную деревню. Посредине деревни раздался оглушающий, страшный удар, треск, крики. От места удара в разных направлениях бежали с испуганными, бледными лицами солдаты. Они прятались за углы, за ворота, сбиваясь, как овцы, вместе.
– Не собираться в кучи! Разойдись! – кричал на них бледный офицер, с глазом, завязанным белым платком.
За домом с палисадником спешно устанавливали орудие. Через минуту оно дёрнулось назад, оглушив близко стоявших солдат.
Как бы в ответ ему, посередине деревенской улицы взвились со свистом пыль, щепки, и, вместе с оглушающим резким ударом, что-то засвистело по всем направлениям.
Солдаты с выражением дикого, животного ужаса бросались за постройки, прижимаясь к земле, и только некоторые из-за углов, припав на одно колено, стреляли в том направлении, откуда каждую минуту, разрезая со свистом воздух, проносился снаряд и вздымал кверху пыль, кирпичи и щепки.
По разрозненным кучкам солдат пробежала волна растерянности. Батарея перестала работать и замолкла.
– Снарядов нет!.. – крикнул кто-то в общем грохоте выстрелов и человеческих стонов, и эти слова услышали все.
– Отходить… отходить! – послышались крики.
По полю с той стороны, откуда летели снаряды, показались отступающие солдаты. И как только засевшие в деревне увидели их, побросали ружья и, спотыкаясь, бросились через плетни и огородные грядки.
– Остановитесь! Остановитесь! Спокойствие! – кричал Черняк, но, увлекаемый общим потоком, побежал вместе со всеми.
– Сила страшенная прёт! Крышка теперь всем! – крикнул на бегу солдат, перегонявший Черняка, но сейчас же свалился с подвернувшейся ногой и остался неподвижен.
Черняк перепрыгнул через него. Он помнил, как бежал через поле, как ему мешал смотреть, налипая на глаза, крупный первый снег, как вокруг него падали люди и взвивались столбы земли. Вдруг его ослепил яркий огонь. Звука разрыва снаряда он не слышал. У него подогнулись ноги, как будто он неожиданно провалился в яму. Схватившись за бок, он упал и, теряя сознание, произнёс вслух слова, тронувшие его жалостью к самому себе:
– Теперь ты свободна…
Он очнулся от ощущения холода и с усилием открыл один глаз. Вверху было ровное серое зимнее небо, а кругом поле с только что выпавшим, молодым снегом.
Отовсюду слышались человеческие стоны – тягучие, безнадёжные.
Черняк открыл другой глаз и сделал усилие повернуть голову. На широком пространстве снежного поля, которое упиралось в сосновый лес, виднелись продолговатые кучки снега, как бывает, когда вывозят в поле под зиму навоз и его покрывает пухлым слоем выпавший за ночь первый молодой снег.
Одна из этих кучек, налево, шагах в пяти от Черняка, вдруг зашевелилась, и с неё мягкими пластами начал спадать снег. Черняк, скосив глаза, посмотрел себе на грудь, – и он был так же в длину тела покрыт толстым снегом.
Человек уже поднялся и стал на колени. Шинель с разрезом назади завернулась ему на голову и перевешивала его. Он оставался неподвижным несколько времени в этом положении.
Черняк с каким-то странным вниманием смотрел на натянувшиеся сзади штаны этого человека и подмётки сапог с гвоздями, обращённые к нему, и ждал следующего его усилия. Тот некоторое время отдыхал, потом опять начал делать усилия поднять голову и освободиться от перевешивавшей шинели.
У Черняка было такое чувство тупого равнодушия, какое бывает, когда человек после тяжёлой болезни с беспамятством приходит в себя. Лёжа в постели, он безразличным, ко всему равнодушным взглядом смотрит на окружающие предметы и на наклонившиеся над ним лица родных. Только на голове чувствовался ледяной холод и в боку была тянущая боль.
Слева опять послышался стон, и Черняк увидел, как стоявший на коленях головой к земле человек медленно завалился на левый бок. Теперь Черняку была видна его спина с полоской бледно-жёлтой кожи между завернувшейся гимнастёркой и штанами.
Стон, уже непрерывный, надоедливый, мучил Черняка, он старался как-нибудь избавиться от него. Но всё, что он мог сделать, – это повернуть голову в другую сторону. И там перед его глазами было такое же ровное снежное поле и разбросанные по этому полю фигуры людей. Некоторые из них ворочались, ползали на четвереньках и опять падали. А в разных местах возвышались белые неподвижные кучки снега.
Его внимание почему-то привлекала мёртвая неподвижность этих кучек. Почти рядом с ним из снега торчала бледно-жёлтая рука, сжатая в кулак. На кулаке была шапочка нерастаявшего снега.
Черняку послышались голоса, которые странно выделялись из сплошных стонов. Ему хотелось только закрыть глаза и заснуть. Но мешали холод в голове и тупая тянущая боль в боку.
Он сделал усилие пошевелить правой рукой, и с рукава шинели свалились мягкие пласты снега.
– Живой ещё… – сказал чей-то голос.
Мягкие серые облака застелили глаза Черняка, и он потерял сознание.
LXV
В редком сосновом лесу был перевязочный пункт, состоявший из брошенной лесной конторы и старого сарая, в котором прежде складывалось сено с лесных полян.
Ещё с вечера западный край неба стал вспыхивать отдалёнными зарницами и доносилось тяжкое громыхание.
К ночи солдаты и санитары выбегали на опушку. Иногда ветром доносилась частая трескотня, и возбуждённому слуху казалось, что он улавливает какие-то крики или сплошной рёв голосов. Потом пошёл крупный снег, садившийся на рукава и ресницы. Поле побелело и подёрнулось туманом.
А наутро по снежной равнине белого поля, – где, может быть, ещё прошлой зимой выходил охотник с ружьём за спиной и рогом за поясом на первую порошу за зайцами, – на этом поле показались вереницей повозки и ниточки гуськом и в одиночку бредущих людей. Некоторые останавливались, ложились или падали.
И скоро на всём протяжении дороги виднелись лежавшие на снегу чернеющие кучки.
Раненые, подходя, всё больше и больше заполняли пространство под соснами между конторой и сараем, с бледными, землистыми лицами, с окровавленными и перевязанными марлей головами. Сквозь марлю выступали густо красневшие пятна крови с бледно-розовыми краями.
Одни стояли, другие сидели на пнях. Третьих санитары выгружали из саней и двуколок. Прибывали всё новые и с тоской оглядывали раньше прибывших, как изнемогающий от боли пациент оглядывает переполненную приёмную врача.
Санитары то уносили раненых на носилках в ворота сарая, то возвращались с пустыми носилками, на ходу вытирая мягким снегом руки, запачканные кровью.
Тут же стояли пленные немцы, с которыми заговаривали солдаты.
И когда немцы понимали и радостно кивали головой, на лицах слушателей появлялись умилённые, довольные улыбки.
Из сарая нёсся сплошной вой, уханье и иногда нечеловеческий захлёбывающийся рёв. Доктора в белых халатах, испачканных на животе кровью, с засученными до локтей рукавами, что-то делали на столах, где лежали голые люди.
– Не ори, – говорил чёрный горбоносый врач с измученным лицом и красными от бессонных ночей глазами. Он стоял перед лежавшим на спине тощим солдатом и что-то резал ножницами у него в развороченном животе. – Сейчас, сейчас, авось не умрёшь, – приговаривал он, делая торопливые движения и отбрасывая какие-то красные лохмотья.
Солдат глядел вверх над собой помутневшими глазами, у него тряслась нижняя челюсть и билась левая нога, которую держал, надавив обеими руками, санитар в синем фартуке.
Раненый опять закричал.
– Вот сейчас брошу, и будешь ходить с распоротым животом бабам на смех, хорошо это разве? Вот и всё дело, – заключил доктор, бросив последний кровавый кусок.
Санитары часто выносили тазы крови с ватой и какими-то кусками, выплёскивали их на снег, отойдя за угол сарая, а потом с тазом в руках останавливались и, видимо, желая дать себе хоть минутный отдых, смотрели на пленных и слушали разговор солдат с ними. Так кухарки выносят с заднего кухонного крыльца выплеснуть помои и останавливаются послушать разговор соседок на дворе.
А на соснах сидели слетевшиеся вороны и, опускаясь с ветки на ветку всё ниже, смотрели вниз на выплеснутые в снег кровавые куски.
Тут же, у опушки, солдаты, скинувши шинели и шапки, рыли длинную могилу, выкидывая на снег комки талой земли. Около них собралась кучка легкораненых и говорила, глядя машинально на работающие лопаты.
– Кончено дело, – говорил солдат с завязанной рукой. – Снарядов у него тыщи, прямо заливает, а у нас голые руки. Только начнём его переть, хвать – и нету больше. А ежели бы снаряды, ох, и расчесали бы, накажи бог!
– Вот нашим командирам пушки зарядить, это было бы дело, – отозвался солдат с завязанным марлей глазом. – А уж придёт время – зарядим, – прибавил он, потрагивая промокшую от крови марлю на глазу, и, с досадой оглянувшись на лазарет, откуда, ни на минуту не прекращаясь, неслись вопли, проговорил:
– У, черти! Ну чего они воют? Прямо жуть нагнали, по ночам спать нельзя стало.
– А вот ещё подваливают, – сказал другой солдат в измятой шинели, указав на вереницу подъехавших саней и двуколок, в которых лежали бледные, окровавленные люди. – Сваливали бы уж прямо сюда, – обратился иронически он к привёзшему санитару и, кивнув на могилу, подмигнул. При этом машинально взглянул под одну телегу и, отвернувшись, сплюнул: сквозь подстеленную солому и доски телеги на снег в нескольких местах капала длинными, тягучими, как сироп, каплями кровь, стекавшая из-под людей, лежавших кучей в телеге.
– Иной раз глядишь – ничего, а то так замутит, что того и гляди сблюёшь, – сказал он, утирая рукавом шинели рот.
– Да, небось, в чужую-то землю никому ложиться не хочется, – задумчиво глядя в могилу, проговорил солдат в шапке, у которого шинель была надета внакидку на одно плечо, и под ней виднелась, точно спелёнутый ребенок, забинтованная рука.
Он, сидя на пне у самой могилы, нагнулся и взял в руку комочек земли.
– Земля-то не так чтобы очень, – сказал он, растерев комочек в руке.
– Одно слово – неважная земля, – ответил рывший могилу солдат с приставшими ко лбу потными волосами. Он воткнул лопату в землю и сказал: – Дальше глинка пойдёт, а сверху – не разобрать что.
– Её бы раньше пойтить покопать, а тогда бы уж и воевать, – отозвался солдат в измятой шинели. – А то завоюем, а её бабам показать стыдно будет. Что ты уж больно глубоко роешь-то? У нас на Висле бывало так роют, что когда в темноте идёшь, так об руки, об ноги спотыкаешься: торчат из могилы в разные стороны.
– Для других постараюсь, может, за это меня отблагодарят – тоже когда-нибудь поглубже зароют.
Откуда-то появился солдат с вышибленными, очевидно, прикладом, зубами. У него был окровавленный рот и странно чернела дыра на месте выбитых зубов, когда он говорил.
Солдат с весёлой улыбкой ходил между ранеными, как на ярмарке, и быстро-быстро говорил, всё время блаженно улыбаясь и с хитрым видом прикрывая что-то у себя на груди.
– Что прячешь-то, Георгия, что ли, получил? – спросил один из раненых.
Солдат хитро захихикал и, как бы по секрету от других, наклонился к уху спросившего и быстро сказал:
– Георгия царской степени!..
Потом отступил на шаг, посмотрел и, уходя, опять хитро захихикал. На лицах солдат появились неуверенные улыбки; они переглядывались, не зная, позволительно ли в таком случае смеяться.
– Во вчерашней атаке, знать, тронулся. То-то жена обрадуется такому Георгию…
– Теперь страсть сколько таких. Этому хоть весело, а вон там под сосной сидит, тот так свихнулся, что жуть берёт: зубами на людей щёлкает, а сам дрожит весь и никого к себе не подпускает. Вот с таким пойди поживи.
Черняк лежал на той самой телеге, с которой капала кровь. Он лежал с открытыми глазами и видел перед собой сосны и чистый белый снег на крыше. В голове не было никаких мыслей. Он совсем не слышал стонов и криков, доносившихся из сарая. У него было только ощущение тишины. Но вдруг в это ощущение ворвалось что-то неприятное: низко над собой на ветке сосны он увидел ворону. Она, моргая белой плёнкой своих круглых глаз, смотрела на него, наклонив набок голову. Черняк зажмурился, чтобы не видеть этого неприятного, точно в кошмаре, круглого птичьего глаза. Но едва он закрыл глаза, как в ушах загрохотали выстрелы, послышались крики умирающих. Он с испугом открыл глаза и опять встретился с пристальным взглядом вороны.
Когда его принесли в сарай и отодрали присохшую на боку шинель, подошедший с окровавленным халатом врач поджал губы и, покачав головой, тихо сказал:
– Этого можно бы и не трогать…
Черняк потерял сознание.
Когда он очнулся, он с удивлением увидел перед собой белую стену, окно в сад и ряд кроватей с лежавшими на них людьми. Над ним склонилась девушка в белой косынке и сказала:
– Ну вот, слава богу. Вы три дня были без сознания.
Черняк слышал её голос как будто издалека, как будто в тумане, но нежный и ласковый звук этого голоса проник ему до сердца, и он с чувством какого-то успокоения закрыл опять глаза.
– Ирина Николаевна, что там? – спросил обходивший палату врач в белом халате.
– Он пришёл в себя.
Врач на это только безнадёжно махнул рукой и даже не подошёл к постели.
LXVI
Ирина приехала к Глебу на фронт в качестве сестры в конце октября, когда все дороги, все лазареты были завалены раненными под Лодзью.
Глеб, получив телеграмму, выехал её встречать один, без кучера.
Лазарет, в котором она должна была работать, расположился в покинутой польской усадьбе, а Глеб жил в конце местечка и занимал половину дома ксёндза.
Сам ксёндз жил в другой половине, отличавшейся педантичной чистотой в комнатах, с гравюрами Сикстинской мадонны, портретами Мицкевича и с большой фисгармонией.
Над фисгармонией висело большое чёрное распятие на стене. По вечерам ксёндз в длинной чёрной сутане с мелкими пуговичками сверху донизу, с бритым худощавым лицом и седыми волосами, выбивавшимися из-под маленькой шапочки, садился и играл до темноты.
Квартира Глеба состояла из двух комнат со старинным кожаным диваном, с круглым столом перед ним и коврами на полу и на стене.
Глеб в чёрном овчинном полушубке и в меховой шапке выехал в двухместном шарабане встретить Ирину. Он подъехал к станции как раз в тот момент, когда подходил поезд, бросился на платформу и прежде всего увидел показавшуюся ему незнакомой девушку в чёрной повязке сестры милосердия и в дорожной поддёвочке из серого солдатского сукна.
Она в шуме и грохоте поезда мелькнула мимо него, и вдруг Глеб увидел, что девушка подняла руку и замахала ему.
Глеб побежал за вагоном. Он узнал Ирину, её взволнованные нетерпением глаза, смотревшие на него из-под чёрного покрывала, концы которого закидывало ей на голову и трепало ветром.
В ней всё было ново для Глеба, начиная с этой поддёвочки, сделанной для фронта, кончая открыто радостным блеском глаз и нетерпеливым порывом к нему.
Был момент какой-то остроты от сознания необычности и волнующей преступности в их встрече. Ирина торопливо оглянулась на офицера, стоявшего за ней в проходе, покраснев, что-то ответила ему и быстро спустилась с площадки прямо Глебу на руки, как своя.
– Неужели это в конце концов оказалось возможным! – говорил Глеб, всеми силами стараясь не упустить ощущения необыкновенности их встречи.
И когда они под вечер выехали в поле, уже смеркалось и падал редкий снежок на кожаный фартук шарабана.
– Самое замечательное то, что всё это необыкновенно! Здесь свои законы и такая свобода, какой мы не знали ещё. Правда, я переменился? – спросил Глеб, возбуждённо оглядываясь на сидевшую рядом с ним девушку. – Я ожил здесь!
Ирина нагнулась вперёд, чтобы заглянуть в лицо Глеба, и сказала:
– Правда, вы совсем другой. У вас теперь нет в лице той прозрачной бледности, той неврастеничности, а в глазах той тоски, какая была прежде.
– Говори мне «ты», – сказал Глеб, посмотрев Ирине в глаза. – Здесь в с ё п о з в о л е н о.
– Хорошо, – сказала, покраснев, Ирина и, зардевшись ещё больше, прибавила: – Ты видел того офицера, который ехал со мной и стоял сзади меня на площадке?
– Да. Ну?
– Знаешь, что он спросил у меня?
– Что?
Ирина несколько времени смотрела на Глеба молча.
– Нет, не могу. Мне стыдно, – проговорила она наконец.
– Ну, скажи же, в чём дело? – говорил Глеб с преувеличенным оживлением и в то же время боясь, что это окажется менее интересно для него, чем ей представляется.
– Он спросил меня: «Это ваш муж?» И я, сама не знаю почему, сказала, что муж.
Глеб как-то насильственно улыбнулся.
– Как странно, – сказал Глеб, чтобы не молчать, – для тебя форма всё ещё имеет значение, а з д е с ь уже кажется дикой всякая форма.
– Нет, это неправда, – возразила Ирина, – когда я п о ч у в с т в у ю, для меня уже ничто не имеет значения.
– Валентин когда-то говорил, что смерть делает иной масштаб для оценки вещей. И здесь, рядом со смертью, я вылечился от всех своих болезней. Как мне смешны теперь все те «высшие» вопросы: бог, бессмертие, смысл жизни. Здесь главный закон – смерть и борьба с ней, – сказал Глеб. – А, чёрт! Поворот пропустил. Что за глупая лошадь!
Он повернул лошадь назад и, выехав на дорогу, продолжал:
– Ты понимаешь, здесь всё ново, здесь жизнь начинаешь сначала. И разве наша близость с тобой обычна? А она возможна оказалась только здесь.
Глеб говорил это, а в глубине его сознания шевелилась тревожная мысль о том, что всё вышло слишком просто и доступно.
Ирина в порыве искреннего чувства, без всякой ожидаемой борьбы, прильнула к нему, как своя. И Глеб вдруг с испугом почувствовал, что вся напряжённость взволнованного счастья, какая у него была в ожидании встречи, теперь разрядилась и грозила погаснуть совсем.
Он привёз Ирину к себе, и, когда они разделись, он, в ожидании самовара, стал показывать ей свою квартиру, причём преувеличенно оживлённо говорил и суетился, боясь всякого молчания.
Об Анне они, по молчаливому уговору, не упоминали ни одним словом.
Ирина начала работать в лазарете.
Она только тут узнала размеры своих сил: не отходя ни на минуту, подавала она бинты, делала перевязки, обмывала раны, и у неё, вместе с ужасом перед безмерностью человеческих страданий, вырастало возмущение и ненависть к тем, кто смотрит на войну как на что-то законное и даже нормальное.
Но ещё более она ненавидела тех, кто от войны получал только выгоду. Ежедневно приезжали какие-то уполномоченные, ревизоры всяких рангов, катавшиеся по фронту и чувствовавшие себя начальством, которому по положению присвоен почёт и подобострастное уважение с отданием чести. То, что её привлекало в Глебе в первый момент их встречи, здесь совсем исчезло. Тогда она смотрела на него, как на человека, мысль которого далека от земли с её слишком реальными и низменными интересами. Он ей казался одним из тех благородных мечтателей, которые мучаются поисками смысла жизни и терзаются человеческими страданиями.
А теперь Глеб с удовольствием говорил, что его нервы закалились и он равнодушно смотрит на страдания изуродованных людей.
Он вошёл во вкус организационной работы, окреп и возмужал.
Глеб судил теперь о людях не со стороны внутренней их ценности, а со стороны их пригодности к выполнению военных целей. У него было теперь только количественное отношение к людям. Он считал их группами, партиями, полками, ротами.
Он говорил иногда Ирине:
– Если бы наше дрянное правительство не мешало общественным организациям, не было бы ни позорного лодзинского разгрома, ни отсутствия снарядов. Буржуазия не допустила бы этого. Она энергична и сильна… и т. п.
Ирина, не желая спорить, не возражала, но внутренне чувствовала в этом какую-то неправду.







