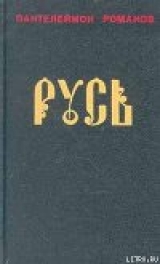
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 46 страниц)
XXX
В доме генерала Унковского обсуждались последние новости дня: убийство Распутина с участием великого князя Дмитрия Павловича и члена Думы Пуришкевича, а также обращение великих князей к Николаю II.
– Я ничего плохого не вижу в том, что этот грязный мужик получил наконец по заслугам, – сказала старая тётка Унковского, сидевшая за столом на почётном месте.
– Дело не в мужике, а в том, что всё идёт к концу, – отозвался мрачно Унковский, ходивший в своём военном сюртуке по ковру гостиной, заложив руки назад.
– Вся царская фамилия в панике, – сказала сухая блондинка. – Говорят, великие князья решили идти на какие-то крайние меры. – прибавила она осторожно.
– На эти крайние меры давно нужно было пойти, – сказала, как всегда не стесняясь, тётка. – Заточить эту психопатку в монастырь и заставить отречься этого полоумного в пользу наследника под регентством Николая Николаевича (единственно разумный человек). Боже, до чего дожили! – сказала она, подняв на секунду глаза к небу. – До какого позора! И всё общество точно взбесилось. Что это за танцы пошли: «Танго смерти»?
В это время приехала Ольга Петровна в сопровождении сановного лица в визитке и с моноклем.
Она поздоровалась с Ритой, поцеловав её в мягкую щёку, потом дала поцеловать руку хозяину, остановив на нём вопросительный взгляд. Генерал сделал вид, что не заметил этого.
Разговор, прервавшийся с приходом новых гостей, снова возобновился.
– Теперь можно надеяться только на чудо.
– А разве есть чудеса?
– Конечно, почему же нет? – сказал важный господин, пожав плечами.
– Может быть, вы верите и в предопределение?
– Само собой разумеется. А почему же возможны точные предсказания, исторически установленные.
– Например?
– Примеров я не помню. Но это факт.
– Если будущее слишком мрачно, я не хотела бы знать его, оно отравит настоящее, – сказала Ольга Петровна. – Если нам суждено погибнуть, то я скорее соглашусь на это, чем на то, чтобы видеть на нашем месте людей с грязными руками и в сапогах, пахнущих дёгтем. А чтобы не думать об этом, нужно веселиться.
– Что же, пир во время чумы? – спросил Унковский. – Это как раз признание своей неспособности к борьбе.
– Бороться должны мужчины, а не женщины.
– Да, пьянство, роскошь, разврат разлагают последние силы, – сказал Унковский, побледнев, точно это имело какое-то личное к нему отношение.
– Давно ли вы стали таким Савонаролой? – сказала Ольга Петровна, прищурившись.
– Я только хочу сказать, что распущенность является признаком развала и способствует развалу, – ответил Унковский.
– Это в низах… Мужик от этого перестанет работать. А нам работать не приходится…
– Какие же, матушка моя, низы, – перебила старая тётка Унковского, – когда двор подаёт пример, когда соль земли…
– Ну, что касается двора, то здесь слишком много грязных сплетен, – возразил Унковский, – а что касается «соли», то эта «соль» заняла явно неподобающее ей место. И мы определённо идём к гибели.
– Как это интересно!
– Мы неспособны бороться, в этом наша главная беда.
– А зачем? Если всё предопределено?
– У вас, насколько я заметил, развивается нездоровое любопытство, – едко заметил Унковский.
Ольга Петровна весело посмотрела на него.
– Почему нездоровое? Где есть любопытство, там есть здоровье и и з б ы т о к жизненных сил. Наоборот, отсутствие любопытства и большая добродетель есть признак упадка, так как добродетель всегда предполагает пониженную силу жизни.
– Что вы всё ссоритесь? – сказала Рита, с удивлением посмотрев сначала на мужа, потом на подругу.
– Твой муж очень деспотичен… по отношению ко всем окружающим, – ответила Ольга Петровна и встала прощаться.
Сановное лицо, не сказавшее за весь вечер ни одного слова, тоже поднялось вслед за ней.
Унковский часто говорил себе, что эта женщина не стоит его любви, что она пустая, легкомысленная, жестокая, не умеющая ценить ч е л о в е к а. К тому же она, по-видимому, ещё и развратна.
Но чем больше он находил в ней недостатков, тем больше его тянуло к ней.
Свой дом с мягкотелой, пышной Ритой, с её кукольными глазами и широкой, расходящейся на две половины грудью, стал ему противен до тошноты. Когда он бывал дома, он постоянно думал: а что т а м в это время происходит? И благодаря этому бывал у Ольги Петровны чаще, чем следовало бы для сохранения своего достоинства.
XXXI
Деревня в этом году резко изменилась. Здесь были далеки от всех тонкостей политики не только мужики, но и помещики. Но предчувствие и ожидание чего-то неизбежного, надвигающегося с каждым днём, были и там.
Существовал точно беспроволочный телеграф. Все политические новости доходили сюда с невероятной быстротой. Нехорошо рассказывали о царе и царице. Говорили, что министры получили от немцев миллиард, чтобы морить народ голодом и затягивать войну, дабы побольше мужиков было побито.
Всё больше и больше приходило с фронта дезертиров, которые прятались в овинах и ригах. Они говорили, что солдаты ружей не отдадут и народ всё возьмёт в свои руки.
Неожиданно появился солдат Андрей, который славился прежде на деревне озорством. Подействовал ли на него фронт или что другое, но его нельзя было узнать. От озорства не осталось и следа. Он похудел, глаза смотрели зорко и зло, когда разговор заходил о войне… Он не стал прятаться и совершенно открыто ходил по деревне, никого не боясь.
– Что ж, не боишься, что поймают-то? – спросил кто-то.
– Теперь нам бояться нечего. Скоро нас будут бояться.
– На ближнего руку не подымай, – сказали старушки.
– Верно, за что их обижать, – отозвался Фёдор. – Иные есть люди хорошие, правильные.
– Люди-то правильные, – заметил Андрюшка, – только разжирели на нашей крови.
– Это хоть верно, – согласился по обыкновению Фёдор. – Есть лиходеи не хуже нашего Житникова, что и говорить, – таких стоит.
– Бить никого не надо, – кротко сказал Степан-кровельщик, – а разделить всё по справедливости, чтобы никого не обижать.
Фёдор в нерешительности оглянулся на Степана.
– Вот это правильно, – сейчас же согласился он.
Андрюшка покосился на него.
– Что ж, думаешь, они тебе кланяться да благодарить будут, когда ты отбирать у них начнёшь да по справедливости делить?
– Бог покарает, – погрозил Софрон, кивая в пространство своей седой головой, – чужое ребром выпрет.
Фёдор в нерешительности оглянулся на Софрона.
– У нас рёбра крепкие. Вы сидите тут и ничего, окромя своего навоза да тараканов, не видите, – продолжал Андрюшка, – а я везде побывал. Мы, слава тебе господи, образовались. Умные люди научили… Вы все думаете, что от господа бога так заведено. Что всё помещикам, а нам ничего? Теперь мы попросим поделиться.
– Вот придёт урядник и заберёт тебя со всеми потрохами, – сказал из угла бабий голос. – Вся твоя прыть и соскочит.
– Всех не заберут.
– А может, как-нибудь ещё по-хорошему обойдётся, – сказал опять нерешительно Фёдор.
– Что ж, – проговорил спокойно Андрей, – можно и по-хорошему, если хочешь. Можешь отказаться от своей доли при дележе, вот у тебя совесть и будет чиста. А наша совесть уж таковская, мы твою долю возьмём за твоё здоровье.
– Зачем же отказываться? – сказал испуганно Фёдор. – Я против этого не говорю, я только чтоб людей не обижать.
– Вот тогда и не обидишь. Как сидел в своей тараканьей избе на десятине с четвертью, так и останешься при них. Так и запишем.
И Андрей сделал вид, что вынимает из кармана книжку, чтобы записать.
Заветренная шея Фёдора покраснела, и он почти испуганно сказал:
– Чего записывать-то раньше сроку! Я к разговору только…
– То-то вот – к разговору. Разговоры разные бывают.
– Нам и то мужики с войны писали, чтоб мы податей не платили. Всё, говорят, скоро кончится.
– Возьмёшь лычком, заплатишь ремешком, – проговорил, ни к кому не обращаясь, старик Софрон, скорбно покачав сам с собой головой.
– А, ты всё ещё тут каркаешь? – обернулся к нему Андрей.
XXXII
На деревне всегда бывало несколько мужиков и баб, которые ходили к помещикам на домашние работы – на стирку и уборку, помогали прислуге в торжественные дни, когда людей не хватало, – и были на положении деревенских друзей дома.
Они пили в передней чай с куском праздничного пирога, с ними разговаривали о домашних и семейных делах, как со своими людьми, они же приносили все новости.
Если помещики или помещицы были попроще, они крестили у мужиков детей.
У Житниковых было несколько таких. Тётка Клавдия имела постоянную потребность жаловаться кому-нибудь на свою жизнь, и поэтому у неё была непрекращающаяся связь с деревней.
Она в невероятном количестве крестила на деревне детей и была связана узами кумовской дружбы почти с каждым домом.
И одна из таких сейчас же прибежала к Житниковым и рассказала тётке Клавдии, о чём говорили мужики, рассказала, что пришёл солдат Андрюшка, что скоро конец будет всему – будут делить помещичью землю и имущество.
Тётка Клавдия ахнула. Её жёлтое лицо побледнело.
Она сейчас же позвала свою приятельницу в комнаты, и, когда все, встревоженные её видом, глотая от испуга в пересохшем горле слюну, по её предложению сели, она сказала:
– Вот Катеринушка сейчас рассказала…
И передала весь рассказ Катерины.
Катерина же, в полушубке и тёплой шали, кивала головой на каждое слово тётки Клавдии, подтверждая правильность передачи её рассказа.
Житников сидел, испуганно слушая, и его короткая шея постепенно наливалась кровью. Даже уши стали красные.
Первой отозвалась старуха. Она не испугалась, как Житников; её толстое мужское лицо с бородавкой и волосками на подбородке дышало гневом.
– Проклятые! – крикнула она, топнув ногой. – Лежни окаянные, они все только на чужое зарятся? Вот от этого у самих никогда ничего не будет. Как только рука на чужое подымется, так все пропадёте, как черви капустные!
Она кричала это, гневно указывая пальцем на Катерину, как будто та была виновата во всём.
Но Катерина сидела спокойно и только сокрушённо кивала головой, хорошо понимая, что она нужна, как объект для излияния гнева старухи, адресованного, конечно, не ей, а мужикам.
Богомольная что-то шептала своими бескровными губами, вероятно, молилась о мужиках, которым в два счёта угрожала вечная погибель от посягательства на чужую собственность.
– Вот тебе благодарность! – вдруг неожиданно заключила старуха, повёртываясь уже к тётке Клавдии и указывая на неё пальцем, так же, как на Катерину. – Вот тебе благодарность, а ты всё нянчилась с ними, с хамами, всех детей у них перекрестила. От хама добра и благодарности никогда не жди!
Хотя сказанное, по существу, всецело могло относиться и к Катерине, но она сидела всё так же спокойно, хорошо понимая, что это опять относится к её односельчанам, а не к ней, чья верность уже испытана.
– Будет пророчествовать-то! – сказала недовольно тётка Клавдия. – Надо обдумать, что делать. А то разнесут всё, вот тогда и будешь знать. У нас одной свинины двадцать бочек.
– Не допустит господь до беды над верными своими, не отдаст на поругание Сион свой, – сказала, набожно перекрестившись, богомольная.
– Допустит господь или не допустит, а дело заранее обмозговать надо, – проговорил наконец как бы освободившийся от столбняка Житников.

Первая мысль, которая пришла всем, – это прятать. Первый раз в жизни прятать нажитое своими трудами добро, точно жуликам. Это было обиднее всего. Но как можно было всё спрятать, когда за годы войны накопились горы всяких продуктов: хлеба, пшена, сахара, белой муки, вообще всех таких вещей, которых на рынке теперь нельзя было достать почти ни за какие деньги.
Если всё это постепенно развезти по своим многочисленным родным, то можно было с уверенностью сказать, что они всё это зажулят, скажут, что ничего не брали, видом не видали, слыхом не слыхали.
Решено было, взявши особенно надёжных приятелей из мужиков (они всё-таки честнее своего брата), при их помощи скрыть куда-нибудь наиболее ценные вещи.
И начиная со следующего дня каждую ночь в огороде за амбаром производились какие-то земляные работы: рыли ямы, похожие на могилы, и прятали туда в ящик сахар, белую муку и прочие вещи.
Много отдали Катерине спрятать у себя.
А серебро Житников зарыл сам, даже старухе не указав места, так как в денежных делах никому не доверял.
– Когда они собираются-то? – спрашивали у Катерины.
– Кто их знает! Как, говорят, война кончится, так ружей не отдадим и всё разделим. И уж сейчас, говорят, солдаты прямо ходом оттуда идут. Может, через месяц всё кончится, а то и раньше.
– А если немцы нас победят? – спрашивала старуха у Житникова. – Они тогда не дадут нас грабить?
– Немцы, известно, порядок наведут, – отвечал Житников, – у них насчёт собственности строго.
– Пошли им, создатель. – сказала богомольная, поднимая вместе с пальцами глаза кверху и набожно крестясь.
Житников с этого времени каждый раз тревожно развёртывал газету и однажды, прочитав, что немцы подходят к Двинску, торопливо перекрестился, а после обедни заказал молебен и поставил толстую рублёвую свечу, никому не сказав, о чём он просит создателя.
XXXIII
Авенир был настроен мрачно, критиковал и громил всех, кто, по его мнению, был причиной плохого положения дел.
Владимира Мозжухина забрали на военную службу, и Авениру положительно не с кем было говорить. Федюков, который прежде мог отчасти заменять в этом случае Владимира, отколол такую штуку, что все либеральные люди ахнули. Дело в том, что о Федюкове уже установилось мнение, как о самом левом. И вдруг он поступил на место полицейского станового пристава…
Сделал он это, испугавшись своих комбинаций с солдатскими пайками. А теперь, почувствовав, что в воздухе запахло революцией, втайне молил бога, чтобы победили немцы и спасли его от ярости революционеров.
И вот ему-то Авенир жал руку в начале войны!.. Его на версту к себе нельзя было подпускать! Авениру приходилось отводить теперь душу только с Александром Павловичем, который по-прежнему процветал на своём милом хуторке.
Хотя Александр Павлович, со своим узким кругом охотничьих интересов, был, конечно, малоподходящим собеседником, всё же он был порядочный человек, и ему безопасно было жать руку.
Хуторок Александра Павловича был всё такой же. Летом всё так же издали была видна его красная крыша, утонувшая во ржи, так же в садике за плетнём, среди яблонь и краснеющих вишен, раздражённо гудели пчёлы.
Так же уютно смотрела терраска, завешенная с одной стороны парусиной, и так же осенью наливались и зрели яблоки, дождём осыпались при ветре матово-малиновые сливы в обкошенную вокруг деревьев росистую траву.
Авенир вошёл к нему с безнадёжным, но решительным видом и, бросив шляпу на круглый стол, стоявший в маленьком зальце перед старинным диваном с деревянной выгнутой спинкой, сказал:
– Кто говорил, что русская нация самая бездарная, самая безнадёжная, самая презренная?
Александр Павлович в сборчатой поддёвке сидел у окна и, жмурясь, мирно курил трубочку. Он тревожно посмотрел на Авенира, очевидно, думая, уж не его ли обвиняют в этом. Но Авенир сейчас же ответил самому себе и Александру Павловичу решительным тоном, не допускающим возражений:
– Я говорил!
Александр Павлович всё так же испуганно смотрел на него, потом встал и попробовал было заметить о мессианском значении русского народа, про которое всегда говорил не кто иной, как сам Авенир.
– Всё мессианство давно полетело к чёрту! Я уже говорил это, – сказал Авенир, махнув рукой. – Почему? Потому что нашей интеллигенции свойственно совестливо размякать и верить каждому хорошему слову. Не надо было идти ни на какие соглашения с властью! Надо было нажимать и нажимать! – говорил он, шагая по комнате, точно главнокомандующий, диктующий диспозицию отступления. – Кажется, ясно: не надо!
Александр Павлович всё ещё стоял около дивана и, очевидно, не мог решить: сесть ему или продолжать стоять. Сесть казалось неудобно, а продолжать стоять было странно, потому что Авенир, по-видимому, собирался дать широчайший обзор событий. Поэтому Александр Павлович сел, положив ногу на ногу и закурив потухшую трубочку.
Авенир же в своей суконной блузе, с длинными волосами, которые он часто откидывал назад, продолжал ходить по комнате и говорить:
– Что же мы имеем теперь? Мы имеем наглую реакцию насквозь прогнившего самодержавия, возглавляемого грязным мужиком (слава богу, его укокошили). Но. – сказал он, остановившись посредине комнаты и подняв вверх указательный палец, – но каждый народ достоин того правительства, какое он имеет. Скажите, кто, кроме нас, какой ещё народ может допустить над собой такое издевательство? Я говорю: «кроме нас», употребляя, так сказать, риторическую фигуру, потому что к нам с вами это не относится.
Александр Павлович кивнул головой, как на что-то само собой разумеющееся.
– Так вот, что мы имеем теперь? На фронтах полный разгром, в тылу недостаток продовольствия и грабеж вовсю, офицеры играют в карты и амурничают с сёстрами. Чем больше одни начинают голодать, тем больше другие пускаются во все тяжкие – разгул и разврат на краю гибели. Может ли удержаться такая нация?
– Чего выпьем, рябиновочки или полыновочки? – спросил Александр Павлович.
Но Авенир ещё не кончил своей речи.
– А мужики, эти несчастные мужики, только и делают, что гуртами отправляются на убой.
– Нет, мужики что-то зашевелились, – сказал Александр Павлович, – такие разговорчики пошли, что просто беда.
– Слава богу, давно пора! – воскликнул Авенир.
– Мы, говорят, этих Левашовых с их тысячами десятин растрясём.
– Правильно!
– И до всех, говорят, доберёмся, у всех землю отберём.
Авенир, только было собравшийся сказать: «правильно», остановился.
– Как… у всех? – спросил он.
– Так.
– Этого не может быть! Они должны отбирать только у тех, у кого свыше пятидесяти десятин, иначе это неправильно.
– Вот, пойдите, потолкуйте с ними.
– Так что же, они будут грабить, что ли? – крикнул, весь покраснев от негодования, Авенир.
Александр Павлович уныло развёл руками.
– Дезертиры набежали, они всех мутят.
– Ну, это можно Федюкову сказать, он их приберёт к рукам. Вот мы всегда так: либо гнём спину, либо начинаем разбойничать! Я теперь только буду приветствовать появление немцев-завоевателей. Они, по крайней мере, установят порядок и возьмут всё в ежовые рукавицы, – сказал Авенир, остановившись и энергически сжав кулак, в то время как спина хозяина ссутулилась около горки и он, пригнувшись, зазвенел там графинами и рюмками.
– А наши либеральные вожди… Что это такое? – спросил Авенир, обращаясь к спине Александра Павловича. – Они только вот способны языками в Думе трепать, а дйла нет. Боже! За что ты меня наказал, родив меня в этой стране, среди этого народа!
XXXIV
Авенир правильно отметил, что вместе с ухудшающимся положением и возрастающей всеобщей тревогой всюду стало проникать какое-то разложение и стремление забыться, чтобы не думать о будущем.
Это настроение проникло и отравило своим ядом даже такое неприступное для всего мирского место, как лазарет Юлии. Как известно, она в начале войны поверила, что страдания настолько очистят и возродят народную душу, что ей можно будет спуститься в мир и, без боязни осквернить себя, отдаться деятельной любви.
Но на этом пути Юлию ждало жестокое разочарование, некоторый душевный удар, а также то, чего она ожидала меньше всего от себя самой…
В этом она обвиняла свою добрую сердцем, но крайне легкомысленную племянницу Катиш.
Взяв привычку исповедоваться перед своей тёткой, Катиш каждый вечер перед сном приходила в спальню тётки, устланную коврами, увешанную образами, и очищала перед ней душу, которая чем дальше, тем больше нуждалась в очищении.
Эти исповеди, всегда касавшиеся самых интимных вопросов, вначале крайне будоражили и волновали Юлию, посвятившую свою жизнь борьбе с плотью.
Но в то же время они так притягивали её, что она, как тайный алкоголик, ежедневно уже с нетерпением ждала появления в своей спальне греховной племянницы.
У Юлии не было завидной способности Катиш в общении с людьми. Она поставила себя на служение высокой нравственности, и все житейские разговоры были шокирующими для неё и неожиданными для тех, к кому она вздумала бы обратиться с ними.
Она никак не могла сойти с этой высоты и от этого чувствовала томление глубокого одиночества.
Однажды она даже спросила племянницу, как она делает, что у неё так легко и свободно происходит общение с ранеными солдатами, которых она в начале войны просто не терпела.
Катиш, очевидно, как-то по-своему понявшая вопрос тётки, вся вспыхнула и уже сложила было руки на груди, как она делала, когда каялась в каких-нибудь особенно тяжких искушениях (но никогда не в грехах), потом сообразила, что тётка спрашивает её совсем не в том смысле, который требует покаянного сложения рук.
Но чтобы её жест не вызвал нежелательных подозрений, она не отняла рук от груди и сказала с чувством:
– Я просто смирила себя, на всё стараюсь смотреть их глазами, говорить их языком, и они привыкли ко мне.
Катиш поместилась по своему обыкновению у ног тётки на низенькой скамеечке и положила ей руку на колени.
– Я рада за тебя, что ты пришла к этому, вернулась к той простоте, от которой мы давно отошли, и много теряем от этого, – ответила Юлия. – Я давно беседую с одним солдатом, с тем, что ранен в ногу (я дала ему образок и Евангелие), и должна сказать, что он удивительно легко воспринимает самые тонкие религиозные истины.
– Не только религиозные истины, – прервала Катиш, – я в этом сравнительно мало понимаю сама, но у них ко всему такой простой и естественный подход, что с ними никогда не ощущаешь никакой неловкости, как с людьми нашего круга, с которыми шокирует всякая невинная безделица.
Юлия насторожилась и почему-то сняла руку племянницы со своих колен.
– Что ты хочешь этим сказать?
Катиш почувствовала, что она неосмотрительно подошла к той черте, переход через которую всегда страшил её отрёкшуюся от всего земного тётку, и потому решила сказать иначе:
– Я хочу сказать, что они о своих переживаниях говорят совершенно просто и потому это не оскорбляет чувства стыдливости. Оказывается, что они умеют сильно любить и томятся без любви так же, как и мы.
И она опять положила свою руку на тёплые колени тётки.
После этой беседы Юлия стала особенно часто говорить с солдатом, который легко воспринимал самые тонкие религиозные истины.
Он был здоровый, кряжистый мужик, лет тридцати, с приятной курчавой русой бородой, с белыми свежими зубами.
Он часто говорил поговорками, пословицами, которые обнаруживали в нём, на её взгляд, глубокую народную мудрость.
Соглашаясь с мыслями Юлии о тщете всяких земных вожделений, он говорил:
– Оно конешно, мы все домогаемся, как бы получше всё обладить, а глядишь, помер человек – и нет ничего. И выходит, что мы бреднем воду ловим: пока тянем, бредень полон, а вытащил, – глядь, пусто.
– И остаётся только горький осадок разочарования, – добавила Юлия.
– Вот, вот…
– Поэтому мы всегда должны бороться за душевное просветление.
– Это в первую голову.
Юлия только грустила о том, что её присутствие, вероятно, связывает мысль народную, и солдаты недостаточно свободно высказываются, стыдясь лучшего, что есть у них в душе.
Однажды она увидела, что этот солдат говорит о чём-то с другими выздоравливающими. Она остановилась незаметно за дверью послушать.
Она смогла дослушать то, о чём говорили солдаты, только потому, что ноги её окаменели и она на несколько секунд как бы лишилась способности двигаться.
– Выхаживают-то тут хорошо, – говорил один.
– Выхаживают, чтобы скорее на фронт отправить…
– Это везде так-то, чёрт с ними.
– А вот бабы не хватает, это плохо, – сказал солдат, свёртывая папироску из газетной бумаги.
– А ты самоё попробуй…
– Чёрт её разберёт… она хоть, правда, всё к нашему брату лезет. Может, после лёгких хлебов на капусту потянуло.
– Это бывает… Ты попробуй, что махоркой-то пробавляться. Баба без толку лезть не будет. Ты не смотри, что она с души начинает. Они, благородные, иначе и не могут. У них чем больше о душе говорят, тем смелей подходи и хватай без всяких резонов.
Солдат ужасным циничным жестом пояснил свои слова.
– Мне рассказывал один, не хуже тебя – здоровяк, – сказал другой раненый, – тоже была на манер нашей – воздушная, благородная, – одно слово. Дотронуться до неё страшно, как до иконы. Так что ж ты думаешь…
Дальше Юлия уже не слышала. Она, не помня себя, прибежала в свою комнату и, сжав голову руками, стояла несколько минут неподвижно, с расширенными от ужаса глазами.
А на следующий день в добавление к этому Юлия была до столбняка поражена одним ужасным фактом. Проходя по полутёмному коридору поздно вечером, когда раненые уже спали, она увидела кудряшки Катиш, которая почему-то стояла с выздоровевшим солдатом в углу. Она ничего не поняла сначала и, подойдя вплотную к ним в своих мягких меховых туфельках, обратилась было к племяннице с вопросом, что она тут делает.
Но племянница при звуке её голоса оглянулась на неё и, схватившись за голову, в мгновение ока исчезла вместе с солдатом.
Через час она вся в слезах и в припадке исступлённого отчаяния прибежала к Юлии.
Та сидела в кресле, закрыв платочком лицо и не отзываясь ни одним словом на отчаянные мольбы племянницы. Всё её тело дрожало мелкой дрожью, и она была не в силах оттолкнуть племянницу, которая в покаянной мольбе осыпала поцелуями её руки, шею.
Юлия не помнила, что было дальше.
С этого времени она тревожно замкнулась в самой себе и избегала говорить с племянницей. Но когда та слишком оживленно с кем-нибудь говорила и возбуждённо смеялась в коридоре или надолго куда-то исчезала совсем, Юлия нервничала, ходя по комнате, кусала губы; щёки её то бледнели, то покрывались красными пятнами. О своём же солдате она не могла без ужаса вспоминать.
Он, в котором она привыкла видеть только страдающего человека, оказывается, мог так цинично, так обнажённо думать о ней…
Но увидев его однажды на дворе в окно, она, спрятавшись за штору, с каким-то болезненным интересом смотрела на него. В это время в комнату вошла Катиш, которая где-то пропадала целый день. Юлия быстро отскочила от окна, с бьющимся сердцем и пылающими щеками, как будто её застали на чём-то постыдном.
Она бросилась на шею к Катиш и, к её удивлению, сама спрятала свою голову на её груди.
– Как я благодарю судьбу за то, что она послала мне тебя, – говорила молодая тётка, как бы ища убежища и спасения, – иначе… иначе…
Она сжала голову обеими руками и не договорила.
Они целый вечер сидели вдвоём и говорили, обнявшись, причём Катиш гладила и целовала руки своей молодой тётки, удивляясь, отчего они такие холодные.
Юлия иногда вздрагивала, под каким-нибудь предлогом отходила к окну и долго стояла там спиной к Катиш. Когда же Катиш собралась идти спать, не оборачиваясь, глухим голосом сказала:
– Оставайся у меня…
– Но ведь тебе ещё нужно молиться.
– Я уже молилась…







