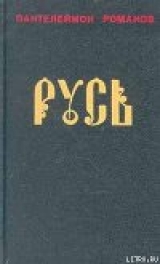
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 46 страниц)
IV
Когда надежда на подавление революции у думских властей совершенно рухнула, и когда самим же ещё приходилось посылать депутатов брать Петропавловскую крепость, продолжавшую оставаться верной царю, необходимо было подумать о власти.
В самом деле, все надежды на верные войска с фронта, на решительного генерала, наконец, на отречение царя в пользу Михаила не оправдались, значит, надо было не потерять авторитета у масс и ввести их в русло нормальной жизни и порядка. Причём было особенно трудно и непривычно чувствовать себя в этой роли. Родзянко, например, приходилось среди своих держаться так, чтобы ни у кого не было и тени подозрения, что он изменил себе и своему долгу, что он перешёл на сторону революции. И в то же время, когда он выходил к народу и войскам, нужно было держать себя так, чтобы у революционного народа не было и тени подозрения, что он сторонится революции.
Мало того, нужно было проявить всю силу революционного пафоса, чтобы не обмануть ожиданий народа, жаждавшего ярких, зажигательных слов, и не охладить его чувств.
Настроение общества было таково, что оно требовало всего самого возвышенного, прекрасного, и нужно было выбрать таких министров, которые соответствовали бы высокой настроенности либерального общества и пользовались бы доверием его. И опять лишний раз спохватились, что не предусмотрели этого, и пришлось наспех, где-то в тесной комнате, на уголке стола, среди приходящих и уходящих посетителей, с напряжением до головной боли собирать людей, которых жаждало общество увидеть у власти.
Причём на первых же шагах оказалось таких только двое или трое, а больше никак не могли набрать и уже записывали по подсказкам, иногда покачивая головами. Но главой правительства – князем Львовым – были все довольны. Хотя относительно доверия масс здесь было несколько сомнительно по той причине, что никто из народа его не знал, даже имени такого не слыхали, но за избрание говорило то, что его перед отречением назначил сам царь, и то, что это был идеальнейший, честнейший и гуманнейший человек.
Назначение его царём расценивалось как символ преемственности власти. Выходило так, что власть в сущности не революционная, а самая наизаконнейшая, поставленная монархом, и поддерживать такую власть сам Бог повелел даже и честнейшим монархистам. И когда незнавшие спрашивали, кто такой князь Львов, то знавшие сейчас же отвечали:
– Благороднейший, гуманнейший человек, при котором само понятие власти совершенно изменится. В нём воплотились лучшие традиции интеллигенции. Притом он, управляя Земским и городским союзом, давал у себя в организации приют самым левым группам общественности, будучи в сущности беспартийным, так как его идеал – полная свобода и отсутствие всякого давления и принуждения.
И когда по стенам Петрограда были расклеены афиши со списками новых революционных министров, восторг общества ещё более увеличился. Даже то, что в числе народных избранников были такие, которых не могли определить и сами члены Думы, как, например, Терещенко, не убавило энтузиазма, потому что читавшие списки, видя знакомые и популярные имена, и к неизвестному имени относились с благожелательным доверием. Так хозяева, ожидая гостей и встречая с ними незнакомого человека, которого те на свой риск решили привести, принимают столь же приветливо и этого незнакомца из уважения к старым почётным гостям, приведшим его.
Так как общество и народ больше всего натерпелись от ига абсолютизма, то от новой власти ждали проявления диаметрально противоположных свойств. И она даже превзошла эти надежды.
Самые смелые чаяния интеллигенции, осуществления которых ждали только через двести – триста лет, на глазах у всех воплощались в жизнь, Конечно, наиглавнейшей мечтой было уничтожение насилия со стороны власти. И новая власть первым принципом выставила уничтожение насилия, приняв в соображение, что освобождённый народ сам может регулировать свою жизнь.
В первые же дни стало известно, что новая власть вернёт, конечно, всех пострадавших борцов за революцию, уничтожит навсегда смертную казнь, даст полную свободу слова, печати, собраний и союзов. Новое правительство отказывалось назначать в провинцию начальников, чтобы не давить на гений народа, сбросившего цепи и возродившегося к небывалой свободе, И когда из провинции приезжали старые и новые представители власти за директивами, они получали один и тот же ответ от главы правительства Львова:
– Это вопрос старой психологии. Временное правительство сместило прежних губернаторов, а назначать новых не будет. На местах выберут. Такие вопросы должны решаться на местах, самим народом, а не из Центра. Мы все бесконечно счастливы, что нам удалось дожить до великого момента, когда развязанный гений народа начнёт сам творить новую жизнь и новое право.
Это было благородно.
Правительство в лице многих министров неоднократно заявляло, что оно не хочет стоять у власти вопреки воле народа. И что, если народ проявит хоть тень неверия в его силы и нежелание видеть это правительство у власти, оно уйдёт.
Это было ещё более благородно. И заставляло относиться к новой власти с нежнейшей бережностью, так как малейшее бестактное, грубое движение может заставить её уйти.
Все ещё и ещё раз удивлялись способности мгновенного перерождения русского народа, так как вчера ещё подавленные гнётом рабства и озлобленные люди сегодня проявляли величайшую деликатность.
Все отмечали исключительность русской революции. Такой гуманной, такой единодушной революции, когда народ, от рабочих до великих князей, слился в одном чувстве, не было во всей истории мира. И ещё раз указывали на то, что это вполне естественно, так как давно признана истина, что Россия – страна особенная, не похожая ни на какую другую. В самом деле, народ, в течение столетий подавленный и придавленный полицейским режимом, в один день свергает гнёт и навсегда освобождается от полицейщины с её запретами, слежками, арестами. Одним гигантским прыжком он переносится из царства азиатского рабства в царство свободы, невиданной в европейской демократии и цивилизации, уничтожает всякое насилие над личностью, заменяет бюрократическое бездушие человечным отношением, не оскорбляющим граждан недоверием и подозрительностью.
Только такая власть может пойти на это, потому что такую власть ни у кого не поднимется рука обмануть.
V
Если в Петрограде рождение свободы сопровождалось сравнительно небольшими жертвами, то в Москве почти совсем не было никаких жертв. Все сравнивали революцию с Пасхой, называли её первой весной русского народа.
В кружке Лизы Стрешневой все предшествующие дни было напряжённое ожидание чего-то необыкновенного, что должно совершиться. Её квартира походила на какой-то штаб, куда постоянно приходили люди и сообщали, какие кто мог, новости. Лиза мобилизовала для этого всех.
Она одной из первых узнала, что в Москве забастовка, и узнала раньше, чем это появилось в газетах. Она также одной из первых получила рукописный листок сенсационных известий о событиях в Петрограде.
Но она и тут была на высоте и не бросалась объявлять всем приходившим о новостях. Она даже была внешне спокойна, и у неё хватило терпения устроить очередное заседание, и на нём уже в полном порядке и последовательности члены кружка осведомлялись о событиях, причём на столе стояли красные розы.
Она чувствовала себя полководцем, когда к ней прибегали и приносили новости. Вся её фигура приняла необычайно спокойный и какой-то вдохновенный вид: так на поле сражения подъезжают к командующему армией ординарцы с известиями о победе, и чем их вид возбуждённее и взволнованнее от радостных перспектив, тем вид командующего невозмутимее – он знает, что всякие выражения чувств здесь излишни.
На первом же заседании после свершившейся революции (это как раз было 101-е заседание кружка) рассмотрели существо русской революции, её характер, и наметили пути, по которым она должна пойти.
Вопрос о путях поставил кто-то из крайних членов, заявивший:
– Мы присутствуем при прорыве вековой плотины, нужно позаботиться, чтобы русло, по которому потечёт вода, то есть по которому будет развиваться революция, соответствовало бы вековым идеалам русской интеллигенции, чтобы в России родился государственный строй, в основу которого были бы положены эти идеалы.
На это почти все единогласно заметили, что относительно строя, который должен быть основан на идеалах, не протестуют, но протестуют против того, что революция должна ещё как-то развиваться.
– Революция уже совершилась, – сказал профессор Андрей Аполлонович, – как совершается взрыв накопившихся газов, революция – это момент перехода из одного состояния в другое, а никак не длящийся процесс, который к тому же ещё как-то нужно продолжать и направлять.
Баронесса Нина, рассеянно слушавшая всё, что говорилось, почему-то вздрогнула, когда профессор заговорил о газах, и, наклонившись к Лизе, что-то спросила у неё. И вообразилось, что профессор собирается устраивать какие-то взрывы. Впоследствии она говорила, что в то время, как все радовались, она уже тогда испытывала только один ужас, так как никогда не забывала предсказаний Валентина об урагане, который разорвёт старые пределы, сотрёт с лица земли вековой налаженный обиход.
Относительно мысли, что революция уже совершилась, согласились все. Было даже как-то совестно перед судьбой, которая послала так неожиданно, так вдруг этот переворот, было совестно говорить ещё о чём-то, о каком-то продолжении, то есть выражать как бы какое-то недовольство.
А такие элементы встречались даже в кружке Стрешневых. Это люди, которые не удовлетворяются ничем. Если им дано что-нибудь одно, чего они сами же ждали целые века и не верили в возможность счастья обладания этим, то они уже не удовлетворяются полученным, а сейчас же лезут дальше.
Писатель сказал, что главное свойство русской революции то, что она является вселенской, так как основана на самых высших, общечеловеческих идеалах, к осуществлению которых должен идти каждый народ в мире. И что вопреки логике, но вполне разумно это совершилось именно у русского народа. Вопреки логике потому, что русский народ отсталый, а сразу получил самый высший строй, а разумно потому, что в русском народе заложены неисповедимые тайны и глубины, из которых будет исходить свет, освещающий весь мир.
Лиза слушала писателя уже без всякого нетерпения и холодной иронии. Его слова соответствовали теперь торжественности момента, и размышление о характере и глубинах русского народа было также уместно.
В кружке Стрешневых не было партийных людей. Этот кружок как раз отличался тем, что в нём были только беспартийные. Но, тем не менее, конечно, каждый тяготел своими симпатиями к какой-либо партии, к какому-нибудь направлению, и потому часто, вернее почти всегда, бывали разногласия и бесконечные споры, даже вражда. Но в этот момент не могли не отметить отрадного факта, что среди всех членов было какое-то единение, был один восторг, одна радость. Если не считать баронессы Нины, впавшей в пугливо-сосредоточенное состояние. И когда впоследствии вспоминали её настроенность, то соглашались с тем, что у этой наивной женщины-ребёнка было какое-то сверхъестественное провидение грядущего, так как она одна почувствовала свою судьбу в то время, когда другие ничего не чувствовали.
Кроме философских рассуждений о характере и будущем революции, в кружке были и чисто политические разговоры. Определяли роль и значение каждого вождя. Одни стояли за тонкий государственно-профессорский ум Милюкова, который правильно учёл ситуацию и ведёт Россию по пути продолжения войны и доведения её до полной победы: хоть Россия и становится отныне провозвестницей великих начал невиданной ещё свободы, но оставляет за собой условие уничтожения Германии, а также турок, органически неспособных понять никаких великих начал.
Говорили о Керенском, что он полон чувства и является подлинным героем революции, потому что русскому народу больше всего свойственно чувство, а не сухие рассуждения и логика. Все дамы кружка питали к нему особенную любовь, доходившую до восторга.
Когда касались князя Львова, то все в один голос говорили, как велико счастье революции и русского народа, что у власти стали такие кристально чистые люди, одушевлённые самыми высокими идеями. Наконец-то Россией правит не сила кулака, как при царизме, а сила высоких идей. Вот единственная власть, с которой может примириться интеллигенция, и не только примириться, а благословить её. Конечно, найдутся элементы, которые будут и этим недовольны, которые вообще неизвестно чем могут быть довольны, в них всегда живёт какое-то сладострастно-разрушительное и дезорганизующее начало, благодаря которому они не выносят никакой гармонии, им всюду надо вносить кавардак и непомерность требований, рассчитанных как раз на скандал.
VI
Но женщины во всякой обстановке, будь то война или напряжённая политическая жизнь, всегда уделяют большое внимание личной жизни, своей, а особенно – ближних. Так и здесь одна дама сообщила Лизе о том, что в семье старшей дочери Левашовых очень неблагополучно, что распущенность и дезорганизованность русского человека, как нигде, сказываются в интимных отношениях, и эти отношения всегда оказываются такими запутанными, что их не смогут распутать и добрые друзья, которые, как известно, всегда с величайшей самоотверженностью отдают этому все силы.
Дама говорила о том, что Глеб – человек с бесформенной душой, что он ищет, сам не зная чего, и делает несчастными своих ближних. Он бросается с жадностью каждый раз на что-нибудь новое и через некоторое время уже охладевает к нему.
– Вы правы и не правы, – сказала другая дама, так как в это время мужчины заговорили о политике в её чистом смысле – о программе новой власти и о её предстоящей деятельности, о соотношении сил революции, то есть о том, что менее всего могло быть интересно для дам, за исключением, впрочем, Лизы. Но и она не могла остаться совершенно равнодушной к тому, о чём говорили дамы.
– Вы правы и не правы. Правы в том смысле, что действительно ужасно с таким человеком жить и любить его – ужасно, но не правы в том смысле, что считаете его ужасным человеком и осуждаете его. Он прежде всего человек чувства. Он ничего не рассчитывает, его душа слишком возвышенна. И мы должны ценить это. Мне противен всякий расчёт, даже самый благородный. Где расчёт – там неискренность. Русский человек не умеет рассчитывать, и в этом его высота. Это надо понять, чтобы любить таких людей.
– А если такой человек обманывает и обещает то, что не осуществляет потом?
– Это опять-таки от силы чувства, – сказала первая дама. – Я представляю себе, что в тот момент, когда он чувствует, он весь горит этим чувством и ему просто не приходят в голову никакие расчёты и соображения.
– Глеб – это забубённая голова, которая живёт всё время химерами и гонится только за тем, что недоступно и неосуществимо. Как только он достигает чего-нибудь, так ему начинает казаться, что он опустился, что он начинает обрастать мхом, и он бежит прочь, сам не зная куда, – сказала Лиза.
– Но в этом-то опять-таки благородство, в этом есть то, чего никогда не может быть у западного человека, безграничность и бесконечная неудовлетворённость души, которая не знает точки, на которой она вполне успокоилась и остановилась бы.
– Нет, нужна поистине христианская любовь Анны, чтобы выносить всё, что она выносит. Точно какой-то, огонь непрестанно жжёт его душу, и он находит высшее наслаждение в растравлении своей какой-то раны. А между тем никакой определённой раны нет. Есть ненасытная жажда этой раны.
VII
Глеб в самом деле переживал трудное время. Трудное, потому что получился, как всегда, раскол между его внутренним миром и окружающей жизнью. Внутренний мир его жил уже новым откровением, в которое он поверил со всей свойственной ему страстностью до отречения от всего остального. Его мечта о том, что что-то должно прийти в жизнь, всё искупить и всё обновить, посредством ли пророка или чего-нибудь другого, сбылась. Не он один, а весь русский народ праздновал и торжествовал великим торжеством, но Глеб воспринял это со свойственной ему силой и страстностью.
Так же, как он мог впадать в крайнее отчаяние, доходить до последних бездн падения вплоть до желания гибели, так же теперь он горел этим, он был на головокружительном взлёте. Это был не тот взлёт, какой он испытывал, когда с хмельной головой в трактире слушал цыган и с упоением сладострастия плакал о своей жизни, о полной недостижимости в реальности того, что чувствует его душа. Тогда было только стремление забыться и хотя бы в состоянии опьянения поверить в лучшую, прекрасную жизнь, к которой зовёт полная тоски и безбрежной удали цыганская песня.

И вот пришло, как раз извне, как он и представлял себе, то, что возродило его и наполнило безудержной радостью.
На этом фоне ему показались мелкими страдания Анны и Ирины. Мелкими и непонятными. Как они могут страдать и думать сейчас о чём-то своём! И отравляют ему жизнь, как будто он не любит их. Но он любит их обеих. Неужели женщина никогда не выйдет из узости, чтобы ответить своей широтой на широту его души? Неужели им никогда не дано почувствовать восторг безбрежности и упиться им?
У него голова кружилась при мысли о том, как теперь полетят вверх ногами всякие божеские и человеческие законы и установления, делавшие жизнь узкой, как тюрьма.
Запутанность в личной жизни вызывала у Глеба в этих случаях желание какой-то всеобщей катастрофы, которая выведет его из создавшегося положения.
И когда утром 1 марта он вышел из дома, то ощутил знакомое, приподнятое чувство при виде изменившихся тихих московских улиц. Всё говорило о том, что произошла какая-то огромная долгожданная катастрофа. Народ шёл не по тротуарам, как всегда, а по улицам, среди опустевших трамвайных путей, на которых не было движения. Часто проносились автомобили с вооружёнными солдатами, студентами, но эти автомобили не заставляли всех бросаться врассыпную по подворотням или испуганно прижиматься к стенам, их встречали с приподнятой радостью, криками «Ура» и маханием шапками и платками. Оттуда отвечали тем же «Ура» и таким же маханием.
Чем ближе к Тверской, тем больше было народа, тем чаще попадались проходившие отряды войск. Какой-то отряд шёл с красным знаменем. Это было так ново и необычно, что восторженные крики со всех сторон ещё более усилились. Одна река народа вливалась на Тверскую со стороны Моховой, другая – со стороны Охотного Ряда, но останавливалась, запруживаясь, так как вдоль Тверской стояли цепью рабочие и студенты, а особые распорядители в самом начале улицы, останавливая поток толпы, кричали:
– Товарищи, идите по тротуарам, не запруживайте улицы.
Глеб, чувствуя счастливую дрожь в спине и радостное нетерпение, с каким-то особенным удовольствием подчинялся этим распоряжениям, и видно было, что все подчиняются им с таким же растроганным чувством и даже как бы стараются иметь случай услышать совсем новые слова: «Товарищи, идите по тротуарам…»
Так на московских улицах никогда не говорили и никогда ещё с самого начала истории не ходили свободно и «законно» с красным знаменем по Тверской.
Глеб в распахнутой шинели смотрел по сторонам горящими глазами, и всюду с ним встречались зажжённые восторженным возбуждением глаза, которые, казалось, рады были встретиться с другими глазами и почувствовать незнакомую раньше взаимную близость всех и каждого.
Вдруг впереди на Тверской послышались какие-то крики, которые нарастали, медленно приближаясь. Мальчишки, ныряя под локти стоявших цепью студентов, перебегали на другую сторону и вскакивали на свободные тумбы, чтобы видеть.
Не ясны ещё были причины восторженных криков, но видны были махающие шапками с тротуаров люди. Из-за сплошной стены голов и спин показалась спускающаяся с горы Тверской колеблющаяся сетка штыков, выплыли серые ряды солдат, впереди которых шёл оркестр с медными трубами, а перед оркестром ехал офицер с красным знаменем, которое, колышась от ветра, то закрывало круп лошади, то ложилось концами на голову офицера.
И, как будто отвечая взволнованному чувству тысяч людей, неистово кричавших при виде этой картины, медные трубы снялись с плеч, и послышались возбуждающие звуки Марсельезы, от которых всем захотелось идти куда-то, делать что-то необычайное, и казалось, судя по лицам, всем было жаль, что нельзя идти на смерть под эти звуки. Глеб, оглядываясь на женские и мужские лица, чувствовал то же, что и все, именно желание идти за этой музыкой хоть на смерть. Но смерти уже не было, была жизнь, и совершенно новая, совершенно не похожая на прежнюю, и это больше всего возбуждало всю жадно теснившуюся толпу.
Глеб вместе с тесно двигавшейся толпой, которая, казалось, радовалась этой тесноте, этому новому, непривычному слиянию никогда прежде не видевших друг друга людей, шёл к Воскресенской площади. Вдруг на углу её кто-то, протискавшись сквозь тесноту к нему, схватил его за локоть. Глеб оглянулся. Перед ним стоял Владимир с раскрасневшимися, румяными, толстыми щеками, с кудрявыми волосами, с которых снята была бобровая шапка. Шапку он держал, зажав в кулак.
– Видал? – крикнул он, очевидно, в каком-то исступлении. – Дождались. Умру – не забуду! Идём, идём сюда! – он потащил Глеба за собой, в совершенном забвении проламываясь сквозь тесную толпу так, будто перед ним были не люди, а густой кустарник. – Поднялась Русь-матушка…
В открытом окне Городской думы стояли какие-то люди, и один из них в распахнутой шубе с бобровым воротником что-то читал по бумажке, отрываясь от неё и выкрикивая раздельно фразы в сторону стоявшей под окнами на площади толпы.
– Что он читает? Что? – раздавались кругом голоса.
– Образование Временного правительства…
– Ура! Ура!
– Глеб! – сказал Владимир, – вот на этом самом месте, нет подальше, туда, к ресторану, я два с половиной года назад стоял с одним замечательным человеком, я уже говорил тебе о нём, с Валентином. Так же вот проходили войска – никогда этого не забуду, – и он тогда с восторгом говорил, что русский народ покажет себя. Впрочем, это не он говорил. Ну да всё равно. Я тогда был зависимый сын, а теперь свободный человек, а теперь ещё вдвойне, втройне свободный. Ура! Чёрт, я этих программ не понимаю, но я, брат, умею чувствовать. Вот видишь, – говорил он в каком-то исступлении, – вот видишь, как все горят, и я горю. Вот рабочий стоит. У него сапоги худые, а я сейчас чувствую, что он мой брат. Вот чем замечателен этот момент! Скажи мне сейчас: «Владимир, отдай всё, что нажил за войну». Всё отдам! Нет, всё не отдам, – сказал он, немного подумав, – но половину отдам, вот ей-богу клянусь! Только чтобы сейчас, не откладывая на завтра, – продолжил он, опять подумав, и прибавил вдруг совсем другим голосом: – Сегодня вот что, сегодня должны собраться у меня. Такой день нужно отметить. И чтобы побольше хороших разговоров. Приходи непременно. Всех соберу. Эх, цыган бы теперь!.. Ну прощай, жду.







