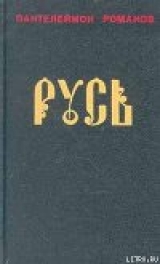
Текст книги "Русь. Том II"
Автор книги: Пантелеймон Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 46 страниц)
XII
23 июля пала Варшава, а вслед за ней крепости Ковна, Новогеоргиевск.
Говорили о том, что вся Польша в огне. Горят селения, горят поля, и в этом огневом океане бегут несчастные жители, потерявшие имущество, жён, детей.
Правительство сообщало о новых жестокостях немцев, в особенности об удушливых газах, этом новом варварском средстве врага. И тут же отмечало преданность поляков России и их самоотверженность: чтобы затруднить движение врага, они, уходя, сжигают всё.
Действительно, немцам часто приходилось двигаться по безлюдной выжженной пустыне, потому что казаки при их приближении налетали ночью в своих лохматых папахах, выгоняли жителей из домов и поджигали деревни со всех четырёх концов.
И когда голосившая толпа беженцев шла из своих деревень, сама не зная куда, путь её долго освещался пляшущими языками пламени от подожжённых жилищ.
Россия потеряла Польшу, Галицию, Литву и была отброшена на линию Двины и Полесья.
А тут ещё буржуазия, сорганизовавшаяся для борьбы с бездарной властью (в целях предотвращения революции), была как громом поражена известием о том, что Дума будет распущена.
3 сентября в огромном кабинете председателя Думы собрались возмущённые лидеры.
Одни толпились посредине комнаты, окружая говоривших; другие о чём-то тревожно советовались с председателем у стола.
На угловом бархатном диванчике сидело несколько человек, а перед ними стоял депутат с трубкой газеты в руках и, постоянно оглядываясь и жестикулируя пальцами, говорил:
– Они идут к гибели, катятся к революции! И всё-таки они продолжают свою политику! Рабочих в Иваново-Вознесенске расстреливают, служащих путиловской больничной кассы арестовывают и, наконец, – он отступил от слушавших на шаг, – наконец, распускают Думу!
– Власть испугалась прогрессивного блока, когда он заговорил о министерстве доверия, – сказал один из слушавших, – потому и распускают.
– Пусть только распустят!
– Мы не будем расходиться! – кричали одни.
– Надо объявить себя Учредительным собранием! – кричали другие.
Какой-то худощавый депутат в визитке бегал по кабинету, сжав голову руками, очевидно, при ужасной мысли, какой будет взрыв, когда объявят о роспуске.
Депутат с длинными седыми волосами, стоя посредине кабинета и простирая руки то в одну сторону, то в другую, призывал к мудрости и выдержке:
– Нас хотят заставить идти нелегальным путём и потом свалят на нас вину за военные неудачи.
Но все его труды оставались тщетны. Шум не только не уменьшался, а увеличивался ещё больше.
– Связали нам руки честным словом и сделали из нас дураков!
– Довольно честных слов!..
Председатель Думы Родзянко видел, что ему приходится иметь дело с разбушевавшейся стихией. Но он хорошо знал, что русский человек прежде всего имеет потребность высказаться и излить своё негодование, хотя бы не по адресу или просто в пространство.
Поэтому он всячески задерживал открытие заседания, в котором предстояло объявить о роспуске.
Наконец, – когда все глотки охрипли от крика, а некоторые, разбившись на отдельные группы и пары, уже успели переругаться между собой, – Родзянко решил, что момент настал.
Он потребовал внимания и сказал, что нужно с политической мудростью выдержать это новое испытание, продолжать бороться легально и не поддаваться провокации ослепшей власти, чтобы не лить воду на мельницу левых и не докатиться до революции.
Все, устав и ослабев от крика, приняли это заявление почти без протеста.
Только один сказал:
– Как же мы будем бороться, если нас распустят? Где мы будем бороться?…
Но решение вожаков ещё не дошло до всей массы депутатов, находившихся в зале, и думский зал никогда ещё не имел такого вида, какой он имел в этот день.
Там стоял гул от сотен возмущённых голосов.
Публика на хорах в волнении перешептывалась и, наклоняясь через барьер, приставляя рупором руки к ушам, старалась расслышать отдельные слова в сплошном гуле, который доносился снизу, из зала.
Некоторые слабонервные дамы, предчувствуя возможность чего-то ужасного, может быть, даже кровопролития, намеревались покинуть зал.
Родзянко, объявив заседание открытым, пригласил членов Думы с т о я выслушать указ Правительствующему сенату о роспуске Думы, который предложил прочесть своему товарищу Протопопову.
И когда тот читал, депутаты из кадетов обменивались между собой репликами:
– Сколько самообладания нужно, чтобы удержаться от самых резких выражений протеста против этого «высочайшего» произвола!
– Да. Неужели у нас хватит политической мудрости и выдержки не поддаться провокации и подчиниться этому насилию?
Но выдержки хватило. Все не только подчинились, а по предложению того же Родзянки ещё и прокричали «ура» государю-императору, хотя намеренно без всякого энтузиазма, демонстративно показывая этим, что кричат «ура» только потому, что в такой обстановке неудобно затевать скандал.
XIII
Сентябрь 1915 года был самым горячим месяцем для Родиона Игнатьевича Стожарова. Используя предоставленную правительством возможность участия в деле спасения родины, он переоборудовал свою огромную мебельную фабрику под производство гранат.
Кроме того, Стожаров почувствовал вкус к политике и весь ушёл в дело организации военно-промышленных комитетов.
Но он испытывал большую тревогу за свои дела от участившихся забастовок на почве продовольственного кризиса. Путиловцы выступили уже и с политическими требованиями.
Однажды вечером он сидел в кабинете с пришедшим к нему фабрикантом, близким приятелем Гучкова, избранного председателем военно-промышленного комитета, и они беседовали о делах.
Собеседник его был высокий, бритый, похожий на англичанина промышленник в визитке и с бриллиантовой булавкой в галстуке.
Разговор шёл о привлечении рабочих к участию в военно-промышленных комитетах.
– Но вы знаете, какое положение, – сказал фабрикант. – Александр Иванович Гучков обратился к заводским больничным кассам и к рабочей группе страхового совета за содействием в деле привлечения рабочих к участию в комитетах, и они, знаете, что ему ответили?
– Что?
– Они ответили, что уполномочены рабочими только по вопросам страхования, и рекомендовали обратиться к самим рабочим… Что же мы будем ходить по заводам и подходить к каждому рабочему? – сказал, отклонившись на спинку стула и разведя руками, фабрикант.
У Родиона Игнатьевича засвистело в носу. Фабрикант удивленно взглянул на него.
– А рабочие завода «Новый Лесснер» приняли резолюцию, – Фабрикант, похлопав себя по карманам, достал бумажку.
– Вот, извольте посмотреть…
Родион Игнатьевич, морщась от усилия, надел очки и нерешительно взял бумажку из рук собеседника, точно боялся, что она взорвётся.
В ней было написано, что рабочие считают единственным условием для выхода из создавшегося положения только полное крушение капиталистического строя и требуют созыва Учредительного собрания.
Стожаров молча отдал бумажку и снял очки.
– Работа крайних левых, – сказал он немного погодя.
– Ну да, понятно! – воскликнул фабрикант. – Надежда только на меньшевиков, пока они не потеряли кредита у рабочих. Самый талантливый из них Гвоздев. Он сумеет сколотить рабочую группу. Выборы двадцать седьмого числа покажут, на что можно надеяться.
Вдруг Родион Игнатьевич удивленно поднял голову: в кабинет вошла Марианна.
Этого никогда не бывало. Очевидно, её приход вызвали какие-то серьёзные обстоятельства.
Марианна извинилась и попросила Родиона Игнатьевича выйти к ней на минутку в соседнюю гостиную.
Родион Игнатьевич, с трудом поднявшись из глубокого кресла, вышел и, стараясь не дышать носом, вопросительно посмотрел на свою супругу.
– Я нашла на полу эту записку, – сказала Марианна, – и не хочу, чтобы подобные вещи попадали в руки прислуги. Возьмите её, и прошу вас, будьте в следующий раз аккуратнее.
Родион Игнатьевич с недоумением взял записку, и сейчас же его короткая шея и лицо сначала стали красными, потом лиловыми.
В записке стояло: «Благодарю за подарок. Люблю».
– Не понимаю, откуда это, – сказал он невнятно. – Это не моё. – И поторопился уйти в кабинет.
Беседа продолжалась, но Родион Игнатьевич стал рассеян, отвечал невпопад, а один раз, забывшись, проворчал:
– Что за дурацкая манера совать в карманы записки…
Его собеседник удивленно поднял глаза, но, поняв, что это относится не к нему, промолчал и стал прощаться.
Осень 1915 года была для Марианны самым беспросветным временем её жизни. Гибель от врага с яркой катастрофой, насилиями, кровью и пожарами, о которой так хорошо пел молодой поэт, не пришла и только отравила своим ядом душу.
Марианна не препятствовала мужу в его политической деятельности, но для неё эта деятельность, как и всё земное, более чем когда-нибудь, не имела никакого значения. И когда Родион Игнатьевич принёс ей однажды редкое бриллиантовое колье, она грустно усмехнулась на детскую наивность этого грузного человека.
Что для неё камни?…
Она только со свойственной женщине догадливостью поняла, что её полнокровный супруг, должно быть, чем-нибудь виноват перед ней.
Роковая записка подтвердила эту догадку. А потом ей удалось увидеть и самый предмет её слишком земного мужа. Она оказалась румяной девицей с плотной талией и мещанскими манерами. В обществе с такой показаться было явно неудобно, и опасаться за свои права жены было нечего. Тогда Марианна с выдержкой и мудростью сказала себе, что эта сторона жизни мужа является его частным делом. Она только несколько беспокоилась, не передаст ли он т о й слишком много ценностей и не подарил ли он ей, Марианне, это колье только потому, что той подарил что-нибудь более существенное?
Но Марианна верила в житейскую мудрость мужа и знала, что он на ветер денег не бросит и с надлежащей осторожностью сумеет оградить себя от нежелательных посягательств.
Что же касается колье, то отказываться от него, во всяком случае, не надо, лучше положить его в какое-нибудь сугубо сохранное место.
А когда Родион Игнатьевич со всей силой своего темперамента отдался политической деятельности, она осторожно посоветовала ему часть капитала перевести в лондонский банк.
У Стожарова же, очевидно, зрела какая-то новая мысль. Он в ответ на это сказал:
– На свете всё возможно… возможно и то, что скоро своя рука будет владыка…
Что он подразумевал под этим, так и осталось неизвестным.
Но пока что он со всей свойственной ему энергией отдавался новой для него стихии политической борьбы.
XIV
В средних числах сентября, в одно из воскресений, Шнейдер, Маша и Макс с Черновым отправились под видом загородной прогулки на массовку, которая собиралась в лесу около одной из пригородных станций по вопросу об участии рабочих в военно-промышленных комитетах.
На третьей остановке от города они сошли. Одновременно с ними сошли ещё несколько человек. Перешли через мостик и свернули в чащу, предварительно посидев на опушке, чтобы посмотреть, не следят ли за ними.
На небольшой полянке в версте от станции уже дожидались приехавшие раньше люди в пиджаках и косоворотках. И каждую минуту подходили с разных сторон новые, парами и одиночками.
День был один из тех, что иногда бывают в сентябре. Небо было чистое, высокое, безоблачное, солнце грело точно летом. Жёлтые листья на берёзах ярко золотились на блещущей синеве небес. Над убранными полями летела паутина.
Те, кто пришёл раньше, лежали на траве. Одни курили, сдувая пепел в траву и негромко разговаривая. Другие просто лежали на спине и смотрели в небо, сделав кулак трубочкой. Некоторые, разворачивали газеты и доставали яйца и хлеб.
– Что ж, к зиме и подохнешь, – сказал один рабочий, чистивший яйцо, возражая на слова своего соседа о том, что с продуктами всё хуже и хуже.
– Ежели будем так сидеть и ждать, то, известное дело, подохнем.
– Зато другие поправятся…
– На нашей шее?
– А то как же… Это самое хлебное место… Об чём разговор-то нынче будет?
– Там увидим. Разговаривать, слава богу, есть о чём.
Шнейдер в чёрной рубашке и студенческой куртке, углубившись, набрасывал что-то на клочке бумажки у пня, а стоявший сзади него Чернов то беспокойно поглядывал на собиравшихся рабочих, то на то, что писал Шнейдер.
Пришёл какой-то человек в сопровождении трёх рабочих, которые жались около него. Некоторые встали к ним навстречу и собирались около них. Другие продолжали равнодушно лежать на траве. Один только спросил своего соседа, кто это пришёл.
Тот ответил, что член Петербургского комитета.
Пришедший был плотный пожилой мужчина с чёрными волосами, поднимавшимися у него на голове целой шапкой, и надо лбом белела седая прядь волос.
Он был в белой рубашке и надетом поверх неё сером люстриновом пиджачке.
Он говорил с окружившими его рабочими, иногда рассеянно улыбался. Иногда в ответ на замечание какого-нибудь рабочего похлопывал его по спине. Его глаза всё время обегали поляну, как бы проверяя наличную силу.
– Ну что же, товарищи, надо поговорить, – сказал он, остановившись у высокого пня. – Наша нынешняя массовка проводится при совершенно исключительных обстоятельствах.
Сидевшие на траве стали подниматься и как-то лениво собираться ближе.
– Для порядка председателя нужно выбрать, – сказал член комитета. – Кого выберем?
– Председательствуй ты, чего там ещё канитель разводить, – сказали несколько голосов.
– Ну, ладно, – ответил член комитета, подойдя опять к высокому пню, от которого отошёл было, когда предложил вопрос об избрании председателя. – Положение дел вот какое…
Он очень коротко обрисовал катастрофическое положение на фронте и в тылу и указал на занятую буржуазией позицию в деле защиты страны.
– Главным вопросом нашей беседы будут военно-промышленные комитеты, к выборам в которые буржуазия бешено готовится и старается вовлечь в них рабочих. Вот об этом и поговорим.
Он остановился, взглянул на подошедшего к нему Шнейдера, который положил записку на пень.
– Мы должны наметить твёрдую общую линию поведения, потому что если каждый завод, каждое предприятие будут действовать сами по себе, а каждый рабочий будет думать тоже про себя, то нас так поодиночке всех зажмут. Меньшевики им в этом помогут…
– Правильно, – сказал чей-то голос.
– Вот по этому вопросу и предлагаю высказаться, – сказал председатель, бегло взглянув в ту сторону, откуда раздалось восклицание. Потом посмотрел на положенную Шнейдером бумажку и сказал: – Слово предоставляется члену Выборгского районного комитета товарищу Шнейдеру.
Маша с Максом сидели в стороне на поваленном дереве. На Маше было синее платье с белым горошком, а на голове беленький платочек, повязанный концами назад. Она, видимо волнуясь за Шнейдера, не отрываясь, следила за ним, когда он остановился у пня.
Макс сегодня, вопреки своему обыкновению хорошо одеваться, был в старенькой тужурке и синей косоворотке.
По этому поводу Шнейдер, ещё в городе покосившись на него, сказал:
– Решил приодеться с о о т в е т с т в у ю щ и м образом?
– Что? – спросил Макс, не расслышав, но улыбнувшись, думая, что Шнейдер сказал что-то смешное.
Шнейдер ничего не ответил…
Некоторое время Шнейдер выжидал, стоя около пня.
– Товарищи, буржуазия сколачивает свои силы. Главная её цель – сделать рабочих покорными своей воле. Она пытается милитаризировать заводы, то есть прикрепить вас к ним, сделать вас своего рода крепостными. Открытым путём она боится пойти на это, поэтому хочет привлечь вас к выборам в военно-промышленные комитеты, куда, конечно, выберут послушных меньшевиков, и они продадут вас со всеми потрохами…
– Чёрта с два! – произнёс кто-то.
– Энергичными восклицаниями дела не сделаешь, – откликнулся Шнейдер на голос, – а нужно решить, идти при таких условиях в промышленные комитеты рабочим или не идти?
– Чего же самим-то под обух лезть?
– Своими руками петлю себе на шею накинуть? – раздались голоса.
– Они рассчитывают, что с вовлечением вас в промышленные комитеты забастовки прекратятся, и тогда золото широкой рекой польётся в их карманы, а вы останетесь опять ни при чём, несмотря на все сладкие обещания.
– Ну их к чёрту с их выборами! – сказал рабочий, сидевший впереди, сорвав горсть травы и бросив её на землю.
– Нет, это неправильно. Мы пойдём на выборы, но используем их в целях нашей агитации. Мы будем иметь возможность поговорить. Но мы должны воздержаться от какого бы то ни было участия в деле обороны, какими бы сладкими коврижками нас ни заманивали, и бастовать! Бастовать! Буржуазия знает только один сильный аргумент: убытки. По отношению к ней это самое убедительное средство. И мы должны её бить этим аргументом. Чем она больше жиреет, тем больше мы будем худеть. А я предлагаю сделать наоборот.
Он отошёл от пня, вызвав последней фразой несколько улыбок, потом сейчас же погрузился в книгу, как будто совсем не интересуясь впечатлениями от своего выступления.
После минутного молчания вдруг заговорили все.
– Правильно!
– Иного исходу и нету. Закрывай лавочку.
– Что ещё другие скажут…
– С другими нечего церемониться, можно и подогнать.
– Известное дело, немало таких, что десять рублей в сутки получают, так тем чего бастовать.
– Прихвостней к чертям!
Говорили ещё человека три; потом вышел какой-то улыбающийся парень, комкая фуражку в руках. Его сзади с шутками подталкивали, поощряя к выступлению. Он улыбался улыбкой доброго малого, который говорить не мастер и если чего напутает, то сам первый же засмеётся и, махнув рукой, уйдёт.
И все смотрели на него с такими же улыбками.
Он постоял, стараясь не смотреть на лица, а вверх, мимо них, чтобы собраться с мыслями, и старался не слушать обращённых к нему поощрительных восклицаний.
Но постояв немного, он опять улыбнулся, ещё более широкой и добродушной улыбкой, и сказал:
– В мыслях было много, а сейчас всё выскочило. Одним словом, говорить долго нечего: в комитеты не ходить, а сматывай удочки и вся недолга. Вот и вся речь, – прибавил он уже под общий смех и, махнув рукой, в которой у него была фуражка, скрылся в раздвинувшейся толпе рабочих. Видно было, как они провожали его поощрительными восклицаниями и похлопыванием по спине.
– Товарищи, – сказал председатель, опять подходя к пню, точно это была трибуна, – уступки, которые делает сейчас царизм, идут на руку буржуазии и меньшевикам, которые держат руку буржуазии, а никак не нам. Они играют в парламентаризм. Наша же борьба не парламентская. Наша борьба будет на улице. Нам никаких уступок со стороны царизма не нужно, кроме одной…
– Чтобы он убирался к чёртовой матери, – сказал кто-то негромко сзади.
Все засмеялись.
– Совершенно верно, – подхватил оратор. – Итак, наша линия ясна! Ни в какие соглашения с буржуазией не входить и бастовать, бастовать.
– Правильно!
Когда после массовки садились в поезд, то увидели, что из встречного поезда выскочили два человека в пиджаках с усиками и растерянно смотрели на рабочих. Но сейчас же сделали вид, что они ими нисколько не интересуются.
– Опоздали! – послышались веселые иронические голоса.
А добродушный парень замахал в окно фуражкой и крикнул:
– Мы уже всю закуску съели, покамест вы собирались.
И было видно, как один из приехавших с досадой плюнул и отвернулся.
– Премии нынче уже не получат, – сказал кто-то из сидевших в вагоне, – зазря спешили.
– А всё-таки, откуда они узнали?
– Добрых людей много…
XV
Уже три дня, как завод, на котором перед своим арестом работал Алексей Степанович, остановился. Рабочие приходили на завод, но сидели, ничего не делая, ходили в курилку и не отвечали на вопросы старших мастеров и администрации.
В 12 часов около ворот завода остановился автомобиль, и вышли несколько человек в пальто и шляпах.
Это были члены Думы, приехавшие убеждать рабочих продолжать работу.
– Кадеты приехали! – послышался чей-то торопливый и в то же время весёлый голос.
– В начале войны тоже ездили, всё на автомобилях.
– А потом автомобили надоели – на нашей шее поехали.
– Вот, вот, – говорили рабочие.
Когда рабочих стали собирать для беседы, все нехотя поднимались, сходились в инструментальный цех, где было чище и свободнее.
Своим равнодушным видом рабочие как бы показывали, что они идут только потому, что это члены Думы, и хотя они г о с п о д а, в шляпах, всё-таки они попробуют их послушать.
В цеху среди синеватой дымки под стеклянной полукруглой крышей из мелких стёкол, с железными ажурными стропилами и скрепами, уже гудели голоса, и входили всё новые и новые группы.
Члены Думы, стоя тесной кучкой, ждали, когда соберутся рабочие, изредка переговариваясь между собой. Рабочие, пришедшие первыми, стояли близко от членов Думы и разглядывали их.
– Товарищи! – сказал один из депутатов, полный человек, с румяным лицом и в очках. Он снял шляпу и, глянув себе под ноги, встал на сломанное чугунное колесо, чтобы быть выше. – Товарищи! То, что вы сейчас делаете, – это преступление перед страной и союзниками. Вы отдаёте врагам свою родину, вы предаёте своих братьев, сидящих в окопах! – выкрикнул он, взмахнув шляпой. – Вы хотите, чтобы немцы у нас стали хозяевами?…
– Один чёрт!.. – послышалось из середины толпы, которая стояла перед приехавшими тесным полукругом.
Оратор сделал вид, что не слышал этой фразы.
– Мы сейчас победили власть, она пошла на уступки. Теперь под контролем общественности мы будем работать…
– Кто это мы? На чьих спинах работать? – послышалось сразу два голоса.
Оратор смутился, потерял нить мысли, но сейчас же оправился.
Рабочие, стоявшие в синих фартуках, с чёрными от работы руками, перестав слушать, приподнимались на цыпочки и искали, кто это сказал.
– Нам нужно проявить гражданскую выдержку и терпение! – продолжал оратор, повышая голос и стараясь этим привлечь к себе внимание.
– Вам хорошо терпеть, когда вы на машинах раскатываете…
– И чем они больше терпят, тем им больше в карман попадает. – опять раздались голоса.
Стоявшие рядом с оратором депутаты пожимали плечами.
Угрюмо-молчаливое и враждебное настроение рабочих начало сменяться весёлым. Они не столько слушали оратора, сколько весело переговаривались.
Оратор, заметив это невнимание, повысил голос:
– Эти реплики не по адресу. Мы приехали к вам узнать нарушителей ваших интересов. Народные представители не могут знать сами всего, что творится в стране, и вы должны поставить нас в известность о вашем положении. Мы приехали с тем, чтобы узнать от вас… правду.
В цех неожиданно вошёл пристав в белых перчатках и с шашкой на боку и озадаченно остановился в стороне при виде членов Думы.
– Опоздал… наскочила коса на камень, – послышались иронические голоса.
Пристав стоял, по-военному вытянувшись. Рабочие, разглядывавшие пристава, снова повернулись к оратору, продолжавшему речь.
– Вам есть кому заявить о своих требованиях – вашим представителям, членам Думы, и вы, не оставляя работы, можете получить удовлетворение.
– Чего там заявлять, и так известно, – заговорили сразу несколько голосов.
– Говорите кто-нибудь один, а то ничего не слышно.
– Терехов, иди, выходи. – требовали рабочие и стали подталкивать товарища.
Терехов, пожилой человек с жёсткими волосами и небритым седым подбородком, нехотя вышел, как-то замялся, но сейчас же решительно взглянул на ожидавших его выступления членов Думы.
– Наше заявление простое: машина без угля не работает, а рабочий без хлеба. Купчишки на мясо накинули? – Он быстро взял подмышку картуз и загнул один палец. – На яйца накинули? – Он загнул другой палец. – И на хлеб насущный накинули…
– Загинай сразу все пальцы, не ошибёшься, – сказал кто-то сзади.
Пристав высматривал в толпе кричавших.
– …А заработки наши всё те же, какие были.
– Так что у вас только экономические требования? – спросил член Думы в золотых очках.
– А как же, мы другого не касаемся, – отозвался один голос.
– А как же насчёт восьмичасового и всеобщего?…
Но сейчас же его перебили сконфуженные голоса стоявших ближе к членам Думы:
– Будет нахальничать-то! Люди об деле приехали говорить, нечего зря глотку драть.
– Ему одно дают, а он уже за другое хватается.
И все взглядывали на членов Думы, как бы извиняясь за людей, не понимающих хорошего обращения.
Пристав при первых же раздавшихся голосах торопливо вынул записную книжку. Но член Думы в золотых очках, повернувшись к нему и поморщившись, сказал:
– Не можете ли вы оставить нас? Члены Думы достаточно авторитетные лица, чтобы говорить с рабочими без надзирателей.
По рядам рабочих пробежали улыбки. Глаза всех устремились на пристава.
– Здорово отбрил. – послышался негромкий голос.
Пристав возмущённо отошёл в сторону и боком, недоброжелательно поглядывал на членов Думы.
– Товарищи! – продолжал член Думы в золотых очках. – Ваши экономические требования справедливы. Что же касается политических, о которых заявляли лишь отдельные голоса, то они для вас сейчас… непрактичны. Нажать на правительство и заставить его удовлетворить ваши экономические требования мы можем и добьёмся этого, а если начинать с политических, значит, идти на верный провал и экономических требований.
– Ладно, хоть бы что-нибудь-то…
– За большим погонишься, и малое потеряешь, – послышались дружные голоса.
– А как же с резолюцией?… На похлёбку вас поймали?… – крикнул голос сзади.
– Да ну, резолюция… куда высовываешься…
– У него жены, детей нету, отчего ему и за резолюцию глотки не драть. А вот как дома пять ртов сидят, не захочешь и резолюции, – заговорили несколько голосов.
– Чего там! Не сули журавля в небе, а дай синицу в руке.
Член Думы взмахнул шляпой, как бы прося внимания, и сказал:
– Но напрасно вы, товарищи, думаете, что мы откажемся от наших политических требований. Мы только сейчас, в трудный для власти и родины момент, не хотим поднимать смуты, чтобы не дать врагу козыря в руки, но чем дольше мы терпим сейчас, тем категоричнее мы поступим и посчитаемся с властью, когда кончится война и мы разобьём врага.
Гостей провожали всей толпой до машины и вслед долго махали шапками.
И действительно, на следующий день была получена прибавка. Только Терехов и ещё человек пять, высовывавшихся наперёд, оказались арестованы и куда-то увезены.
– Это вот чёрт-то с ясными пуговицами стоял тут, – говорили, – это его рук дело…
– Терехова жалко, а этих так и надо, задаются уж очень, – говорили некоторые рабочие.







