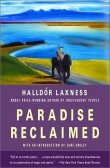Текст книги "Избранное"
Автор книги: Оулавюр Сигурдссон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 41 страниц)
6
Незаметно подошло осеннее равноденствие 1944 года, и я заметил, что споры о всенародных делах получили новый толчок. Кругом говорили, что дни внепарламентского правительства сочтены и скоро будет образовано парламентское правительство из представителей трех партий, в том числе из красных, одержавших серьезную победу на выборах. Сначала Эйнар Пьетюрссон отказывался верить этим слухам, считая абсолютно немыслимым, чтобы, как он выразился, ответственные руководители государства пошли на поводу у безответственных фанатиков, большинство из которых страдают каким-нибудь комплексом, особенно комплексом неполноценности. Однако шеф воспринял этот слух совершенно спокойно, заметив, что он не лишен оснований, и велел Эйнару придержать язык и помнить, что акционеры общества «Утренняя заря», финансирующего «Светоч», не хуже Эйнара знают, с кем следует вступать в коалицию, а с кем нет.
Подвальный ресторанчик на улице Ингоульфсстрайти гудел от досужих предсказаний и гипотез. Один картавый умник заявил как-то, ссылаясь на якобы достоверные источники, будто два большевистских лидера провели сепаратные переговоры с крупными промышленниками и пытались склонить их к сотрудничеству, обещая вечную поддержку, если они согласятся сформировать правительство, которое обновит и увеличит рыболовный флот. Другой умник вскоре после этого сообщил, что траулеры за границей вот-вот будут закуплены, ведь три партии уже начали борьбу за министерские кресла, в том числе за кресло министра иностранных дел. Только я стал прислушиваться, как третий умник, веселый розовощекий мужчина, поклялся, будто бы главный организатор предвыборной кампании консерваторов, управляющий Бьярдни Магнуссон, у него на глазах в полночь в вестибюле гостиницы «Борг» обнимался с красным историком, а потом они, шатаясь, вместе брели по улице, распевая студенческие песни «Горы – любовь моя», «Зимние сумерки» и, конечно, «Не подводи страну родную, а напейся лучше вдрызг». Сам я высказывался не больше, чем обычно, но подумал, что последнее событие, может, и впрямь имело место. Так как накануне вечером мой квартирохозяин после трехдневного приступа подагры, который, кажется, сильно подействовал на настроение фру Камиллы, печально напевал по-немецки: «О alte Burschenherrlichkeit». Жизнелюбивый умник в подвальном ресторанчике на Ингоульфсстрайти сделал из пения и объятий консерватора и красного историка вывод о том, что консерваторам и радикалам удалось прийти к соглашению.
Если не ошибаюсь, именно в тот день меня ожидал большой сюрприз: едва я вышел из кофейни, собираясь вернуться в редакцию «Светоча», из соседнего дома появился мужчина с кожаным портфелем в руке и с сигаретой в углу рта. На нем было модное коричневатое пальто, чуть ли не верблюжьей шерсти, и начищенные до блеска полуботинки. Это был Гулли, мой бывший сотрапезник, или, вернее, Гвюдлёйгюр Гвюдмюндссон, рейкьявикский торговец оптом и в розницу.
– Гулли! – окликнул я.
– О, привет! – произнес он с сильным американским акцентом. – Что скажешь хорошего?
– Вернулся, значит?
– Йес, сэр. Так оно и есть, – сказал он и добавил по-английски: – Живой и невредимый, старина.
– Когда ты приехал?
– В начале месяца.
– Не страшно было на море?
– Ну, мне лично – нет. А вот жена боялась, – ответил он, мешая исландские слова с английскими. – Конечно, сейчас плавать опасно, хотя мы и были в конвое. Море кишело подлодками, которые то и дело топили суда.
– Вам повезло, что вы остались в живых, – сказал я.
Гулли вынул изо рта сигарету и стряхнул пепел жестом подлинного гражданина мира.
– Пора им кончать эту проклятую войну. Мне ведь нужно назад в Нью-Йорк.
– Когда?
– После рождества.
– Ты что, того? – удивился я. – Зачем?
– Тайна, дружище. Секрет. Бизнес.
– А твоя жена…
– Нет, она останется дома. Через месяц мы ждем первенца.
– Поздравляю!
– Thank you, sir [136]136
Благодарю вас, сэр (англ.).
[Закрыть].
– Не стоит тебе так рисковать снова, – сказал я. – Ну, как было в Америке?
– Превосходно. Просто превосходно. Надо бы и тебе съездить туда. Я сразу легко сориентировался в Нью-Йорке и чувствовал себя на Манхаттане как дома. Но жене все было не по нраву. Чуть не умерла со скуки.
– Да, это уже хуже.
– Тебе бы подняться на крышу небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг. Побывать на Уолл-стрит, дружище, и сходить в зоопарк.
– С этим придется подождать, – сказал я. – Помнится, перед отъездом в Америку ты говорил о лицензии на торговлю. Тебе удалось раздобыть ее?
Гулли самодовольно прищурился, но все же снизошел до меня.
– Так ты, значит, не занялся торговлей?
– Нет.
– Тогда почему ты спросил о лицензии на торговлю?
– Просто так.
Он неопределенно покачал головой, но дал понять, что жаловаться ему нечего: Гвюдлёйгюр Гвюдмюндссон, торговец оптом и в розницу, еще всех удивит. Кроме того, ему надо прощупать директоров банков на предмет возможного создания еще одного предприятия.
Меня разобрало любопытство: что за предприятие?
– Top secret [137]137
Совершенно секретно (англ.).
[Закрыть], – ответил он. – Акционерное общество. Может быть, ты такой состоятельный, что хочешь вступить в него?
– Ну что ты, что ты, – сказал я.
– Ничего, ничего, дружище. Я тоже спросил просто так, как и ты.
В этот момент какой-то человек, поравнявшись с нами, воскликнул, точь-в-точь как и я чуть раньше:
– Гулли! Вернулся!
– Йес, сэр;—ответил Гулли, – живой и здоровый. – И он увел с собой этого мужчину, махнув мне рукой на прощанье. – До свиданья, дружище! Пока!
Насколько я помню, новое правительство приступило к своим обязанностям в первый день зимы. Это было трехпартийное правительство, в которое вошли коммунисты. В то время из-за трехнедельной забастовки типографских рабочих газеты не печатались. На следующий день после смены правительства я один сидел в редакции «Светоча», когда с улицы зашел шеф.
– Трудолюбия тебе не занимать, Паудль, – сказал он приветливо. – Чем ты занимаешься сейчас?
Я сказал, что перевожу последнюю главу детективного романа, а после этого подберу несколько анекдотов.
– Эйнар приходил сегодня?
– Заглянул один раз, а потом ушел на встречу с каким-то американцем.
– На сколько номеров у нас хватит материала?
– По крайней мере на три, – сказал я. – А что, разве забастовка заканчивается?
– Надо полагать, – ответил он и, сняв шляпу и пальто, направился к себе в кабинет. – Если она не кончится, то хорошего не жди.
Несмотря на забастовку печатников, он явно был в хорошем настроении, насвистывал то одну, то другую мелодию, по-видимому успевая заодно просматривать газеты или книги, потому что я долго слышал шорох бумаги. Но вот на несколько минут все затихло, а потом он вышел ко мне, уселся на стул Эйнара Пьетюрссона, выстукивая рукой по столу ритм вальса.
– Ты себе не даешь отдыха, Паудль.
Не помню уже, что я ему ответил.
– Все кропаешь да кропаешь.
Я смотрел то на английский детектив, то на рукопись.
– И все же ты очень недоволен «Светочем»!
Я сделал большие глаза, не понимая, куда он клонит.
– Можешь не говорить ничего, мой мальчик, – продолжал он. – Ты всегда был недоволен журналом. Но работа от этого не страдала, так что я не жалуюсь. И до некоторой степени ты прав.
Я по-прежнему не знал, что сказать.
Шеф поднялся со стула и принялся расхаживать по комнате.
– Шутки ради я сейчас просмотрел подшивки нашего журнала за два последних года, сорок второй и сорок третий. Надо бы постараться улучшить не только содержание, но и внешний вид журнала. Но с этим придется подождать до переезда в новое помещение. Да и Финнбойи Ингоульфссон должен вернуться.
Я снова подал голос:
– Когда же мы переезжаем?
– Следующей осенью. В сентябре.
– А когда возвращается Финнбойи?
– Самое позднее – следующей осенью. По крайней мере так я понял из его последнего письма.
Недавно я опять имел случай убедиться, что Вальтоур относится к Финнбойи Ингоульфссону почти с отеческой заботой. Невольно подслушал, как шеф разговаривал по телефону с акционерами «Утренней зари» о том, что этому его протеже нужно сейчас послать денег, чтобы он мог окончить институт журналистики, лучший в США. Шеф не скупился на похвалы этому одаренному парню, из которого может выйти журналист с мировым именем. И все же, несмотря на обычные славословия, мне показалось, что в его голосе не слышно былого энтузиазма. Причина этого оставалась для меня загадкой.
– Ну и упорство, – сказал мне шеф. – Сколько тебе еще осталось переводить?
– Около страницы, – ответил я.
– Прервись на минутку. Мне пришла в голову одна мысль.
Я отложил авторучку.
– Хочу поручить тебе усовершенствовать журнал, как только мы разделаемся с запасами.
Расхаживая по комнате, он объяснил, что дает мне почти полную свободу в выборе рассказов для перевода. Но каждый четвертый рассказ должен быть про любовь – так хотят читатели. Политики в журнале по-прежнему не будет. В этом он смело полагается на меня, сторонника нейтралитета. Далее, мне предоставляется право подбирать материалы по исландской культуре. Но исландская поэзия и проза останутся его собственной вотчиной.
– Ну что скажешь? – спросил Вальтоур. – Доволен?
Я поблагодарил за доверие и одобрил его план. Мне было особенно по душе, что теперь я смогу самостоятельно отбирать для публикации три рассказа из четырех.
– Ну вот, Паудль, я ведь не так глуп, как ты думаешь, – сказал он удовлетворенно. – Остается только выяснить, что думают об этих переменах читатели, а мы обязательно учтем их просьбы и пожелания. Не забывай, в читательских письмах все еще есть просьбы о публикации Эйлифса. Намотай это на ус! – сказал он с усмешкой, после чего закрылся в своем кабинете.
Я вернулся к переводу, но никак не мог сосредоточиться. Мысли уже были заняты любимыми иностранными прозаиками, мастерами короткого рассказа. Кроме того, я раздумывал над неопределенным замечанием шефа насчет Арона Эйлифса. Когда перевод приблизился наконец к завершению, Вальтоур открыл дверь и, снова усевшись на стул Эйнара Пьетюрссона, в глубокой задумчивости забарабанил пальцами по столу.
– Паудль, – сказал он после долгого молчания. – Как тебе нравится название «Эльдорадо»?
– Эльдорадо… Разве это не страна золота, страна грез, иллюзий и блаженства?
– Я не просил тебя переводить. Я спросил, как тебе нравится это название, – сказал он с некоторым нетерпением. – Например, для предприятия.
– Исландского?
– Да.
– Это название не исландское, – сказал я.
– Я знаю, но тебе нравится, как оно звучит?
– Конечно, звучит по-испански.
– То-то и оно, – кивнул шеф. – Послушай, сколько ты за год изнашиваешь кальсон?
Я ожидал чего угодно, но только не такого вопроса. На что он намекал? Куда клонил? Я честно признался, что никогда не вел счета изношенным за год кальсонам, но по зрелом размышлении пришел к выводу, что в среднем получается две пары.
– А фуфаек?
– Тоже две.
– А имеешь ли ты представление о том, сколько трико изнашивают за год женщины?
– Нет. Это много от чего зависит, например от материала и от телосложения, – ответил я, едва скрывая удивление.
– Сколько нас, исландцев? Сколько женщин и сколько мужчин?
– Лучше всех это знает Статистическое управление, – ответил я.
– Совершенно верно. Статистическое управление. – Он взглянул на часы. – Пожалуй, поздно звонить туда сейчас. Напомни-ка мне об этом завтра.
– Паудль, окажи мне услугу, – сказал он, надевая шляпу. – Спроси своих знакомых обоего пола, сколько в среднем они изнашивают нижнего белья.
С этими словами он вышел на улицу прежде, чем я успел раскрыть рот. Теперь при переводе последней страницы романа мне пришлось напрячься вдвойне, так как загадочная просьба шефа окончательно выбила меня из колеи. Закончив перевод, я бросил рукопись в ящик стола, а потрепанный оригинал – в корзину для бумаг и несколько минут размышлял о том, что связывает среднегодовой износ кальсон и планы усовершенствования «Светоча». Что это вообще за чертовщина такая? Что мне теперь делать? Неужели он действительно хочет, чтобы я ничтоже сумняшеся выспрашивал у людей, сколько они за год изнашивают кальсон? Какое ему до этого дело и кого я должен опрашивать? В среднем, сказал он, но где проходит граница между носкими кальсонами из исландской шерсти и импортными хлопчатобумажными кальсонами, из которых одни были добротными, а другие расползались за довольно короткий срок? Какое будет лицо у Стейндоура Гвюдбрандссона, если я задам ему подобный вопрос? Или у моих сотрапезников, умников из подвального ресторанчика на улице Ингоульфсстрайти? Или у управляющего Бьярдни Магнуссона и фру Камиллы? Бог ты мой! Что скажет фру Камилла, когда узнает, что я донимал ее дочерей, Ловису и Маргрьету Йоуханну, расспросами о среднегодовом количестве изношенных трусиков? Меня по праву примут за сумасшедшего и как минимум выставят за дверь! И все равно я не представлял себе, как отказаться от выполнения просьбы шефа, который и всегда-то хорошо ко мне относился, а сейчас и вовсе проявил полное доверие.
Со вздохом я надел пальто и уже собирался снять с вешалки шляпу, когда появился мой коллега Эйнар. Он сообщил, что забастовка печатников вот-вот окончится, и хотел сесть за машинку, чтобы отстукать очередные заметки Сокрона из Рейкьявика.
– Эйнар, – сказал я, – сколько ты изнашиваешь в год кальсон?
– Почему ты спрашиваешь?
– Так просто. Мы только что обсуждали…
– С шефом?
– Да.
– Сколько лично я изнашиваю кальсон?
– Нет. Мы обсуждали, сколько люди в среднем изнашивают в год.
– Почему вы задумались над этим?
– Из любопытства.
– Гм. Не знаю, сколько я изнашиваю в год. – Он перестал смотреть на меня во все глаза и сел.
– Может быть, две пары?
– Не знаю, и все тут. Нижнее белье мне всегда покупает мать, – сказал, он, вставляя бумагу в машинку. – Думаю, мало кто способен дать точный ответ.
Мой коллега говорил дело. Я попрощался и вышел из редакции, а он, наморщив лоб, принялся печатать очередное послание Сокрона из Рейкьявика. Вместо того чтобы покорпеть над справочниками в Национальной библиотеке, я долго шатался по улицам. Но даже потом, в ресторанчике на Ингоульфсстрайти, мне не пришло в голову ни одной конструктивной мысли. Опрашивать других я просто не решился.
На следующий день решение пришло само, в образе Гулли, шедшего мне навстречу в верблюжьем пальто и деловито размахивающего коричневым портфелем из толстой кожи.
– Привет, дружище. – Он явно торопился куда-то. – Что новенького?
– Ничего, – сказал я и, так как Гулли уже проходил мимо, поспешно схватил его за рукав. – Хотел спросить тебя кое о чем. Сколько кальсон ты в среднем изнашиваешь за год?
Перестав размахивать портфелем, он резко остановился и посмотрел на меня таким тяжелым взглядом, что мне стало не по себе.
– Я не имею в виду тебя лично, – быстро добавил я. – Просто меня занимает вопрос о том, сколько в год изнашивают мужчины, ну и, соответственно, женщины тоже.
– Та-ак, – протянул он. – А почему ты спрашиваешь?
– Из любопытства.
– Кто-то проболтался, – сказал он, сверля меня глазами, как полицейский. – Ты знаешь что-нибудь об «Эльдорадо»?
– Эльдорадо – это фантасмагория, – сказал я удивленно. – Несуществующая страна золота и драгоценных камней в Южной Америке…
– Ты знаешь что-нибудь о моем акционерном обществе? – перебил он. – Об «Эльдорадо», фабрике нижнего белья, которую я собираюсь создать?
Тут я и понял, что к чему, – и словно гора с плеч: если шеф еще будет наводить справки об износе кальсон, я без колебаний отошлю его к Гвюдлёйгюру Гвюдмюндссону, торговцу оптом и в розницу.
В первом послании Сокрона из Рейкьявика, опубликованном по окончании забастовки печатников, среди философских рассуждений автора о забастовках и их причинах была, в частности, следующая сентенция: «Добиваться повышения зарплаты – еще мало. Мы должны знать, как мы ее расходуем. Многие ли, например, знают точно, сколько кальсон они изнашивают в год?»
7
Однажды вечером я зашел в библиотеку, где вообще бывал довольно часто. Помнится, нужно было вернуть два романа. С другой стороны, я очень хотел подыскать несколько иностранных сборников коротких рассказов, чтобы предложить читателям «Светоча» образцы настоящей литературы.
Я уже довольно долго изучал книги на полках, когда на меня вдруг нахлынули воспоминания о моей комнатушке, о холодном январском дне 1940 года, о полученном мною письме, о зеленом доме на углу улицы Сваубнисгата и переулка Киркьюстигюр, о мемориальной церемонии в Соборе, о Празднике республики в долине Тингведлир и о демонстрации в Рейкьявике на следующий день. Среди толпы в Тингведлире я дважды видел Хильдюр Хельгадоухтир в белой студенческой фуражке. Она была там с матерью и братом, а на демонстрации 18 июня она была с подругой, светловолосой и коренастой, по-видимому, они учились в одном классе. Сейчас она стояла рядом со мной, листая одну книгу за другой. Она показалась мне бледнее, чем раньше, и по контрасту ее каштановые волосы выглядели совсем черными. Она и виду не подала, что заметила меня. А пока я собрался заговорить с ней, нас оттерли друг от друга, и я, выбрав несколько сборников, направился к библиотекарю. Пойти домой и засесть за чтение или вернуться в редакцию и поработать там некоторое время? Я медлил, стоя в коридоре библиотеки. Дело шло к десяти часам. Читатели скоро разбредутся кто куда. Наконец я тоже вышел на улицу и задержался у подъезда, раздумывая о том, куда пойти и чем заняться.
Домой? Зайти в «Скаулинн» выпить кофе? Или немного поработать в редакции?
Хильдюр Хельгадоухтир взяла, как и я, две книги. Заметив меня у выхода, она кивнула, и я протянул ей руку.
– Здравствуй, – сказала она просто.
– Поздравляю, – сказал я.
Она сделала большие глаза.
– С аттестатом зрелости, – пояснил я.
Она усмехнулась.
– Аттестат зрелости!
– Я читал в какой-то газете, что ты получила премию. За сочинение.
– Ничего особенного там не было! – вежливо улыбнулась она и, похоже, хотела уйти.
– Не хочешь ли выпить чашечку кофе? – спросил я. – Например, в «Скаулинне»?
– Спасибо. Я тороплюсь домой.
– Можно я провожу тебя немного? – предложил я.
Холодный ветер дул нам в лицо, пока мы шли к зеленому дому на углу Сваубнисгата и Киркьюстигюр. – Ты учишься в университете?
Она покачала головой.
– Я работаю в конторе, и дома дел тоже предостаточно. Мама тяжело болела, но сейчас уже поправляется.
– Собираешься учиться дальше? – спросил я.
– Да, – ответила она коротко. – Если все будет хорошо.
– Здесь или за границей?
– Надеюсь, здесь, но это пока только планы.
Разумеется, она изменилась. Из подростка превратилась в молодую женщину. Правда, перемены в ней не поддавались четкому определению. Голос, например, был уже не столь задорным, он стал гораздо более бесстрастным, а может, это строгая сдержанность гасила и задор, и теплоту, и недовольство. Наверное, тяжело переживает гибель отца, подумал я, но не решился выразить соболезнование. Потом вспомнил ее деда, к семидесятилетию которого зимой 1940 года написал несколько строк. На мой вопрос о нем она сказала, что он умер. Я пробормотал, что мне очень жаль, но Хильдюр, быстро взглянув на меня, спросила:
– Разве это не закон природы? Он был очень стар, ведь давно перешагнул за семьдесят.
Я обратил внимание, что на руках у нее розовые перчатки, совсем как в 1940 году. Некоторое время мы шли молча, потом она спросила, по-прежнему ли я работаю в еженедельнике «Светоч».
Я кивнул и рассказал, что планируется обновление журнала.
– Давно пора! – усмехнулась девушка.
Я почувствовал себя школьником, которому сделали выговор. Когда показался зеленый угловой дом, Хильдюр снова нарушила тягостное молчание, спросила, живу ли я на улице Аусвадлагата.
– Да, – ответил я.
Откуда она знает мой адрес? Помнить его она не могла. Вероятно, кто-то из одноклассников, знавший дочерей Бьярдни Магнуссона, упомянул о нем. Она подтвердила мое предположение насчет дочерей Бьярдни-вербовщика, как она выразилась.
– Он же управляющий, – сказал я.
– А еще его зовут Вербовщиком. Вербовщиком голосов. Может быть, это некрасиво, как по-твоему?
В ее безучастном, даже тусклом голосе вдруг проскользнула ирония. Я так удивился, что не мог вымолвить ни слова. Да, действительно, с приближением выборов Бьярдни Магнуссон всегда становился вербовщиком голосов и запускал свои должностные обязанности. Но мне не хотелось ни насмехаться над моим квартирным хозяином, ни критиковать его за занятость общенародными делами. «Дочери Бьярдни-вербовщика»… не было ли в ее голосе издевки или какого-то иного оттенка? Может, я ослышался?
– Ну, вот я и пришла, – сказала она, останавливаясь на тротуаре перед зеленым домом. – К сожалению, не могу тебя пригласить. Так уж получается.
– А я и не ожидал приглашения, – пробурчал я, глядя на часы в свете уличного фонаря. – Мне надо поскорее домой, просмотреть эти книги.
– Но ты вроде собирался в «Скаулинн»?
– Нет, это не обязательно.
– Жалко, что я не могу пригласить тебя на чашку кофе, – сказала она.
– Ничего страшного. Я только хотел поговорить с тобой немного и выяснить небольшое недоразумение.
Хильдюр удивленно уставилась на меня, и я напомнил, что однажды она назвала меня Студиозусом, но это не соответствовало действительности. Ведь стихи в «Светоче» за этой подписью были не мои, а чужие. Сам я давно перестал сочинять стихи.
Молчание.
– Если я и назвала тебя Студиозусом, то чтобы подразнить, – сказала она наконец, и выражение ее лица так потеплело, что я даже вздрогнул. – Прости, – продолжала она, снимая розовую перчатку, – прости, что назвала тебя Студиозусом!
– Нечего тут прощать, – пробормотал я, удивляясь, какая у нее холодная рука. – До свидания.
Если мне не изменяет память, я держал ее руку в своей чересчур долго. Может, потому, что рука была очень холодная, а может, ее пальцы реагировали иначе, чем зимой 1940 года.
– Всего хорошего, – улыбнулась она, входя в дом. – Желаю успеха в обновлении журнала.
Я не пошел мимо дома 19 по улице Сваубнисгата, где сочинил для Хельгадоухтир стихотворение к юбилею ее покойного деда Торлейвюра Эгмюндссона, а зашагал через мост к Озерцу. Ветер стал как будто еще пронзительнее. Должно быть, градусов семь-восемь мороза, подумал я. Как же, наверно, мерзла Хильдюр, ведь она так легко одета. Я был недоволен собой, своим глупым поведением. Зачем нужно было заставлять девушку в такой холод идти домой пешком? Зачем во что бы то ни стало нужно было выяснять, почему на пасху 1940 года она назвала меня Студиозусом, автором текстов к танцевальным мелодиям? «Доброй ночи, Студиозус!» – сказала она тогда. Что мне в ее ошибке? Почему я давным-давно не поправил ее, раз мне было не по душе, что она перепутала меня со Студиозусом, с моим знакомым Стейндоуром Гвюдбрандссоном?
Ночь была ясная, на небе ни облачка, только россыпь звезд да месяц на ущербе, но я не обращал внимания на всю эту красоту. Как я уже говорил, я спустился к Озерцу и направился дальше по улице Скотхусвегюр. Если память мне не изменяет, я шагал по улице Тьярднаргата, когда увидел впереди двух парней. Навстречу им из-за угла вышли двое солдат, остановились, поравнявшись с парнями, и в мгновение ока с кулаками набросились на них. Один из парней как подкошенный рухнул на землю, а другой кое-как пытался защищаться. В эту минуту подъехала какая-то машина. Едва она затормозила, солдаты со смехом бросились наутек и пропали во тьме за углом кладбищенской стены. Я подошел к парням одновременно с тремя крепкими мужчинами, выскочившими из машины. Сбитый с ног пытался встать. Выглядел он ужасно: под глазом синяк, губы разбиты, из носа текла кровь. Другой парень отделался мелкими ссадинами.
– Что случилось?
– Эти мерзавцы спросили, сколько времени, и бросились на нас, когда Бьёсси посмотрел на часы!
– Американцы?
– Да.
– Пьяные?
– Да не похоже.
– Эта «игра» уже вошла у них в привычку, – сказал один из троих, носовым платком вытирая кровь с лица парня. – Безобразие! Сейчас же едем прямо в полицию и подадим жалобу на этих негодяев!
– Стоит ли?
– Это наш долг, – решительно ответил автомобилист, попросив второй платок. – Тебе надо к врачу, голубчик! Сколько тебе лет?
– Семнадцать.
Все пятеро уселись в машину и уехали, а я уже не рискнул идти дальше по этим безлюдным местам и сделал крюк, твердо решив избежать встречи с солдатами. Ежели что, перемахну через низкую изгородь – и вниз к Озерцу.
К счастью, до самого дома Бьярдни Магнуссона мне больше не встретилось ни одного солдата. Я так испугался, глядя на окровавленное лицо, парня, что, когда у дома Бьярдни остановилась военная машина, у меня сильно забилось сердце и я на всякий случай приготовился бежать куда глаза глядят. Дверца открылась, и из нее вылез рослый мужчина в форме офицера американской армии. Он придерживал дверцу, пока из машины не вышла нарядная девушка. Мужчина склонился перед ней, взял ее руку, словно актер в кино, и поднес к губам, поклонившись еще раз. В это время я и поравнялся с ними. Зря я боялся: девушка была Ловиса, дочь моих хозяев.
«Вот как она прощается с дружком в десяти метрах от родительского дома», – сказал я себе. Машина между тем уехала, стук каблуков Ловисы приближался.
– Ты что тут подсматриваешь? – спросила она подозрительно.
– Домой иду, – ответил я и, не удержавшись, добавил: – Это не тот, что был с тобой в Тингведлире?
– Молчал бы уж, бесстыдник!
– Не забывай, от людей не утаишься!
– Ну и что такого? Нельзя покататься с воспитанным мужчиной?
– Цыплят по осени считают, – сказал я.
– Вечно ты со своими пословицами!
Мы подошли к дверям дома ее родителей, и я уже хотел повернуть ключ, как она, хихикнув, шепнула мне на ухо:
– Он очень богатый!
Вечером следующего дня город облетело известие о том, что немецкая подводная лодка потопила где-то у полуострова Гардскайи транспорт «Годафосси». Транспорту, шедшему с грузом из Нью-Йорка, оставалось два часа до Рейкьявика, когда в него попала торпеда. Эта новость не была взята с потолка: из команды и пассажиров погибли двадцать четыре человека.
Двадцать четыре.
Как и многим, мне стало тревожно. Я уже начал думать, что кровопролитию настал конец, но война, по-видимому, вспыхнула с новой силой. Безжалостный бог войны вновь отнял у нашего маленького народа несколько жизней, коварно подкараулив и ввергнув их в пучину смерти.
8
Хотя я не могу похвастаться тем, что до сих пор излагал события в строго хронологическом порядке, мне самому удивительно, как это я, дойдя до этого места, вспомнил последний этап в жизни владелицы столовой Рагнхейдюр. Взявшись сейчас за авторучку, я вдруг зримо представил себе рекламные объявления на английском языке, которые по ее просьбе заказал в 1940 году: FISH AND CHIPS, RHUBARB PUDDING WITH CREAM OR MILK, CAKES AND ALE, ICELANDIC BEER. Эти объявления не только возымели желаемый результат, но их притягательная сила намного превзошла все ожидания Рагнхейдюр. Завсегдатаям-исландцам пришлось потесниться перед английскими военнослужащими. Полтора года англичане собирались в ее столовой. Оставляя без внимания тонюсенькое печенье и лимонад, они отдавали должное жареной треске и картошке, наворачивали густую кашу с ревенем, пили безалкогольное «Пиво Эгиля Скаллагримссона», болтали или пели хором. Если я и навещал Рагнхейдюр, чтобы узнать, как идут ее дела, то дальше дверей мне проникнуть не удавалось. Каждый раз я несколько минут вглядывался в синий дым, прислушиваясь к болтовне, смеху или песням наших защитников. Некоторые из этих песен я еще помню – одни целиком, другие частично. Они доносятся до меня издалека, словно эхо, так и слышу:
I’ve got sixpence,
jolly, jolly sixpence,
I’ve got sixpence
to last me all my life.
I’ve got tuppence to spend
and tuppence to lend
and tuppence to send home to my wife.
Солист продолжает:
No cares have I to grieve me,
no pretty girls to deceive me;
I’m as happy as a king, believe me,
as I go rolling home.
А остальные подхватывают:
Rolling home, rolling home,
rolling home, rolling home,
by the light of the silvery moon.
Happy is the day
when a soldier gets his pay,
rolling, rolling, rolling, rolling home. [138]138
У меня шесть пенсов,Серебряных шесть пенсов,Как бы ухитритьсяПрожить на них весь век.Два пенса потрачу,Два пенса дам в долг,Два пенса пошлю жене.Невзгоды меня не достанут.Девчонки меня не обманут,Как кум королю, и все тут,Враскачку домой иду.Враскачку домой, враскачку домой,В лучах серебристых луны.Деньжонки солдат получает.Другу добра он желаетИ враскачку идет домой. (англ.)
[Закрыть]
Иногда эхо прошлого доносит до меня визг и крики – это когда наши защитники приставали к пухленькой официантке. В следующий миг я вижу, как Рагнхейдюр, хозяйка столовой, проплывает с целью инспекции сквозь табачный дым, краснолицая и потная во всей этой суматошной неразберихе, с большим кошельком на поясе, а в это время на кухне Богга резко обрывает пение, занятая мытьем посуды или готовкой, и вздыхает:
– Как же это поется? Ах да, ля-ля, ля-ля.
Не раз до меня доходили сплетни о том, что в столовой у Рагнхейдюр процветает распутство, но мне кажется, эти слухи не имеют под собой никакого основания.
Я был совершенно огорошен, когда Рагнхейдюр позвонила в редакцию и попросила меня помочь ей выучить числительные на языке защитников. Потом она позвонила снова: на этот раз ей понадобилось выяснить, как будет по-английски «теософия» и «перевоплощение», а также «помни, что тебе говорила мать» и «подумай о своей матери». В меру своих сил я старался помочь ей, и она по телефону повторяла за мной эти слова много раз. Наконец она доверительно сообщила мне, что через несколько дней получит в долг исландско-английский словарь – правда, неизвестно, сумеет ли она им пользоваться.
Когда я опять заглянул к ней в столовую, мне стало ясно, зачем ей понадобились эти знания. Официантки у нее были удивительно похожи друг на друга, и ни одна не оставалась больше полугода, по разным причинам. Это были довольно некрасивые, но милые блондинки с пышными формами. Стоило бросить на них взгляд, как они тотчас начинали хихикать, будто от щекотки.
Можете представить себе, что с ними было от легкого прикосновения кончиком пальца. Как только они начинали визжать и хихикать, тут же появлялась Рагнхейдюр, которая, указывая перстом на виновника, произносила по-английски либо «Remember what your mother told you!» [139]139
Помни, что твоя мать говорила тебе! (англ.).
[Закрыть], либо «Think of your mother!» [140]140
Подумай о своей матери! (англ.).
[Закрыть], либо и то и другое. Иногда она добавляла строгим голосом третью фразу, которая далась ей с большим трудом: «No kiss in my house, sir!» [141]141
Никаких поцелуев в моем доме, сэр! (англ.).
[Закрыть]Несмотря на скудные познания в английском, Рагнхейдюр неизменно догадывалась, когда песни были непристойными. Тогда она с важным видом указывала сначала на себя, говоря: «Theosophy» [142]142
Теософия (англ.).
[Закрыть], а затем поднимала указательный палец и изрекала: «Reincarnation» [143]143
Перевоплощение (англ.).
[Закрыть]. Видимо, солдаты понимали, что она хотела этим сказать, так как отвечали на ее слова громким весельем, затягивая новую песню и вставляя вместо непечатных слов какое-нибудь нейтральное, например bless, поднимали стаканы и ревели:
Если не ошибаюсь, заканчивалась эта песня так: