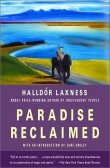Текст книги "Избранное"
Автор книги: Оулавюр Сигурдссон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 41 страниц)
– А потом к девочкам, – продолжал он.
– Нужно переводить…
– Да наплюй ты хоть сегодня на свой журнал. Смотри, уже мхом оброс.
– Не могу, надо идти…
– Ну ладно, вали! Вали, милок! – сказал он недовольно. – Не забудь про фабрику удобрений!
Я надевал пальто, а Стейндоур сидел за столом – свободный человек, независимый от законов будней. Он закурил очередную сигарету и кивнул молодым поэтам, ожидающим в углу за кофе: мол, теперь они могут подойти со своими чашками.
9
Нет, с тех пор, помнится, мой товарищ по дорожным работам больше не устраивал мне такой головомойки. А ведь мог бы спросить, не преобразовал ли я Союз мясников Южной Исландии в Общество защиты животных и кормил ли птичек крошками, мог бы поинтересоваться, как себя чувствует мальчик из Дьюпифьёрдюра в кружевных штанишках христианства, и посоветовать, что следует предпринять тонкой натуре, чтобы найти фабрику удобрений. Некоторые из подобных вопросов едва ли можно назвать уколом иглы, не говоря уж об исследовании аппендикса и обширной операции брюшной полости. Честно говоря, я бы примирился и с беспристрастной операцией брюшной полости, если бы ее результатом стало духовное исцеление, общение с волшебниками и их чарами. Но общения с такими людьми, странствия по мировой литературе мне в ближайшем будущем не предстояло, так же как и предложения выпить виски.
По многим признакам я чувствовал, что. Стейндоур Гвюдбрандссон не хочет ни беседовать со мной, ни исповедовать, ни устраивать встречи с мастерами-волшебниками, как некогда в палатке. Встречаясь на улице, мы приветливо здоровались, он по-дружески укалывал меня вопросом и всегда по-дружески уходил своей дорогой, не дожидаясь ответа. Когда я появлялся в «Скаулинне», он не подходил к моему столику и не приглашал к своему – впрочем, за ним редко пустовало место. Молодые поэты и писатели, казалось, усиленно искали его общества, в первую очередь чтобы обсудить вечные проблемы искусства, поговорить о женщинах, о литературе и присуждении премий. Однако далеко не всегда дело обстояло так, что Стейндоур разглагольствовал перед учениками, обогащая их ссылками на поэзию и прозу таких иностранных гениев, как Элиот, Паунд и Джойс, или делился премудростями любви. Порой я видел, как он ерзал на стуле, возмущенный их невежеством и поверхностностью познаний. А когда его питомцы имели дерзость опубликовать стихотворение или рассказик, называл кое-кого жвачными животными или рыбьими мозгами. Временами он третировал их, передвигая сигарету из одного угла рта в другой, отвечая невпопад или вообще игнорируя вопросы, задумчивый и мрачный, как божество. Случалось, он осматривал залы «Скаулинна» из вестибюля, притворялся, что не видит своих питомцев и, скривившись, исчезал снова. После этого питомцам приходилось несколько дней или даже несколько недель разыскивать его по другим кафе.
В плохую погоду, заваленный работой, корректурами или переводом, я завидовал Стейндоуру Гвюдбрандссону и его собутыльникам, которые, казалось, располагают неограниченной свободой, общаются между собой и, не думая о времени и обязанностях, перелетают из одного кафе в другое, словно бабочки с цветка на цветок. Однако чаще образ жизни моего приятеля по палатке и психолога внушал опасение, что благословенная свобода может дорого обойтись, навредит или вообще сведет на нет его ученость, приучит к безделью, бесшабашному разгулу и даже пьянству. Порой я видел, как он под вечер направляется с миловидной спутницей к ресторану «Борг» если не навеселе, то неестественно возбужденный и суетливый.
Я уже начал думать, что Стейндоур Гвюдбрандссон больше никогда не удивит меня, по крайней мере так, как раньше, и, конечно же, просчитался. Пророк из меня никудышный, а знание людей не лучше, чем у ребенка. Например, незадолго до окончания войны он просто поразил всех и предстал в совершенно новом свете. Я имею в виду стихотворный цикл, опубликованный им тогда, – восемь стихов без названий, сразу сделавшие его знаменитым, потому что они возмущали стражей культуры, одного за другим, вынуждая их выступить во всеоружии на литературном поле брани. Некое духовное лицо, известное аферами с лошадьми, нашло в стихах дух смутьянства и разложения, и все знали, откуда этот дух исходит. Другой клерикал молил милосердного господа охранить его от подобных творений. Депутат альтинга Баурдюр Нильссон заявил, что эти стихи – самое настоящее хулиганство. Школьный учитель из Северной Исландии назвал их порождением столичных пороков и опасался за честь нации. Какой-то стихотворец-крестьянин написал, что некоторые газеты и журналы позволяют себе бросить вызов здравому смыслу читателей, публикуя так называемые белые стихи, но чаша переполнилась, истинным исландцам следует сплотиться и встать на защиту священной ценности – литературного языка. Долго бушевала буря над психологом, над моим товарищем по дорожным работам. Даже Эйнар Пьетюрссон – Сокрон из Рейкьявика – не удержался и написал, что подобные опусы ставят под угрозу нашу национальную культуру, и терпеть этого нельзя. Не успел номер журнала выйти в свет, как писательница Линборг Лейдоульфсдоухтир позвонила Эйнару по телефону и поблагодарила за статью.
По сей день я не в состоянии найти разумного объяснения таким отзывам. Недавно я разыскал стихи Стейндоура и просто так, ради удовольствия перечитал их. Автор пользуется некоторыми новшествами современных зарубежных поэтов, например в размещении стихов на странице, кроме того, он нигде не пользуется ни заглавными буквами, ни знаками препинания, ни рифмой. В первых трех стихотворениях вообще нет никакого размера, в следующих трех – размер хромает, в двух оставшихся – размер более или менее традиционный, и они мне кажутся лучшими, когда-то я даже знал их наизусть. К сожалению, должен признаться, что многое в этих стихах мне непонятно, но все же, по-моему, эта работа потребовала от автора большого труда, стихи написаны мастерски, хотя и немного вычурны. Метафоры, например, слишком надуманны, символы двусмысленны или вообще туманны… по крайней мере некоторые из них малопонятны человеку в кружевных штанишках христианства. Я никак не мог уразуметь, что Стейндоур хочет сказать, когда словно говорит сам с собой загадками об удивительных сновидениях. Но где революционный дух, которого так опасалось духовное лицо? Где пропаганда? Где всеобщая ирония? Где наглость? Нет, не вижу я в этих строфах ни революционного духа, ни всеобщей иронии, ни пропаганды. Зато вижу одиночество и пессимизм. Возможно, предпоследнее стихотворение цикла и свидетельствует о наглости: в «Песне Афродиты» (разумеется, поэт не называет имен) грации омывают и растирают героиню сразу же после того, как она освободилась от оков – золотыми цепями ее муж Гефест приковал к ложу ее и Ареса. Я не уверен, что редакция журнала решилась бы опубликовать эту песнь, если бы полностью разобралась в ее сложных и запутанных символах.
Стихи не кажутся мне столь новаторскими, как тогда, незадолго до окончания войны. Большинство из них поблекли и выцвели, состарились раньше срока. Может быть, потому, что питомцы Стейндоура через некоторое время стали пользоваться теми же приемами или откровенно подражали ему. С другой стороны, со временем я не мог не обнаружить, что он и сам в какой-то степени подражал иностранным поэтам. Но когда я прочел этот цикл впервые… боже мой! У меня дух захватило, я был потрясен и никак не мог поверить, что это вышло из-под пера того самого человека, который некогда сочинял для «Светоча» тексты танцевальных песенок, например о Магге и Маунги, о Свейдне и Сигге. Долгое время я не спал ночами, раз за разом перечитывал эти восемь стихотворений, боролся с непонятными загадками, распутывая одни, отступая перед другими. Вот чего он добился, думал я, витая в эмпиреях, убежденный, что на небосводе исландской литературы взошла новая звезда, появился новый поэт. Ложась в постель, я дал себе слово, что на следующий же день разыщу своего товарища где-нибудь в ресторане, скажу ему свое мнение и заодно попытаюсь добиться толкования некоторых стихов. Пусть издевается надо мной сколько заблагорассудится, пусть называет бабушкиным внучком и тонкой натурой в кружевных штанишках, пусть посылает меня к черту. Он – поэт.
Но на следующий день встретиться нам было не суждено. Стейндоур как сквозь землю провалился – его не было ни в «Скаулинне», ни в других ресторанах, а питомцы пребывали в полном неведении. Мы встретились лишь спустя полгода, когда литературная буря по поводу его стихов уже отшумела.
– Стихи? – спросил он, как бы припоминая, щелкнул языком и посмотрел в потолок, да, он три месяца провел у лирически настроенной жены некоего оптовика, пока ее супруг оформлял в Америке накладные. Вот как-то в дождливый день и пришлось посочинять, чтобы ее ублажить.
10
Человеческий дух в моей пещере, точнее, запах духов и сигаретного дыма, кто-то побывал в незапертой комнате и оставил раздавленный окурок, красный от губной помады…
Вот так.
Я счастливый человек, женат на чудесной женщине, которой вполне доверяю, но все же, будь я вчера не один, вряд ли я сделал бы крюк, чтобы пройти мимо дома Бьярдни Магнуссона. Я немного задержался на улице перед домом. Он казался воплощением опрятности, в новом наряде, играющий яркими красками. Супруги выкрасили бетонные стены в светло-желтый цвет, управляющий наконец-то согласился на предложение, с которым его жена, Камилла Йоуханнсдоухтир, обратилась к нему в моем присутствии в конце лета 1948 года, когда какой-то идеалист опубликовал в «Светоче» и «Моргюнбладид» несколько статей об украшении столицы. Перед домом, словно драгоценный камень, сверкал новенький автомобиль, поставленный двумя колесами на тротуар. По всей вероятности, это транспортное средство было собственностью фру Камиллы, равно как и «шевроле», купленный ею в конце войны.
Я брел по знакомым местам, поглядывая на символ опрятности и вспоминая, как в мае сорокового вносил в этот дом свои пожитки и как съехал оттуда через месяц после того, как обнаружилось мое преступление. Я подумал, что прожил не один год в замечательной комнате, правил поздними вечерами корректуру, переводил с датского и английского для «Светоча», читал новые книги, слушал музыку, шелест берез и рябин, когда они покрывались листвой или роняли ее, размышлял о жизни людей, цветов и деревьев на этой пылинке во Вселенной. Разумеется, со временем я волей-неволей довольно близко познакомился с семьей Бьярдни Магнуссона и ее укладом. Знакомство это подчинялось определенным правилам вежливости, например мы всегда обращались друг к другу строго на «вы», но тем не менее до некоторой степени сблизились. Я имею в виду… например, сад, где я работал летом, когда хозяин прихварывал. Поначалу он страдал подагрой и мышечными болями после ловли лосося, так что косить траву между деревьями и ухаживать за клумбами приходилось мне. Хозяин меж тем лежал в постели, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, а хозяйка, фру Камилла, принимая плату за комнату, все сетовала на сад: дескать, позорит семью, зарос травой, что соседи подумают! Она с благодарностью принимала мою помощь и, указывая на косилку, грабли и прочий садовый инструмент, Давала новые задания, а теплыми вечерами любила стоять подбоченясь и смотреть, как я работаю. Когда я приводил сад в божеский вид и складывал садовые инструменты, она звала меня в кухню и, угощая кофе с печеньем, говорила, что позволит себе опять обратиться ко мне, если у мужа случится приступ подагры.
Приступы подагры у мужа случались часто.
Постепенно я втянулся в садовые работы и ловил себя на том, что с нетерпением жду весной и летом приступов подагры, чтобы опять ухаживать за газонами, клумбами, деревьями и кустарником.
«Фру Камилла, – пишу я, словно какой-нибудь невежа, – фру Камилла Иоуханнсдоухтир из Акюрейри», дочь покойного коммерсанта Бальдюрссона и покойной Ловисы Торбьёрнсен, дочери управляющего, а впоследствии консула Торлаукюра. Мне бы надо стыдиться, что я искажал ее имя в газетах тех лет, писал его через «К», а не через «С» [125]125
Написание «Camilla» свидетельствует об иностранном происхождении, так как в исландском языке буква «С» в начале слова не употребляется.
[Закрыть], свидетельствующее о ее благородном происхождении, и вдобавок нарушал еще одно не менее важное правило, а именно не связывал ее имя с фамилией мужа. По всем правилам нужно было бы писать так: «Camilla Magnusson» [126]126
ЗдесьMagnusson – фамилия мужа, взятая женой, что не типично для Исландии, где роль фамилии исполняет производное от имени отца: например, Йоуханнсдоухтир – букв.:дочь Йоуханна. Фамилии имеют, как правило, семьи иностранного происхождения.
[Закрыть]. Она бы наверняка рассердилась, увидев свое имя написанным через «К», и сочла это верным признаком безграмотности и невоспитанности. Мне же до сих пор привычнее писать «К», нежели «С», и объединять имя женщины с именем отца, а не с именем мужа, так что я по-прежнему отношусь к категории глупцов и невеж. «Фру Камилла Иоуханнсдоухтир»… какой она мне представлялась?
Ну, скажем…
Безупречной.
Когда я увидел ее впервые, мне показалось, что ей лет сорок. Она была привлекательна, но нельзя сказать, что красива; вежлива, но не располагала к себе, кроме того, очень бережлива, аккуратна и властолюбива. Пожив немного у Бьярдни Магнуссона, я понял, что фру Камилла самостоятельная и решительная женщина. Она выросла в богатом купеческом доме на севере, в Акюрейри, получила образование в женской гимназии, а потом в Копенгагене, вышла замуж за зажиточного буржуа в Рейкьявике и родила ему двух дочерей. Я быстро понял, что фру Камилла очень приземленный человек в своих воззрениях и ждет того же от других. Когда она говорила, что кто-то непрактичен,тон у нее был такой, что я чувствовал себя транжирой и отъявленным мотом. Она управляла прислугой так же бесстрастно, как пылесосом. Вплоть до войны девушки работали у нее целый день, потом полдня, так как их требования повысить жалованье становились все более нелепыми. Наконец, охраняя домашний бюджет, фру Камилла сочла за благо договориться с пожилой вдовой, снимавшей комнату и кухоньку в полуподвале, что та будет приходить через день и заниматься стиркой. Фру Камилла учила прислугу многим полезным вещам, например кулинарии, чистоте и хорошим манерам. Тем не менее ее отношения с девушками складывались плохо, почему – не знаю. Ни одна не задерживалась больше полугода. Некоторые уходили даже спустя два-три месяца. Другим она отказывала сама. По ее практическим воззрениям, прислуга должна быть преданной, как тень, и неприхотливой, как куропатка. Вдобавок она не признавала в служанках собственного мнения, требовала покорности, трудолюбия, работоспособности, энергии и непорочности. Лучше всего, если они вообще были лишены природных влечений.
Случилось так, что, когда я решил переехать в дом Бьярдни Магнуссона, фру Камиллы не было дома. Управляющий сам показал мне комнату и, не зная точно, сколько за нее брать, смотрел то на стены, то на окна, то на меня. Потом, почесав за ухом, назвал сумму, свидетельствовавшую, на мой взгляд, об искреннем стремлении к справедливости, особенно когда он добавил: «Со светом и отоплением, гм… со светом и отоплением».
Летом сорокового года, когда фру Камилла в первый раз в отсутствие мужа принимала у меня квартирную плату, она заявила, что я, должно быть, неправильно понял ее супруга, когда в апреле договаривался о комнате. Кроме квартирной платы, сказала она, господин газетчик должен платить по таксе за отопление и еще немного за свет, крон восемь в месяц, но раз уж с самого начала забыли это уладить, то сейчас платить не надо. По желанию господина газетчика она может велеть прислуге прибирать в его комнате за сходную плату: господину газетчику, разумеется, неудобно заниматься этим самому и тем более приглашать кого-то со стороны.
С этими словами фру Камилла улыбнулась и предложила мне кофе и сигарету. За девять лет она больше ни разу не предлагала мне угощения, с тех пор как объявила, что хозяева вынуждены немного повысить квартирную плату, довести ее до уровня, назначенного по справедливости соседями-домовладельцами и диктуемого ценами вообще, учитывая растущую дороговизну. Несколько лет подряд фру Камилла считала своим долгом объяснять мне изменения в квартирной плате зимой и осенью. По правде говоря, мне казалось, что она всегда немного опережает дороговизну, но я все же не решался искать другую комнату, так как в Рейкьявике было трудно с жильем и простаков, которые бы не выжимали из своей недвижимости все, что можно, не найдешь. По-моему, фру Камилла нередко вносила поправки в квартирную плату без ведома мужа, потому что порой он изумленно таращился, а на лице у него появлялось какое-то странное выражение, когда она коротко сообщала ему, что вот господин газетчик принес деньги, и называла новую сумму, словно давая нам понять, что она установлена либо мною, либо ее мужем, а может, и обоими сразу. Так или иначе, подозреваю, что фру Камилла без ведома мужа – высокопоставленного государственного чиновника – договорилась со мной и насчет моей налоговой декларации: мол, не затруднит ли меня проставлять в декларации лишь треть суммы, которую я плачу за комнату? Она так горько жаловалась на собственные высокие налоги – государственные и коммунальные, – что у меня пропадала всякая охота угощаться ее кофе и печеньем. Мне казалось, я отнимаю последнее у бедняков.
Фру Камилла, как и все бережливые, умелые и работящие люди, сталкивалась с некоторыми заботами. Когда нужно было нанять новую прислугу, она опасалась, что девушка придется ей не по вкусу. С появлением новой служанки она шесть дней в неделю изнывала от страха, что та перестанет стараться и сядет сложа руки, если за ней не присматривать. Когда так называемая подагра ни с того ни с сего поражала ее мужа, фру Камилле очень не хотелось, чтоб соседи или знакомые пронюхали об истинном характере недуга. Правда, по-моему, чаще всего за озабоченным выражением ее лица скрывались финансовые проблемы, то есть просто деньги. Она, как и другие, ломала себе голову над всевозможными способами заработать. Она страстно желала умножить свое имущество и одновременно поднять престиж семьи. Она была по-своему честолюбива и в глубине души вечно опасалась отстать от других, упустить какие-нибудь земные блага, остаться без выигрышей в жизненной лотерее, упустить драгоценные шансы. А в годы войны таких шансов было много. Взгляд фру Камиллы напоминал счетную машину, когда осенью сорокового года она спросила меня, знаю ли я численность британского гарнизона в Рейкьявике – мол, газетчикам все известно. Должно быть, как раз в то время она со своей школьной подругой, энергичной и расчетливой женой высокопоставленного чиновника, налаживала производство шелковых платочков. Кстати, подруга происходила из древнего рода отважных викингов. Шелковые платочки предназначались для английских защитников, нечто вроде сувениров, чтобы вкладывать в письма родным и близким. Особенно красивы они были на первых порах, с вышитым исландским пейзажем и теплым приветом: «Merry Christmas. Greetings from Iceland» [127]127
Счастливого рождества. Привет из Исландии (англ.).
[Закрыть]. Но вскоре молодой предприимчивый делец, известный под именем Вальди Свейнс, или Торговый Король, наводнил рынок платочками машинного производства с изображением хорошеньких медвежат, вулканов и гейзеров. Фру Камилла и ее подруга соперничали с мишками, вулканами и гейзерами Торгового Короля, призвав на помощь национальный флаг, выдающихся исландцев и кафедральный собор. Но их платочки и кисеты не выдержали конкуренции с машинной продукцией, может быть потому, что национальный флаг было трудно узнать, а лица выдающихся исландцев свидетельствовали лишь о массовом характере их производства. Кафедральный собор скособочился до неузнаваемости. По-видимому, в конце зимы 1942 года они бросили это занятие и постепенно распродали свои запасы. Последние образцы подскочили в цене незадолго до провозглашения республики.
Не мытьем, так катаньем – гласит пословица. Счетная машина вовсе не исчезла из взгляда фру Камиллы. Вскоре после высадки американских войск в Исландии подружки приняли меры, чтобы хорошо угостить их, и даже вступили в переговоры со своим соперником, Торговым Королем. Они арендовали пустующий гараж, наняли умельца, который оборудовал в нем кухню, выписали двух теток из Йёкюдльфьёрдюра и поручили им месить сладкое тесто – как можно проворнее и как можно больше, – а потом делать пончики, которые по-английски называются doughnuts.Многие владельцы магазинов, в том числе Вальди Свейнс, скупали у них огромные количества пончиков, которые стали популярным лакомством и некоторое время были вне всякой конкуренции. Каждый день, проходя мимо гаража, я чувствовал аромат и сглатывал слюну. Однажды, по просьбе фру Камиллы, я с превеликим трудом оттащил туда огромный круг жира и увидел, как работали ее тетки – потные, с красными глазами. Фру Камилла и ее школьная подруга, разумеется, не принимали никакого участия в приготовлении теста и поджаривании пончиков, но зато по части управления не многие предприятия могли похвастать этакой деловитостью. Оборудование было новенькое, все взвешено и отмерено по всем правилам, продумано и организовано: заготовка, производство, доставка, контроль за стандартом. Нередко случалось, что, когда я приходил к фру Камилле с квартирной платой, она говорила по телефону, правда тихим голосом, но любой простак разгадал бы зашифрованный разговор о том, что ее школьная подруга и высокопоставленный муж дружат с командирами американцев и англичан, которые могут помочь в коммерции с пончиками. Неужели великие державы обеднеют от какого-то мешка сахара или муки? Таким образом, многое способствовало успеху вышеупомянутых пончиков. Когда спрос пошел на убыль, а обе тетки уже с ног валились, хозяйки вовремя сообразили, что не стоит ждать банкротства, лучше разом свернуть производство и переключиться на что-нибудь другое, например на небольшую ткацкую мастерскую в центре города. Война шла к концу, а фру Камилла уже успела приобрести не только «шевроле», но и многие другие вещи.
Странно, думаю я, поигрывая карандашом, как так получилось?
Мне вспоминается, что я ни разу не видел doughnutsв доме фру Камиллы, ни разу не получал к кофе этих жареных колечек, их не было ни на кухне, ни в гостиной… как ни странно.
Управляющий Бьярдни Магнуссон, сын префекта Магнуса Бьярднасона, сына пастора Бьярдни Магнуссона, выглядел постарше жены. Когда я у них поселился, ему было сорок восемь лет, но с виду по крайней мере пятьдесят пять. «Седина в голову – бес в ребро», – весело сказал он однажды. Мол, кто знает, может быть, эта пословица вопреки приступам подагры относится и к нему. Внешне ему удалось законсервироваться лет на десять, с сорокового года он мало изменился. Разве что прибавил несколько фунтов, стал более одутловатым, красноносым и неповоротливым. У него чуть испортилось зрение, а голова немного полысела, так что волосы закрывают теперь только треть его черепа. И все же управляющий выглядит моложавее, чем весной сорокового, по крайней мере на первый взгляд… ну а как у него обстоит дело с сердцем и почками, сказать трудно.
Мужчина хоть куда!
Я вновь усаживаюсь за стол и продолжаю писать о Бьярдни Магнуссоне. Среднего роста, вывожу я, полноватый, круглощекий, с широким носом, толстыми губами, добрым взглядом, выражение лица всегда солидное и респектабельное, как и подобает важному государственному чиновнику. Пальцы короткие, белые и толстые. Экзамен на аттестат зрелости он сдал с небольшими затруднениями и после этого долго обдумывал, стоит ли идти дальше по стезе образования. Он колебался, выбирая между родительским домом и столицей, старался максимально использовать то, что он сын префекта и имеет аттестат зрелости. В конце концов отправился в Копенгаген и поступил в университет. Пробыв там несколько лет и отложив большинство экзаменов на потом, он на вечере землячества познакомился с энергичной девицей из Акюрейри, которая быстро покончила с его неопределенным существованием, разогнала сомнительных собутыльников, забрала домой, на родину, вышла за него замуж, заставила вступить в политическую партию и подыскала место бухгалтера. Спустя пять лет Бьярдни Магнуссон не только управлял конторой, но и стал таким убежденным консерватором и уважаемым гражданином, что его старая тетка, зажиточная и приверженная старым традициям, решила на смертном одре завещать ему все свое имущество, за исключением 500 крон, на которые купили новый запрестольный образ для местной церкви, в уезде, где она выросла. Вскоре после того, как эта замечательная женщина оказалась по ту сторону добра и зла, у него и начались приступы подагры.
Да, мужчина хоть куда!
Мало-помалу я изучил его повседневные привычки. Они были несложны и менялись лишь тогда, когда его прихватывала подагра и укладывала в постель, равно как грипп или колики, или когда начиналась предвыборная борьба и его партия включалась в избирательную кампанию. Но когда все было в порядке, Бьярдни Магнуссон вставал с постели по будням примерно в половине девятого, то есть на несколько минут позже фру Камиллы, которая любила поспать и не признавала будильника. Он брился, зачесывал длинные волосы на темя, пыхтя и кряхтя, влезал в белоснежную рубашку и наутюженный костюм – темный зимой и серый летом. Потом он неизменно съедал один и тот же завтрак – овсяную кашу, яйцо всмятку и бутерброд с сыром, пил чай, просматривая заголовки в «Моргюнбладид», если ее уже принесли. В полдесятого он отправлялся на службу, машину вызывал лишь в ненастную погоду. Затем шел в центр города, обычно в блестящих галошах, зимой в черном пальто, летом – в сером. Встречая знакомых, хотя бы и шапочных, он всегда здоровался первым, приветливо кивал и приподнимал новую английскую шляпу, черную или серую, с загнутыми вверх полями.
Вероятно, он привык работать за десятерых, но короткое время, а в промежутках отдыхал. До меня быстро дошло, что после короткого… рывка он каждое утро делал на службе перерыв. Затем отправлялся в ресторан отеля «Исландия» (после того как он сгорел – в «Борг») пить кофе, выкуривал сигарету и болтал со знакомыми – добропорядочными гражданами и респектабельными мужами, – обсуждая последние новости и излагая свое мнение о политике, финансах, торговле, скандалах и даже о культуре, например о программе радио или народном образовании. Бьярдни Магнуссон, вероятно, пользовался популярностью в этом обществе. Он потягивал кофе, курил, хмыкал, не принимая участия в спорах и дискуссиях, но иногда отпускал реплики, анекдоты и шутки, вызывавшие хохот. Порядком посидев там, раскрасневшийся, бодрый, готовый к ответственным решениям и новому рывку, он по зову долга спешил на службу. И когда колокол собора отбивал полдень, он выходил из конторы и направлялся домой, на улицу Аусвадлагата. Обед проходил в полном покое, он читал «Моргюнбладид», потом пил кофе и, пообещав себе поменьше есть, неторопливо шагал в центр города. Раньше половины второго он редко приближался к улице Эйстюрстрайти, где находилась контора. Минут через сорок он опять пил кофе, обычно в «Борге», болтал со знакомыми и товарищами по партии и опять возвращался на работу. В шесть контора закрывалась, он шел домой, где падал в глубокое кресло, наслаждаясь отдыхом после трудов праведных. Иногда заглядывал в какую-нибудь книгу, а порой просто дремал в кресле, но не дай бог моли подлететь к нему – он мастерски выбрасывал руку и уничтожал вредителей, которых фру Камилле никак не удавалось извести.
Я страшно удивился, услышав, что «Светоч», вернее, мой шеф, вредно влияет на дела Бьярдни Магнуссона.
– Гм, гм, спасибо, Паудль, садитесь, – сказал он однажды весной, в субботу, указал на кресло и не глядя спрятал плату за комнату. Потом предложил мне резную коробку с сигарами, сигаретами и спичками и только тогда опустился на стул напротив меня.
Яркий солнечный свет, проникая в тихую комнату, играл на роскошной мебели, картинах и дорогих безделушках. Бьярдни Магнуссон моргал, будто с трудом переносил солнечный свет. Ведь он только что оправился от гриппа, осложнившего острый приступ подагры.
– Гм, гм, – хмыкнул он, усаживаясь поудобнее. – Какой сегодня чудесный весенний денек.
Выглядел он не очень-то изнуренным, хотя и говорил с хрипотцой. Но в выражении лица, во взгляде была заметна какая-то тревога. Возможно, фру Камилла велела ему сейчас, в выходные, расчистить сад и вскопать цветочные клумбы.
– Послушайте. Паудль, вы разбираетесь в бухгалтерии?
– Нет, – удивился я.
– Гм, неужели совсем не разбираетесь?
– Совсем.
– Вас интересует бухгалтерия? – спросил он, помолчав.
Я покачал головой.
– А другая конторская работа?
– Нет.
– Вы молоды, Паудль, – сказал он. – Неужели вам никогда не приходило в голову сменить род занятий, оставить журналистику?
Я был вынужден подтвердить, что нередко задумывался над этим.
– Вы быстро печатаете на машинке?
– Я не умею печатать.
Бьярдни Магнуссон даже привстал.
– Вы что, серьезно, Паудль? Не умеете печатать?
– Нет, – покачал я головой. – Никогда не учился печатать на машинке и никогда ею не пользовался.
Он тоже покачал головой, словно мое неумение печатать поразило его, потом откинулся на мягкую спинку стула и вздохнул.
– «Светоч» здорово мне навредил.
– «Светоч»? – вырвалось у меня. – Это как же?
– Из-за вас, гм, из-за вашего «Светоча», я теряю отличного работника.
Я был изумлен.
Выражение его лица и взгляд стали еще тревожнее.
– Это Эйлифс, – уныло продолжал он, словно речь шла о катастрофе. – Его ничем не образумишь. Он уходит из конторы. Связался с сомнительной женщиной. Возомнил себя великим поэтом, гением, и вполне естественно – вы с ним так носились.
Молчание.
– Ну, что скажете?
Я сказал, что не отвечаю ни за славу Арона Эйлифса, ни за редакцию «Светоча»: всем распоряжается шеф.
– Вальтоур?
– Да.
Он задумчиво смотрел себе на колени, поглаживая пальцами подбородок.
– Я никогда не разговаривал с Вальтоуром, едва знаю его в лицо, гм, и не понимаю этого, Паудль, не могу понять, как это ни назови – глупым шутовством или дружелюбием.
Солнечные блики снова заиграли по комнате, и я заметил моль, хотя фру Камилла уже который день усиленно воевала с этой напастью. Я было понадеялся, что солнце напомнит Бьярдни Магнуссону о клумбах в саду, о том, что их не мешало бы вскопать, но он далеко не закончил разговора об Ароне Эйлифсе, которого называл просто Эйлифсом. Эйлифс, работавший у него в конторе, был человек добросовестный, не отлынивал от дополнительных заданий, если их нельзя было поручить другим, никогда не вскакивал ровно в пять вечера, чтобы стремглав вылететь из конторы, если оставались неотложные дела. Эйлифс был надежнее большинства людей, хоть и довольно медлителен. Зато отличался аккуратностью, пунктуальностью и скрупулезностью, да и писать умел красиво, разборчиво – как мне наверняка известно. Бьярдни Магнуссон сказал, что Эйлифс преуспевал на работе и в конторе его ценили по достоинству. Он разбогател, имел квартиру из трех комнат и каждый месяц помещал в банк значительную часть заработка, ведь он был холост, бережлив и не привык сорить деньгами, летом налегал на щавель и прочую зелень, а зимой питался луком и сырой картошкой.