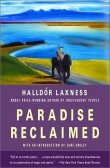Текст книги "Избранное"
Автор книги: Оулавюр Сигурдссон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
– Выразили бы такой же протест? – нерешительно сказал я.
– Такой же протест! – Вальтоур расхохотался. – Э-эх, наивное ты дитя, Паудль! Насколько я знаю, никаких протестов не было б и в помине. У них бы не хватило ума даже на то, чтобы просто заткнуться. Ручаюсь, большинство не удовольствовались бы и тем, чтобы просто сказать «аминь». Они устроили бы митинг на площади Лайкьярторг и под фанфары стали бы восхвалять их главнокомандующего.
Тут в дверь постучали, да так непривычно тихо, что я до сих пор забыть не могу.
– Войдите! – откликнулся Вальтоур.
Мысли о темных мешках из дерюги и о Сибири нагнали на меня страху, но, едва в дверях появился гость, в памяти сразу ожил торжественный концерт, на котором белокурый голубоглазый юноша с открытым лицом читал свои стихи, обливаясь потом и дрожа от волнения, еще бы, ведь в зале сидели даже министры. Этот белокурый юноша, Финнбойи Ингоульфссон, поздоровался с нами и, сжимая в руках желтый, как солнце, конверт, бесшумно ступил через порог.
– Привет-привет! – кивнул Вальтоур, останавливаясь посреди комнаты напротив гостя. – Ко мне?
Гость прикрыл за собой дверь и обвел взглядом редакцию, причем так боязливо, словно его привели на заклание.
– Вы… вы редактор?
– Вроде бы, – ответил Вальтоур и добавил, глядя на желтый конверт: – Мне письмо?
– Н-нет.
– Счет?
Гость сглотнул слюну.
– Я принес… мне хотелось бы показать вам два стихотворения.
– Значит, ты поэт! Только не называй меня, ради бога, на «вы». Я – слуга всех поэтов! – закричал Вальтоур, отбирая у него конверт. – Как тебя зовут?
Гость назвал свое имя уже чуть окрепшим голосом, но по-прежнему сохраняя такой вид, будто вот-вот бросится наутек.
– Присядь-ка, Финнбойи, – обратился к нему Вальтоур как к старому знакомому. – Присядь, а я пока просмотрю твои стихи!
Явно приготовившись к суровому приговору, гость еще раз сглотнул слюну и собрался было уходить.
– Да… дело терпит, – проговорил он, – я могу и потом как-нибудь зайти.
– Разве тебе не интересно, напечатают твои стихи или нет? – спросил Вальтоур, вновь указывая на стул. – По опыту знаю – молодые поэты нетерпеливы, поэтому я никогда не тяну с ответом!
Гость решился ждать приговора, а шеф вскрыл желтый конверт и вытащил несколько листов белой бумаги.
– Надеюсь, ты принес не какую-нибудь нескладуху, или как это у вас называется, прозаическую лирику, беглые зарисовки? – насмешливо вопрошал он, бросив конверт на стол Сокрона из Рейкьявика. – В такой поэзии я ни черта не понимаю, если ее вообще можно назвать поэзией!
Гость молчал, а шеф тем временем развернул сложенные листы и, едва взглянув на первое стихотворение – «Песнь о родном крае», – кивнул:
– Отлично! Рифмы что надо!
Он опять зашагал по редакции и, на ходу декламируя «Песнь о родном крае», продолжал кивать головой с видом пылкого знатока и ценителя литературы.
– Написано здорово, красиво и в приятном тоне, – говорил он уже себе, а не поэту. – Второе стихотворение… та-ак, «Моя страна». Посмотрим, не длинное ли? Пять строф. Гм. По восемь строк в каждой.
Прочтя, он показал стихи мне, а я тотчас вспомнил, как год назад слушал их в исполнении автора на торжественном концерте, организованном Партией прогресса. Вспомнил даже, что одно из них, кажется, было длинное, а другое короче; правда, ознакомиться с ними как следует я так и не сумел, успел ухватить лишь отдельные строки. Надо мной стоял шеф; повернувшись спиной к поэту, он отстукивал на столе какую-то мелодию. Потом, указав на «Мою страну», вполголоса сказал:
– Изящное стихотворение о родине, пойдет под своим названием. Для номера весь материал готов?
– Весь, – ответил я. – Завтра утром наберут.
Шеф еще больше понизил голос:
– Что можно выбросить?
Я принялся рыться в корректуре.
– Ну и настрочил же он проповедей о питании… Этот Арон Эйлифс, – пробормотал я. – Может, отложить вот это… о чесноке и сырой картошке?
– Точно.
Шеф снова закружил по редакции и, высоко подняв голову, объявил приговор:
– Красиво и в приятном тоне. – После многозначительной паузы он сообщил автору, что «Моя страна» срочно отправляется в набор, а «Песнь о родном крае» будет напечатана в самое ближайшее время. Если у автора есть хорошая фотография, лучше художественная, то неплохо и ее опубликовать. – Да ведь… гм… автор заслужил гонорар. – Шеф вдруг остановился у окна, заглянул в бумажник. – Ну конечно, у нас ни гроша! Хоть шаром покати! Но как бы там ни было, нужно взять за правило непременно оставлять часть гонорарного фонда для выплат молодым поэтам, причем независимо от других расходов.
Шеф сказал, что он скорее разорится, чем откажется помогать молодым и, по его мнению, талантливым поэтам. Что скажет автор, если получит за оба стихотворения 25 крон?
Улыбка Финнбойи Ингоульфссона, робкая и взволнованная, но в то же время загадочная, опять напомнила мне о торжественном концерте и аплодисментах, которыми были встречены эти стихи. Уходя из редакции, он держал банкноты, как диплом. Я ожидал, что он, как большинство поэтов, примчится на следующий день с фотографией, но Финнбойи появился лишь через несколько месяцев, застенчиво поздоровался и протянул Вальтоуру крошечный листок бумаги с ярким стихотворением о гражданственности и самопожертвовании, которое я опять-таки уже слыхал на том концерте. Может, в нагрудном кармане у него была и фотография, но Вальтоур не спросил, а Финнбойи не стал ее показывать.
Шеф принял его хорошо, хотя едва ли столь доброжелательно, как в мае, по крайней мере сначала. Расхаживая по редакции, он прочел стихотворение, сказал, что написано оно с настроением и в ближайшее время будет напечатано. Ну а гонорар… Дело в том, что журнал никогда раньше не платил за стихи о чести и гражданском долге, не было нужды, их всегда предлагали бесплатно, присылали даже с самых далеких окраин. Как по мнению поэта, пятерка лучше, чем ничего?
Поэт благодарно улыбнулся, готовый взять деньги и покинуть владения «Светоча». Но Вальтоур еще не кончил.
– Эх вы, молодежь! Сочиняете стихи, пишете рассказы, только, черт возьми, чего-то в вас не хватает!
Он повысил голос, как озабоченный наставник, но в остальном держался гражданином мира, расхаживал, задрав голову, по редакции и размахивал руками.
– Закваска не та! – говорил он. – Вот и выходит кисло! Без подъема! Представляете, какой бы хлеб у вас получался, будь вы пекарями?
Затем последовала Вальтоурова излюбленная тирада, которой я сегодня никак не ожидал услышать, – небольшой пассаж о сложных проблемах молодых поэтов и их творческой продукции. Шеф считал естественным, что к двадцати годам поэты становятся радикалами и строптивыми бунтарями, да вот беда – если б они еще следили за тем, чтобы остаться независимыми, не впадать ни в какие политические крайности, не идти на поводу у пропаганды, не позволять политическим фанатикам дурачить себя.
– Наши молодые поэты… Да… Как они вели себя последние годы, разве не лезли из кожи вон, выслуживаясь перед социалистами? Не вкладывали всю свою амбицию в то, чтобы выстрадать мировой кризис вместе со всем человечеством, и не изображали из себя нервы общества? Не норовили вогнать нас в гроб бесконечным брюзжанием, нытьем о нищете и пролетарской романтике, одолеть псалмами для трудящихся: «Марш! Вперед! Вставай народ! Аллилуйя!» Не внушали нам и стихами, и прозой, что желание выбиться в люди – ужаснейшее преступление, что к достатку стремятся одни лишь воры, ах, как это смешно и мелкобуржуазно – ходить опрятным, да еще чистить ботинки? Разве не писали они десятки рассказов о смертельно надоевших всем жалких людишках, убогих бездельниках и дармоедах, которые то кашу на воде хлебают, то кофе с сахаром вприкуску, о вечно недовольных, жалующихся, вздыхающих и хнычущих? Вот она, литература для народа, литература для масс! Все же до одаренных бессребреников, до этих гениальных реалистов, ха-ха, начало доходить, что исландцы чем-то отличаются от фабричной массы крупных городов или той вконец измученной черни, которую погоняют помещики, бароны и графы. По крайней мере кое у кого из сочувствующих социалистам уже в зубах навязла эта новая духовная пища для народа, для общества, а ведь им положено беречь ее как зеницу ока. Ну а что пришло на смену этим «Марш! Вперед! Вставай народ! Аллилуйя!», всей этой каше на воде, которую поглощали жертвы капитала, да кофе с сахаром вприкуску? Бескровные жалкие рассказики, которые назвать чепухой значило бы похвалить! Ерундовые стишки, полурифмованные или не рифмованные вовсе! Прозаическая лирика! Беглые зарисовки! Наверное, на заседании партийного руководства специально решили во что бы то ни стало испортить народу литературный вкус. А для чего? Разумеется, чтобы легче воспринималась пропаганда, ведь невзыскательный вкус более податлив на разного рода агитацию!
Шеф сделал короткую передышку. Либо он начитался статей зубастого критика, имя которого я не стану называть, подумал я, либо недавно обсуждал чахнущую исландскую литературу с каким-нибудь рассерженным депутатом альтинга, например с престарелым Баурдюром Нильссоном. Но почему же, черт возьми, он так жестоко обошелся с Финнбойи Ингоульфссоном? Ведь тот предлагал, – не «ерундовые стихи, полурифмованные или не рифмованные вовсе», не «прозаическую лирику» или «беглые зарисовки», даже не «роман о бедняках и несчастных» – о каше на воде и о том, как они пьют кофе.
– Смешно и грустно смотреть, как начиная с тридцатого года политика влияет на наших молодых поэтов, – продолжал шеф, и вдруг в его голосе послышались отеческие нотки. – Никто не ждет, что они будут вести себя как ярые консерваторы или послушные мальчики-лакеи. Но когда молодежь, еще толком не разобравшись, что к чему, берет сторону красных… то господи спаси нас и помилуй!
Опять в нем заговорил гражданин мира.
– У нас хватало политических поэтов, – вещал он, размахивая руками, – но хватало и безобидных, пассивных и равнодушных тупиц, боящихся громко слово сказать или пустить ветры из-за своей старомодной морали. (Уж не в мой ли это огород?) Нам нужны независимые, самостоятельные, вольнолюбивые поэты, способные заставить народ слушать себя, увлечь, повести за собой. Нужны разносторонние литераторы, умеющие писать все: сильные и сочные рассказы, стихи, псалмы и тексты для шлягеров, рецензии, статьи по вопросам литературного языка, колонки для женщин, сплетни о том о сем. Знает ли Финнбойи Ингоульфссон Кая Мадсена?
Финнбойи Ингоульфссон отрицательно покачал головой.
Кай Мадсен – настоящий гений, чертовски разносторонний писатель, поэт, журналист! Шеф познакомился с ним еще в позапрошлом году в Копенгагене, и они не раз выпивали вместе в ресторане «Насьональ Скала». Кай Мадсен, ха-ха, – уж этот ничего не выпускал из лап, уж он умел писать и никогда не оставался в тени! Его статьи и книги – о, их не просто читали, их проглатывали! Вообще работа в газете писателям и поэтам на пользу, по крайней мере для начала… в Копенгагене таких называют свободными художниками. А еще в Дании он встречался с молодым исландским литератором, пишущим на датском и завоевавшим в Скандинавии огромную популярность. Вальтоур назвал имя писателя и сказал, что опубликовал несколько его мужественных и сочных рассказов, где, как и ожидалось, он потрепал доморощенным бунтарям нервы. Просто позор, что нельзя достать его последний роман – «Гордость рода»! Давно пора наладить связь с Копенгагеном и вообще со Скандинавией или съездить туда самому и пропустить рюмочку со старыми приятелями в «Насьональ Скала».
Наслушавшись подобных речей моего шефа, молодые поэты потом редко предлагали свою продукцию. Одни пугались и краснели как кисейные барышни, другие пытались возражать, третьи, презрительно усмехаясь, в гневе бросались к дверям, бормоча себе под нос, что в литературе он смыслит не больше чем свинья в апельсинах. Реакция Финнбойи Ингоульфссона была для меня новой. Правда, при упоминании о закваске щеки его покраснели, а лоб покрылся испариной, но все же он по-прежнему внимательно слушал разглагольствования шефа, впитывал каждое слово, иногда поддакивал вполголоса и кивал, как прилежный ученик. Вальтоур, по заслугам оценив такую учтивость, предложил ему сесть, похвалил и приятельски похлопал по плечу. Он даже сказал, что Финнбойи Ингоульфссон немного похож на Кая Мадсена, ха-ха, этот талант и любимец женщин всегда появлялся в обществе самых шикарных дам. Копенгагена, а по понедельникам занимал деньги, несмотря на приличные доходы!
– Минуточку. – Шеф полез за бумажником, поскольку чуть не забыл выплатить гонорар. – Как мы договорились? Пять крон? Пожалуй, маловато. На этот раз дадим пятнадцать. Молодым людям вечно нужны деньги, но если б мы не были на грани банкротства…
Финнбойи Ингоульфссон еще раз простился с нами, улыбаясь и держа сложенную вдвое купюру, как диплом.
– Славный малый, – сказал шеф и опять пробежал глазами стихотворение о гражданственности и самопожертвовании. – Очень славный.
Любопытство так разбирало меня, что я не удержался от вопроса:
– Значит, у этого Кая Мадсена есть стихи и проза? Что он написал?
Шеф вынул изо рта сигарету.
– Совсем недурно, – проговорил он, имея в виду стихотворение Ингоульфссона. – Поместим в следующий номер. Да, пока не забыл, – меня завтра не будет. Утром заседание правления «Утренней зари», нашего акционерного общества, и многое готовится, милок. Как знать, может, мы в конце концов получим новую типографию и переедем в другое здание!
– В другое здание? Куда?
– Хотелось бы договориться о покупке полутора этажей в новом доме здесь по соседству, а еще мы давно собирались скупить акции и хотя бы частично прибрать к рукам типографию. Но пока это между нами.
Я вытаращил глаза.
– Разве «Светоч» не на грани банкротства?
Вальтоур усмехнулся в усы.
– Это как посмотреть.
Обсуждать подробности экономического положения «Светоча» и расспрашивать о книгах Кая Мадсена было уже некогда – Эйнар Пьетюрссон (он же Сокрон из Рейкьявика), ходивший в поисках материала по ресторанам «Борг», «Скаулинн» или просто по каким-нибудь кафе, ввалился в редакцию нагруженный разными мелкими происшествиями, как пчела медом. Интерес к Каю Мадсену у меня заглох, а после наставления Финнбойи Ингоульфссона Вальтоур уже никогда не упоминал этого датского мастера. Наверное, не многие редакторы проявляли такой большой интерес к молодым поэтам, как мой шеф – к Финнбойи. С другой стороны, я не мог бы назвать ни одного поэта, начинающего или маститого, который был бы столь покладист, столь внимательно прислушивался к советам шефа, как этот кроткий голубоглазый юноша. Он из кожи лез, чтобы добиться желанной цели. Следуя рекомендациям шефа, он пробовал себя в различных жанрах: сочинял тексты для эстрадных песенок, написал два-три небольших рассказа вроде тех, какие я переводил с датского, пробовал, подражая Сокрону из Рейкьявика, говорить с читателем на темы дня, даже отрецензировал для Вальтоура несколько книг (см. «Светоч» за второй и третий год издания). К сожалению, эта разносторонняя активность оказалась малорезультативной – литературный талант Финнбойи не вызывал сколько-нибудь серьезного отклика, читатели не упоминали его в письмах, а песен на его тексты не было слышно. И все-таки Вальтоур продолжал опекать своего протеже, твердо веря, что способный и славный парень непременно выбьется в люди и станет гордостью журнала. Он до того благоволил к Финнбойи Ингоульфссону, что не прошло и двух лет (хотя наставничество его так и не принесло желаемого результата), как он сказал, что подумывает обратиться к некоторым богатым и влиятельным лицам с предложением основать нечто вроде благотворительного фонда, для того чтобы парень мог развить свой талант.
– Каким образом? – спросил я.
– Пошлем его в Америку.
4
Однажды теплым туманным днем в начале марта я зашел по делам на почтамт и вдруг столкнулся с Финнбойи Ингоульфссоном. Склонившись над темно-зеленым столом, он наклеивал на конверт марку. Когда я окликнул его и поздоровался, он поднял глаза, словно испуганный страж секретных бумаг, ответил на приветствие не сразу, а поспешил сунуть письма в окантованную латунью щель посреди стола. Потом с преувеличенной любезностью кивнул и улыбнулся.
– Я… Написал вот матушке, – сказал он по дороге к выходу, как бы объясняя свой испуг. Прежде чем я успел понять его слова, он оживленно сообщил, что завтра утром, наверное, уедет, и решится это сегодня к пяти часам.
– Куда собираешься? – спросил я.
– В Америку.
Я оторопел. Новость эта была для меня будто холодный душ. Ведь всего несколько дней назад в кафе рассказывали со слов одного моряка-исландца, только что вернувшегося из Америки, что немцы потопили половину судов конвоя – преследование началось у Ньюфаундленда, а последние торпеды по ним выпустили у полуострова Гардскайи. По словам того же моряка, было строго-настрого запрещено останавливаться или отклоняться от намеченного курса, так что им дважды пришлось, как паршивым псам, пройти по обломкам судов, с которых тонущие люди взывали о помощи.
В Америку. Мурашки пробежали у меня по спине. Я хотел предостеречь Финнбойи Ингоульфссона, уговорить его отказаться от путешествия, но он сказал, что еще до рождества твердо условился с шефом об отъезде. Переубеждать его я не стал, промолчал и о войне, и о немецких подлодках, решил не нагонять на него страху перед рискованным предприятием, которого он и сам в глубине души боялся. Я только спросил, долго ли он пробудет в Америке.
– Как минимум год. А то и два. Окончательно еще не решено.
Мы немного прошлись по улице Постхусстрайти навстречу теплому ветру и остановились у аптеки. Я спросил, чем он собирается заниматься в Америке.
Финнбойи Ингоульфссон застегнул пуговицу пальто.
– Хотел бы за весну и лето как следует освоить английский, а с осени… – Он запнулся, потом подобрал слово: – Буду учиться на колумниста.
– A-а… значит, будешь учиться журналистике?
Финнбойи Ингоульфссон кивнул и, помедлив, сказал «да», словно мое толкование было не совсем точным. Он молча смотрел то себе под ноги, то через улицу, на не закрытые шторами окна аптеки, потом добавил:
– Еще мне хотелось бы заняться литературой и искусством.
Неожиданно налетел резкий порыв холодного ветра, и последние слова сорвались с губ Финнбойи, как осенний листок. Мы двинулись дальше по Постхусстрайти, и я подумал о том, что никто из знакомых мне молодых поэтов не смог бы так бесстрастно произнести эти два слова – литература и искусство, – как Финнбойи Ингоульфссон. Заняться литературой и искусством… Внутри у меня прямо что-то оборвалось. Я спросил себя: может, стоит поближе познакомиться с ним, найти общие интересы? Когда он опять остановился, на этот раз у парфюмерного магазина напротив «Скаулинна», то я не удержался и пригласил его на чашку кофе.
Конечно, он пойти не мог. Нужно так много успеть, дел по горло, занят до самого вечера. Еще к Вальтоуру нужно зайти, он приглашал.
Так мы стояли на теплом ветру и смотрели на «Скаулинн», где свободные художники и поэты, как обычно в это время дня, сидели за кофе, вольные будто птицы, отрешенные от мелкобуржуазной погони за временем; одни обсуждали приключения Хемингуэя, другие разглагольствовали о влиянии новомодной живописи на поэзию. Я же не был свободным художником и ровно через полчаса должен был бы вернуться на работу, даже если б Финнбойи Ингоульфссон и располагал временем. Но ему было так неприятно отказать мне, что я пожалел о скоропалительном приглашении.
– Значит, утром отплываешь? – спросил я наконец, чтобы нарушить неловкое молчание.
Пока не известно, ровно в пять нужно позвонить в Пароходную компанию, там скажут окончательно, но он надеялся, что никаких изменений не произойдет. Понятное дело, время отправления конвоя назначают военные.
Мы смотрели уже не на «Скаулинн», а на мокрый тротуар.
– Наверно, к утру ветер утихнет, – сказал я.
– Наверно.
Мне опять показалось, будто поблекший осенний лист сорвался с ветки. А Финнбойи Ингоульфссон сдвинул рукав, взглянул на блестящие новые часы, покачал головой и виновато улыбнулся.
– Ну ладно, пора прощаться. Хочу заскочить в магазин за зубной щеткой.
5
Скучал ли я по этому малознакомому человеку? Нередко я ловил себя на том, что невольно вспоминаю, как Финнбойи Ингоульфссон декламировал стихи на концерте весной 1940 года, как он стучал в двери редакции, как здоровался с нами, улыбался, слушал речи шефа, кивал. Наверное, преувеличением было бы говорить, что я прямо-таки скучал, но я до того привязался к этому кроткому, неопытному и во многом загадочному молодому поэту, что чуть ли не постоянно думал о нем, а ведь мы были знакомы не так уж близко, да и тревог у меня хватало – время-то было военное (я не имею в виду те события, из-за которых и сейчас иногда просыпаюсь в кошмарах, ведь они произошли году в 1948-м).
Целым и невредимым Финнбойи добрался до Америки. Через неделю после прибытия в Нью-Йорк он отправил шефу короткое письмо, где сообщал, что все у него в порядке. Немного позже прислал нам, вернее, Вальтоуру, две крошечные статейки о Нью-Йорке; написанные исключительно живо, обе они были опубликованы в «Светоче» на видном месте, с фотографиями автора, статуи Свободы и высочайших в мире небоскребов.
– Вот что нужно парню. Я так и знал, – говорил Вальтоур. – Вот она, закваска! Смотри-ка, талант сразу и раскрылся!
Он предсказывал, что из Финнбойи Ингоульфссона выйдет первоклассный журналист. Когда же мы получили статьи о Вашингтоне, где рассказывалось о знаменитых достопримечательностях столицы, в том числе о конгрессе (Финнбойи удалось побывать даже на бурных дебатах в сенате), Вальтоур прямо заявил, что Финнбойи Ингоульфссон станет журналистом мирового масштаба.
– Чертовски способный парень, такой не пропадет! – говорил он, складывая второе короткое письмо своего подопечного. – Что может быть этой зимой для него полезней, чем занятия где-нибудь в Техасе или Калифорнии? Напомни мне после обеда написать о нем небольшую заметку.
Журналист мирового масштаба? Стыдно сказать, но если б я, сложив ладони, обратился к всевышнему, как часто делал вечерами в детстве, то не стал бы молить господа, чтобы именно это предсказание моего шефа сбылось. Я попросил бы всемогущего бога позаботиться, чтобы поездка в Америку помогла Финнбойи Ингоульфссону развить и укрепить в первую очередь его литературные способности, а уж журналистика в мировом масштабе – дело десятое. Слова о литературе и искусстве, что сорвались тогда с его губ, как сухие листья под порывом мартовского ветра, мало-помалу породили в моей душе убеждение, что отнюдь не интерес к журналистике и газете вынудил Финнбойи с риском для жизни отправиться через Атлантику в разгар военных действий. Во время приступов хандры у меня просто в голове не укладывалось, как вообще в этом подлунном мире можно интересоваться газетным делом… по крайней мере нудными переводами с английского или датского, пустыми анекдотами, чтением корректуры, свинцовыми испарениями и шумом линотипов, грохотом и скрежетом типографии, спорами и пререканиями с наборщиками, которые вечно норовят напиться и плевать хотели на перепутанные строки, не говоря уж об опечатках! Думаю, пример Финнбойи Ингоульфссона, восхищение его мужеством и убеждение, что жизнь в Западном полушарии пойдет на пользу его литературному дару, пробуждали эти приступы тоски. До сих пор помню, как я сравнивал себя с ним. Когда на душе было скверно, я рассуждал примерно так: он оказался на высоте, не побоялся рискнуть жизнью, чтобы набраться опыта и получить образование, а я… если честно, то я душа неприкаянная, сам не знаю, чего хочу, корплю над сомнительными переводами и дурацкой корректурой. Я представлял себе Финнбойи Ингоульфссона: вот он в светлом зале любуется произведениями искусства – древними и современными, вот он на концерте виртуозов слушает музыкальные шедевры, а может, в тишине библиотеки упивается чтением прославленных классиков. Вполне возможно, ему повезет, и он лично познакомится с ними, например с Дос Пассосом, Синклером Льюисом, Максвеллом Андерсоном, О’Нилом, Фолкнером, Стейнбеком или Колдуэллом. А может, случайно встретит великого мастера, легендарного охотника на львов Хемингуэя, заговорит с ним, расспросит о новостях, побеседует в каком-нибудь сверкающем ресторане о литературе и рискованных путешествиях.
А я… кого я случайно встретил весной светлым воскресным вечером, кого расспросил о новостях, с кем в добрый час побеседовал на свежем воздухе? Не с всемирно известным мастером, не с Хемингуэем или Стейнбеком, не с Колдуэллом, а всего-навсего с каким-то Йоуном Гвюдйоунссоном родом из Флоуи, который вырос на мысе Сюдюрнес, женился на старой приятельнице Арона Эйлифса и которому наставил рога вечно пьяный и задиристый здоровяк Торвальдюр Рюноульфссон по прозвищу Досси Рунка. Правда, встреча, о которой идет речь, произошла еще до того, как Финнбойи Ингоульфссон отбыл за океан, впрочем, дата не так уж и важна.
6
По правде говоря, я едва узнал Йоуна Гвюдйоунссона. Он очень изменился с той мимолетной встречи утром 1940 года, когда началась оккупация, не говоря уж о памятном зимнем вечере, когда он, решив любой ценой отомстить Досси Рунке, требовал, чтобы о его поведении обязательно напечатали в «Светоче», причем жирным шрифтом. Сейчас у моего знакомого не было ни синяка под глазом, ни засаленного пластыря на лбу – вытянув шею, он стоял на углу улицы в выходном костюме, чисто выбритый, с остатками мыльной пены в ушах, с аккуратно подправленной щеточкой усов, в новых высоких ботинках, а вместо берета на голове красовалась шляпа. Я не ожидал увидеть его столь моложавым и статным и вполне мог бы пройти мимо, не поздоровавшись, но тут он вытянул шею и смахнул с усов крошки табака. Знакомые руки, как и раньше, контрастировали с тщедушным телом – огромные, под стать огромным же ступням, будто этому человеку, точно кроту, приходилось все время куда-то прокапываться.
– А? – спросил он в ответ на приветствие, пристально взглянул на меня и, казалось, не узнал. – Что?
Я спросил, не помнит ли он меня, я, мол, из «Светоча» и однажды оказал ему небольшую услугу, написав письмо обидчику, Торвальдюру Рюноульфссону. Выражение его лица тотчас переменилось, чем-то напомнив мне старую Скьяльду, корову, которую я когда-то выгонял из огорода в Грайнитейгюре. Наверное, он опасался, что я потребую какого-нибудь вознаграждения за услугу.
– Ну-у, – протянул он довольно-таки угрюмо и шмыгнул носом. – Помню.
– Помогло тогда?
– Что?
– Тот человек… перестал он вас беспокоить?
– Этот Торвальдюр? Досси, что ли? – Йоун Гвюдйоунссон переступил с ноги на ногу и насторожился. – Он-то отстал. Небось нашел другую.
– Значит, все отлично? – спросил я.
– Что? Отлично? – скривился Йоун Гвюдйоунссон. – Если б не Торопыга, да еще этот, Сьялли.
– Сьялли?
– Ну солдат, – сказал Йоун Гвюдйоунссон так, будто все его знают, а потом добавил, словно пытаясь оправдать английского солдата: – Почем ему было знать, что женщина замужем?
Я пробормотал, что это ужасно, и, наверно, постарался бы ободрить тощего обладателя ветвистых рогов – Йоуна Гвюдйоунссона на пылинке во Вселенной, – будь он по-прежнему несчастным. Но на этот раз мой земной собрат не нуждался в утешениях.
– Мы с Йоуханной, – сказал он, – недавно развелись.
Я сокрушенно вздохнул, хотя ни по виду его, ни по голосу не заметно было, чтобы он принимал случившееся близко к сердцу и хотел поплакаться мне в жилетку.
– Беда с этими бабами, – продолжал он, роясь в карманах. – Взять хотя бы Йоуханну – никак не угомонится. Опять сошлась со старым своим дружком, с поэтом Ароном Эйлифсом.
– Да что ты!
– Она теперь с ним. Об этом уж столько народу знает, чуть что по радио не объявляли. – Он открыл черную табакерку и предложил мне. – У потребляешь?
Я покачал головой.
– А? – переспросил он. – Ну как хочешь.
Заправляя понюшку, он всем своим видом давал понять, что не больно-то жалеет этих баб, особенно таких властолюбивых да требовательных. Переведя разговор на другую тему, я спросил, работает ли он по-прежнему в гавани.
– В гавани? На сушке рыбы? Нет. – И он с важностью объяснил, что работает в войсках, у англичан, поскольку еще его хозяин, подрядчик, недолюбливал американцев.
Йоун так нахваливал соотечественников Сьялли и так важно переминался с ноги на ногу, что меня разобрало любопытство насчет его заработков, и в конце концов я вытянул из него, что он теперь не просто рабочий. Начал он с того, что таскал камни и рыл землю, потом стал подмастерьем и наконец кем-то вроде каменщика. Я понял так, что его работа заключалась в том, чтобы возводить для англичан крепкие и надежные сооружения, главным образом кухни и уборные. Разумеется, он получал не такие деньги, как квалифицированный каменщик с дипломом в кармане, но все же зарабатывает гораздо больше прежнего, вдобавок работа ответственная, нередко сверхурочно и даже по выходным, вовсе не каторжный труд, а так, приятная разминка. Йоун Гвюдйоунссон сказал, что научился уже замешивать раствор и сам может с отвесом и ватерпасом выкладывать стены, но штукатурить внутри и снаружи… этим занимаются другие, сперва набрасывают мастерками раствор, а потом затирают гладилкой.
Я едва успевал поддакивать, хотя ровным счетом ничего не смыслил в терминологии каменщиков, все это было для меня китайской грамотой.
– Работаем не торопясь, спешить некуда, – сказал Йоун Гвюдйоунссон, имея в виду англичан. – Над душой не стоят и минут не считают. А видел бы ты, что они делают с барашками: лучшие куски вырежут, а остальное выбрасывают. Мы можем брать это мясо даром, когда угодно.
– Брать?
– Конечно! Даром!
Мне вдруг стало не по себе, как бывает к концу контрольной, когда предчувствуешь, что неверно решил задачу. Во время нашей беседы я несколько раз заметил, как Йоун Гвюдйоунссон стреляет голубыми глазами в семенящих мимо молоденьких девушек. Я уже хотел проститься и продолжить путь домой, но он зашмыгал носом, вытянул шею и завертел головой, как старая грайнитейгюрская корова, когда она всерьез нацеливалась залезть в огород и полакомиться капустой.
– Погоди, – сказал он, – ты же умеешь сочинять?
Я помедлил с ответом.
– Как это я сразу не догадался, – продолжал он.
– Тебе нужно что-то написать?
– А? Мне? Не-ет. – Он перевел дух, погладил толстым заскорузлым пальцем свежеподстриженные усы. – Ну, может, чуток.
– Так-так…
– Одному человеку нужно, – пояснил он, оторвав взгляд от тротуара, посмотрел на меня, на авторучку в нагрудном кармане куртки и добавил: – Моему знакомому.