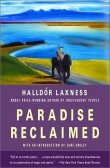Текст книги "Избранное"
Автор книги: Оулавюр Сигурдссон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)
Оставим это.
Мы с Эйнаром очень быстро обнаружили, что совершенно непохожи друг на друга во всем – и внешне, и внутренне. Мы проработали бок о бок семь лет без единой размолвки, но за все это время ни разу не говорили по душам о личных своих делах или о том, что творится в мире, а тем более о тайне жизни и смерти. Мне думается, что в наши дни, когда страны и континенты залиты кровью, не сыскать на свете более спокойного журналиста, чем Эйнар Пьетюрссон. Он всегда являл собою некое воплощение благополучия, был свеж и учтив, а главное, солиден, как бы ни на секунду не забывая, что манеры часто определяют жизненный успех. Я помню, как не мог оторвать от него глаз, когда на третий день пасхи 1940 года он вошел в редакцию «Светоча», рослый, внушительный, красивый как бог, шикарно одетый – в клетчатом костюме и белоснежной рубашке, со множеством торчащих из кармашка цветных карандашей и превосходной портативной пишущей машинкой в руке. Единственное, что, на мой взгляд, портило его, так это лоб. Мне в жизни не приходилось видеть человека с таким низким лбом. Он уверенно отрекомендовался, сразу же обращаясь ко мне на «ты» (я в первый момент не решился ответить ему тем же), сообщил, что зачислен в штат, и обвел взглядом редакцию.
Я сказал, что Вальтоур болеет, и попросил отдать мне рукопись его статьи: журнал уже начали набирать, он ведь выходит по пятницам.
– Это я мигом, как писать, знаю, ол-райт. А можно я этот стол к окну передвину?
Я помог перенести стол.
– Ты тоже рейгвикец [60]60
Речь Эйнара Пьетюрссона характеризуется рядом особенностей рейкьявикского просторечия.
[Закрыть]?
– Нет, я из Дьюпифьёрдюра.
– Давно журналистом?
– Два месяца.
– Интересно?
– Даже не знаю. Иногда, пожалуй, – ответил я, указывая на наши с Вальтоуром запасы бумаги – листы разного формата и обрезки, которыми мы разжились в типографии. – Тебе сколько лет?
– Скоро девятнадцать. А тебе?
– Двадцать один.
На лице его отразилось изумление, он даже вздрогнул, как лошадь, которая услыхала странный звук и испугалась. Я хотел было спросить его, почему он мне не верит: неужели я кажусь таким старым, но он положил рядом с машинкой пачку бумаги, сел за стол, потер руки, поерзал на стуле, усаживаясь поудобнее – ни дать ни взять пианист-виртуоз перед началом концерта, – и начал свою трудовую деятельность.
Сразу было видно, что искусством печатания на машинке Эйнар Пьетюрссон овладел не безупречно, хотя специалист по пушным зверям из канцелярии Комиссии по защите от норок мог бы позавидовать его сноровке и быстроте. Печатал он тремя пальцами и большей частью попадал в нужную букву. Когда на странице появилось несколько строчек, он закурил сигарету и угостил меня.
– Писать надо красиво?
– Что? – не понял я.
– Редактору, наверное, хочется, чтобы писали красиво?
– Думаю, да.
– Ясно. Гм.
Он откашлялся – столь же величественно, как заведующий Управлением культуры, – и продолжал творить, то хмуря брови, то впиваясь глазами в машинку, весь подавшись вперед, словно тянул кабель или пытался поднять слона. Я взял поэтическую «Смесь» Арона Эйлифса и еще раз убедился: там не было ни одного стихотворения, которое – даже набранное петитом – уместилось бы на одной странице «Светоча» вместе с портретом автора. Читал я эти опусы с сомнением, готовый в любой момент выполнить указания шефа: при малейшей возможности искромсать какое-нибудь стихотворение.
По вечерам уходит в даль заботность дня.
И грёзности Пегас спешит узреть меня.
Гляжу на мир, мне видимый в окне, —
Златая песнь рождается во мне.
Двадцать четыре строфы, проникнутые такой неподдельной серьезностью и такие законченные по форме, что у меня не хватило духу обкорнать стихотворение с начала или с конца. Я листал «Смесь», читал заголовки, большие стихотворения и короткие, отдельные строфы, уже совсем заносил было нож, но тут меня охватывала неуверенность, и я отказывался от своего намерения. Постой-ка, вот «Ода Духовному Цветку», название многообещающее, ее, пожалуй, можно будет безболезненно обрубить, даже, наверное, окажется хорошо.
Цветок Духовный, что во мне растет,
Труд хлебностный весьма мне облегчает,
От горестей и бед он вдаль меня несет,
Сапфирностью мне душу облекает…
Эйнар Пьетюрссон встал, скинул пиджак и сообщил, что придумывает себе псевдоним, желательно необычный. Вот на одного очень сейчас популярного журналиста никто не обращал внимания, пока он не стал подписываться «Амос с Эйстюрстрайти». Кстати, этот Амос пишет красиво.
Я возразил: Амоса с Эйстюрстрайти я бы блестящим стилистом не назвал, он питает явную антипатию к правильным окончаниям и злоупотребляет определенным артиклем.
Лицо коллеги снова напомнило мне испуганную лошадь.
– Чего? – переспросил он. – Что?
– Мне кажется, Амос слишком часто ставит определенный артикль.
– Верно, – поколебавшись, согласился он. – У него порой многовато определений.
– Я говорю об определенном артикле.
Коллега не растерялся:
– Прекрасно понимаю. Ты абсолютно прав.
Он снова принялся стучать на машинке. Без пиджака он работал с удвоенным ожесточением и энергией, словно пытался разломать стальную решетку или поднять нагруженного свинцом слона. Наконец распрямил спину и перевел дух.
– Трудно писать красиво.
– Да.
– Главное, чтоб фисако не потерпеть.
– Не понял.
– Главное, чтоб эта статья фисако не потерпела.
Я совершенно растерялся: слово «фисако» мне было незнакомо. Я промолчал.
Эйнар вытащил из кармана карандаш, что-то нацарапал на бумажке, долго качал головой, затем вскочил и подбежал ко мне.
– Глянь, – сказал он. – Так ол-райт?
На бумажке было написано: Исус.
– Пишется через два «и».
– Почему это?
Вопрос оказался мне не по зубам. Я мог лишь ответить, что так имя господа пишется в Библии.
– Учителя должны объяснять такие штуки. Грош им цена, учителям нашим!
Я протянул ему карманный орфографический словарик.
– Держи у себя в столе. Как засомневаешься – заглядывай в него.
Он поблагодарил, радостно схватил словарик и принялся с любопытством, я бы даже сказал, с удивлением листать его.
– Орфографический словарь, надо же, – произнес он и возобновил сражение с родным языком.
Я склонился над «Одой Духовному Цветку». Прочитав внимательнейшим образом девятнадцать облеченных сапфирностью строф, я так и не смог остановить выбор на какой-нибудь части. Кроме того, для меня осталось загадкой, что такое Духовный Цветок: вечно бодрствующий поэтический дар автора либо же его безнадежная любовь к прекрасной даме, по всей видимости замужней.
Когда дар и шь свою любовь одним,
В мансарде муками я тяжкими томим.
Вдруг мне пришли на ум Йоун Гвюдйоунссон, жена его Йоуханна и мерзавец Досси Рунка. Я аккуратно перегнул страницу, занес складной ножик – так хирург нацеливается скальпелем – и недрогнувшей рукой раскроил бледный листок, отхватив последние тринадцать строф «Оды Духовному Цветку». Ты не виновен в этом злодеянии, сказал я себе, шеф велел обкорнать стихотворение Арона Эйлифса.
Эйнар Пьетюрссон опять принялся ломать голову, придумывая псевдоним.
– Слушай, – заговорил он. – В Греции ведь когда-то были мудрецы?
– Вроде бы.
– Знаменитые?
– Да. Например, Сократ и Платон.
– А что, если я возьму псевдоним «Сократ»?
– По-моему, не стоит.
– А Пладон?
– Тоже не очень.
Эйнар Пьетюрссон нахмурился и снова стал печатать. Потом вдруг радостно откашлялся.
– Гм, – сказал он. – Теперь ол-райт.
Я поднял взгляд.
– Толковое придумал имечко.
– Да?
– Я буду «Сокрон из Рейкьявика».
– А кто такой Сокрон?
– Неужели не соображаешь? Я их, понял, вместе склеил, Сократа и этого, ну, Пладона.
Изобретательность Эйнара настолько потрясла меня, что я онемел.
– Отличный псевдоним. На все сто уверен, что фисако не потерпит.
Я был поражен тем, как быстро мой коллега освоился в типографии. Спустя полчаса после того, как Эйнар переступил порог, он уже во все вмешивался, делал замечания, с большим вкусом подбирал литеры для заголовков, расспрашивал о разных мелочах, которые могли бы украсить текст. «Такие стихи лучше смотрятся в рамочке», – поучал он наборщиков, просил подыскать розочки и звездочки, чтобы украсить «Оду Духовному Цветку», а под лекцией Аурдни Аурднасона о Хадльгримюре Пьетюрссоне посоветовал поместить рождественский колокольчик и ангелочка. Я показал ему, как правят корректуру, и дал на пробу полосу с бородатыми анекдотами из календаря Патриотического общества. Убедившись, что он не очень-то видит опечатки (впрочем, чего можно ожидать от неопытного журналиста?), я предложил, чтобы мы вместе вычитали его статью: два глаза хорошо, а четыре лучше. Он вежливо отказался, дав мне понять, что Сокрон из Рейкьявика опечатку не пропустит. Я еще несколько раз предлагал ему помощь, но безрезультатно. Он явно следил, чтобы я не лез в его статью, не подпускал меня к ней, стоя над душой то у страдающего с перепоя наборщика, то у мучимого жаждой метранпажа, видимо полагая, что его коллега Паудль Йоунссон из Дьюпифьёрдюра, выросший в доме акушерки Сигридюр Паульсдоухтир, может либо как-то помешать ему, либо позариться на золотые крупицы его таланта. Я оставил его в покое – пусть сам занимается своей статьей. С заметками Сокрона из Рейкьявика я познакомился лишь в пятницу, в редакции «Светоча», когда весь тираж журнала был уже отпечатан и началась рассылка.
Я прочитал коротенькую заметку, протер глаза и посмотрел на часы. Девять, ровно девять. Что это? То ли я еще не совсем проснулся, то ли я плохо понимаю стиль Сокрона из Рейкьявика. Я взял себя в руки и стал читать дальше.
Быстрая езда и дальний свет
В нашем городе много такого, что могло было бы быть и получше. Я собираюсь попервоначалу поговорить о наших шоферах. Я против их ничего не имею, это часто хорошие люди, и нельзя их во всем винить. Однако порой они слишком быстро ездиют в дождь, так что всего тебя могут заляпать грязной водой из луж. Конечно, там, где асфальт, луж поменьше, но весь город в миг не заасфальтируешь, ведь это денег стоит. Некоторые водители еще черезчур злоупотребляют дальним светом. Опасность аварии, каковая проистикает из дальнего света, не такая уж и незначительная, и водители должны этому воспрепятствовать и предотвротить, насколько в силах.
Швейные клубы [61]61
Швейный клуб – группа женщин, регулярно собирающихся с шитьем в доме кого-либо из членов.
[Закрыть]и гостеприимствоБлаженные дни пасхи миновали, и посему, как сказал поэт, время летит в лоно веков и не ждет тебя. Один мой знакомый пригласил меня в страстной четверг, который в этом году пришелся на четверг, к себе в гости. Мы собирались побеседовать с ним за жизнь, но когда я пришел к моему знакомому, жены его в наличии не оказалось. Она ушла в швейный клуб и оставила его с маленьким ребенком. Я не против швейных клубов, но в меру, чтобы они не губили совершенно наше старинное, доброе гостеприимство. Моему знакомому пришлось менять пиленки маленькому ребенку и качать колыбель и даже самому разливать кофе, каким образом нам вообщем совсем не привилось поговорить за жизнь. Конечно, свобода в браке – хорошее дело, однако жены обязаны быть в наличии по вечерам, когда мужья приглашают в гости знакомых.
Проблема христианского духа
Поговорим о проблеме христианского духа, которая является важной проблемой. Абсолютно ни в какие ворота недопустимо, что некоторая часть из учителей, которым Государство плотит большие деньги, относятся к христианской религии халатно спустя рукава. «Вы должны обещать детям прийти ко мне», – говорит наш спаситель в библейских сказаниях. Однако сегодня является изощренной истиной, что многие школьники в школах слишком маловато читают о христианстве и Иисусе. Чего бы сказали б такой школе Сократ или Пладон? Наши родители и покровители христианства должны предпринять меры и во-первых потребовать, чтоб учителя делали то, за что Государство, отрывая от себя, плотит им свои кровавые денежки. Я не против учителей, но они должны быть верующими и не делать из христианства кормушку. Мы не желаем, чтобы наши дети выросли безбожниками.
Проблема родного языка
У меня есть таинственное подозрение, что проблема родного языка в школах также является важной проблемой. Как сказал один мудрец, в Исландии есть достаточно слов для всего, что есть на земле. Правительство должно поставить задание учителям собрать все эти слова в один хороший и достаточно большой «Орфографический словарь», который бы стоил всего крону. По правде говоря, положение в проблеме с родным языком является таким отчаянным положением, что некоторые, можно сказать, совсем не владеют определенным артиклем. Я имею ввиду не только наших детей, потому что и люди постарше, которые вобще-то пишут совершенно превосходно, бывает буксуют на определенном артикле. Можно смело константировать, что все мы очень любим наш родной язык, и нам, конечно, всем хочется, чтобы он был хорошим…
В этот момент в редакцию вошел Вальтоур. Видимо, уже выздоровел. Радостно поздоровавшись, он спросил:
– Что нового? Отчего это у тебя такой таинственный вид?
Я и не подозревал, что вид у меня таинственный.
– Читал в «Светоче» статью Сокрона из Рейкьявика, он же Эйнар Пьетюрссон.
– Он себя называет Сокроном из Рейкьявика? – Вальтоура это очень заинтересовало. – Элегантное имя! – высказался он и принялся листать «Светоч». Отыскав заметки моего коллеги, он залпом проглотил их, не говоря ни слова, затем пробежал глазами «Оду Духовному Цветку» и поднял на меня взгляд. Я прочел в нем сомнение.
Беспристрастно, как Государственное радиовещание, я сообщил шефу, что мой коллега не показывал мне ни рукописи, ни корректуры, предпочтя взять на себя ответственность за первую свою статью, увидевшую свет. Стихотворение же Арона Эйлифса я сократил в соответствии с…
– Чья это машинка? – перебил меня Вальтоур.
– Его. Эйнара Пьетюрссона.
– Почему его нет?
Я ответил, что, насколько я понял коллегу, он поступил сюда не для того, чтобы заниматься рассылкой журнала, а чтобы писать статьи и переводить с английского. Вчера он сказал, что должен обдумать материал для новой статьи и просмотреть у одного своего знакомого английские юмористические журналы.
Неожиданно Вальтоур начал рассказывать грустную любовную историю. Девятнадцатилетняя племянница одного министра познакомилась под Новый год – скорее всего, в ресторане гостиницы «Борг» – с Эйнаром Пьетюрссоном и без памяти влюбилась в него, так что дядя в начале февраля отправил ее на север, в Акюрейри, к своей сестре, пожилой и весьма энергичной вдове, задача которой – охранять целомудрие девицы и позаботиться, чтобы она окончила весной гимназию.
Мне стало жалко любящую пару, и я резко высказался по адресу злого дяди.
– Тс-с! – Вальтоур покосился на дверь и с благоговением произнес имя министра. – Он пайщик «Утренней зари», – шепотом сообщил он. – Думай, прежде чем говорить, приятель.
– Зачем он их разлучил?
– Зачем? – Вальтоура рассмешила моя наивность. – Прикажешь богатому политическому деятелю, министру, спокойно смотреть, как его племянница, красивейшая, симпатичнейшая девчонка, правнучка ютландской графини, путается с безработным парнем, сыном сапожника? Как он, возможно, лишит ее невинности, а то и обрюхатит? Мне рассказывали, что в тот самый день, когда девчонку отправили на север, министр вызвал парня, угостил сигарой и дружелюбно пообещал спустить с него шкуру и упрятать за решетку, если тот сейчас же не выкинет его племянницу из головы. После этого он стал выяснять, чем бы Эйнар Пьетюрссон хотел заняться, и тот сказал, что желал бы стать полицейским или журналистом.
Вальтоур ухмыльнулся.
– Странный он парень. В Копене говорят «фиаско», а он – «фисако». Я думал, он кончил гимназию, но, оказывается, он дважды на выпускных срезался!
– Да ну? – поразился я. – Дважды?
Мне показалось, что по лицу шефа пробежала тень.
– Я не очень-то большое значение придаю всяким экзаменам да аттестатам. – Он принялся расхаживать по редакции. – Никогда терпеть не мог всех этих худосочных и вялых бездельников, которые протирают за партой брюки и начинают трудиться за кусок хлеба, лишь когда облысеют да геморрой заработают!
Я промолчал. Мысль об университете я уже оставил, по крайней мере на время, хотя бабушка говаривала, что учение – дело угодное богу и что ради хороших знаний ничего не жалко.
– Однако писать он не боится, – сказал Вальтоур. – Если только и знать, что нос задирать, ничего хорошего не получится.
Я поторопился вернуться к работе.
– Да, пока не забыл. – Он вынул из бокового кармана письмо и протянул мне. – Прочитай-ка!
И я прочитал:
Кёбенхавен, 2 марта 1940 г.Дорогой Вальтоур!
Мои комплименты по случаю нового журнала! Я его бандеролью получил! Я в полном восторге от «Светоча» и верю, что ты основательно подлатаешь культуру в нашей Исландии! Присылай как можно поскорее гонорар за «Любовь и контрабанду»! В Валютном комитете меня знают и перечислят деньги той же секундой!
Должен с сожалением признаться, что я недоволен тем, как обошлись с «Любовью и контрабандой»! Ты поручал перевод какому-то идиоту, который не знает датский язык и начисто лишен эстетического сенса! Он, например, заменял клубнику со сливками скиром, соловья – лебедем, а сигару – нюхательным табаком! Новелла лишалась в переводе значительной части своего шарма и стала какая-то некультурная!
Собираюсь отправлять тебе две совершенно новые новеллы: «Kærlighedens Sødme» [62]62
«Сладость любви» (датск.).
[Закрыть], которая была напечатана с иллюстрациями одного знаменитого художника в «Семейном журнале», и «Rytterens Elskerinde» [63]63
«Любовница всадника» (датск.).
[Закрыть], вышедшую в «SDT» в Ольборге! Обе две эти новеллы имели грандиозный суксесс, будучи воспринятыми как оригинальные, увлекательные и артистические! Не мог бы ты сейчас же присылать за них гонорар? Если будешь хорошо платить, я не продам их другим журналам – «Неделе», «Соколу», «Кооперации», «Локомотиву»! Но не давай их перевести этому идиоту, найди умного человека, знающего датского языка и являющегося тонким стилистом! Надеюсь, что ты по крайней мере будешь проконтролировать за идиотом!Я пишу один большой роман, который назовется «Slægtens Stolthed» или «Kærlighedens Melodier» [64]64
«Гордость рода» или «Мелодии любви» (датск.).
[Закрыть]! Он опубликуется, как только я его кончу, и наверняка переведется на немецкий и шведский! Становимся знаменитостью, или нет? Я все спекулирую над тем, чтобы создать кое-что для кино и для Королевского театра! Я иногда делаю свою публичную лекцию об Исландии, которая всегда имеет грандиозный суксесс! Вчера приходил ко мне редактёр из «Социал-Демократа» и заказывал статьи об Острове саг и исландской литературе! Напиши про это в твоем журнале! Вы там в Исландии пропагандируете за бесталантливых диллеттантов, которые ничего не могут, и молчите об нас, приносящих славу родине! Кстати: на днях встречал Кая Мадсена! Он о тебе сразу же спрашивал! Собирается брать мое интервью, когда роман готов!Привет Исландии! Всего тебе доброго, и сразу же высылай деньги!
Вальтоур взял у меня листок, написал, поглядывая в него, восторженную заметку и выкинул письмо в корзинку.
– Напечатаем «Kærlighedens Sødme» в следующем номере.
– Кто будет переводить?
– Ты.
– Можно я возьму письмо?
– Зачем?
– Мне так хочется.
– Хочется держать у себя ругань по собственному адресу?
– Скорее, я тогда с большим пиететом буду переводить «Kærlighedens Sødme».
– Ладно.
Он осклабился и снова принялся листать «Светоч». Перечитав заметки моего коллеги, он задумчиво произнес:
– Конечно, кое-какие фразы небезупречны, но тон хорош. Помяни мое слово: Сокрон из Рейкьявика станет популярным журналистом.
И, конечно, предсказание шефа сбылось.
Все произошло удивительно быстро. Эйнар Пьетюрссон вдруг начал оказывать влияние на умы своих соотечественников, стал, можно сказать, важным фактором нашей духовной жизни. Он сочинил новые заметки, по качеству сходные с предыдущими, и перевел коротенький рассказик из английского иллюстрированного журнала. Ему удалось достойным образом оградить себя от цензуры шефа и моей корректорской правки. «Гм, – сказал он, – я абсолютно уверен, что сам все сделаю ол-райт». В английском рассказе говорилось об одном лондонском доме с привидениями, где загадочный «майор-лорд» (в оригинале, правда, стояло Lord Mayor [65]65
Lord Mayor – лорд-мэр (англ.).Титул мэра в больших городах Англии, в частности в Лондоне.
[Закрыть]) руководил охотой за двумя женщинами-призраками и был вынужден капитулировать. В своих заметках Сокрон из Рейкьявика благодарил читателей «Светоча» за «поток писем» и даже приводил выдержки из них, где растроганные подписчики выражали свое восхищение, поздравляли его и желали дальнейших успехов.
Затем в прессе разгорелась дискуссия.
Директор одной из школ заявил, что инсинуации Сокрона из Рейкьявика в адрес исландских учителей свидетельствуют о вопиющем невежестве автора и омерзительном стремлении посеять подозрительность и вражду. Старый учитель начальной школы клятвенно заверял, что тридцать лет, не щадя сил, прививал ученикам истинно христианский дух. Средних лет учитель начальной школы обозвал Сокрона из Рейкьявика болваном и поставил в один ряд с «другим болваном, Амосом с Эйстюрстрайти». Молодой учитель начальной школы, автор недавно напечатанного псалма, признал, что некоторые его коллеги настолько заражены идущим с востока революционным духом, что насмехаются над непорочным зачатием девы Марии. Маститый лингвист вызвался доказать Сокрону из Рейкьявика, что язык наших отцов находится на пороге нового золотого века, ибо недавно было запрещено использовать точку с запятой в школьных учебниках, а в ближайшие годы этот знак вообще будет искоренен. Начинающий лингвист обрушился на тех, кто ополчается против точки с запятой и при этом обходит вниманием краеугольный камень исландского языка – букву «z». Вскоре множество учителей, священников и просто заинтересованных лиц уже вели в трех ежедневных газетах ожесточенную полемику о непорочном зачатии, орфографии и знаках препинания, особенно о точке с запятой.
Эйнар Пьетюрссон в эту войну, им самим развязанную, не вмешивался. (Несколько месяцев спустя, когда страсти улеглись и воцарилось спокойствие, он взорвал новую мину. Вообще, пока «Светоч» пользовался его услугами, он два раза в год, весной и осенью, неизменно писал о «проблеме христианского духа» и «проблеме родного языка», и его пророческие высказывания по этим «серьезным проблемам» всегда вызывали смятение в умах читателей и заставляли кое-кого браться за перо. С другой стороны, с каждым разом находилось все меньше народу – специалистов и дилетантов, желавших полемизировать с ним в печати: труд это был неблагодарный.) Я убедился, что мой коллега был наделен недюжинной силой духа и стойкостью: вместо того чтобы принять участие в полемике вокруг непорочного зачатия, орфографии и точки с запятой, он писал заметки о тухлых яйцах в некоторых продовольственных магазинах, хвалил оркестр Радиовещания, призывал мужчин ежедневно чистить ботинки, превозносил какую-то гостиницу. «Скоро наступит весна, – писал он и не без лиризма продолжал:
Теплее становится шхер наших ряд.
Гаги у гнезд своих звонко кричат,
как сказал наш поэт. Вчера я сделал променад на Эффрисей [66]66
Эффрисей ( офиц.Эрфирисей) – ранее остров, теперь мыс у входа в рейкьявикскую гавань.
[Закрыть]и видел у воды кричащую гагу».
Нет, вся эта газетная полемика свидетельствовала лишь об одном: статья его не потерпела «фисако». Когда учитель средних лет обозвал его болваном, Сокрон не обиделся: успех всегда рождает зависть. «Комплекс неполноценности», – научно выразился он и пожалел автора. Ему и в голову не пришло отвечать на такое хамство, на такой комплекс, он был выше этого. Сокрон из Рейкьявика считал личные выпады делом недостойным и никогда не пользовался ими, чтобы защитить себя.
Впоследствии к нему действительно стали приходить письма от читателей «Светоча» – конечно, в первое время не «потоком», но ведь нередко упавший камень бывает предвестником камнепада. Он показал мне первое полученное письмо – от «матери восьмерых детей». Она горячо благодарила его за фразу: «Мы не хотим, чтобы наши дети выросли безбожниками» – и требовала, чтобы всех неверующих учителей немедленно повыгоняли из школ и отправили на принудительные работы: это наставило бы их на путь к богу.
4
Сегодня я остановился у дома 19 по улице Сваубнисгата и стал разглядывать облупившуюся штукатурку, исцарапанное гофрированное железо [67]67
В Рейкьявике стены многих домов обшиты гофрированным железом.
[Закрыть]и в особенности запыленное окно под самой стрехой на северной стороне дома. За этим окном я жил, когда стал журналистом. Через эту дверь я перед рождеством 1939 года вынес часы покойной бабушки и продал их мрачному старьевщику. Здесь потерпели крушение мои планы о высшем образовании. Здесь я не стал пастором, потому что решил сделаться хранителем древностей, – хранитель древностей уступил место естествоиспытателю, естествоиспытатель – поэту, а поэт… человеку, который крал анекдоты для «Светоча», держал корректуру и переводил с датского любовные рассказы. Иногда я смотрел на звезды и думал, что Земля – лишь пылинка в бесконечной Вселенной, а люди так малы, что этого и словами не выразишь. Однако, несмотря на подобные мысли и некоторое – весьма поверхностное – знакомство со Шпенглером, Фрейдом и разными иностранными романистами, как хорошими, так и плохими, я был всего-навсего парнем из Дьюпифьёрдюра, чужаком в столичном городе, нерешительным, невежественным, неопытным, неиспорченным и во многих отношениях ужасно ребячливым. Эта мансарда-клетушка много месяцев была моим домом. В ней я познал бедность и огорчения, в ней я трясся над каждой кроной, был бесконечно одинок, боялся нужды, вернее говоря, голода – спутника безработицы, жил в страхе, что мир погибнет, жаждал счастья (коря себя при этом: тебе еще хорошо, твоих сверстников сейчас убивают!), изведал надежды и разочарования, мечты, любовь. «Сколь счастлива юность!» – сказал поэт. Дом остался таким же, каким был тогда, по крайней мере снаружи, щербин и царапин вроде бы не прибавилось. Я распростился с ним 14 мая 1940 года, переехав на улицу Аусвадлагата, в превосходную комнату в доме управляющего Бьярдни Магнуссона. Далеко не сразу я сообразил, что он, Бьярдни Магнуссон, был начальником Арона Эйлифса в его «хлебностном труде».
В доме 19 по улице Сваубнисгата комнату мне сдавала семья, сама снимавшая квартиру. Я хорошо помню, как трясло старуху, когда она рассказывала мне, что хозяин дома отказал им.
– Сначала заказное письмо прислал, – шептала она, – а вчера сам явился.
– Понятно.
– Весной нам съезжать, – продолжала она, – но куда – ей-богу не знаю. Наверное, в подвал какой-нибудь.
– Бог даст, обойдется.
– Только бы не в подвал.
Я посмотрел на нее: руки дрожат, уголки рта опустились еще ниже, чем обычно, взгляд еще более потухший, кожа еще более дряблая и нездоровая.
– А у него, – сказала она как бы самой себе, – четыре дома.
– У кого?
– У хозяина, – прошептала она. – И он холостяк.
Для меня отказ этот не явился неожиданностью: мне доводилось видеть владельца дома – правда, со спины, – когда он приходил за квартирной платой, и я понял, что это за человек.
– Он уже распорядился насчет квартиры. Верно, жильцы снизу на нас жаловались.
– Да что вы!
– Точно, – прошептала она. – Мой Хьялли-то порой здорово напивается, да ты знаешь. Но платили мы всегда аккуратно. Живем тут уже три года. Я здесь давно освоилась, и мне нравится. Надоели вечные переезды.
Когда-то она была молодая, думал я. Молодая и здоровая, как Кристин. И вот что сделала с нею жизнь. Что сделает она с нами – с Кристин и со мной?
– Я это во сне видела, – продолжала старуха. – Один и тот же кошмар три ночи подряд снился. Перед испанкой у меня тоже вещий сон был, мы тогда в подвале жили. И обе они тогда померли, Сольвейг и Гвюдлёйг, а какие были толковые и ласковые. С тех пор и хвораю. А какая я сейчас развалина – и творить нечего.
Что сделала с нею жизнь, снова подумал я.
– Разве ж это здоровье? Разве ж это жизнь?
Почему ей не дано умереть? – подумалось мне.
– О-хо-хо. – Старуха смотрела потухшим взглядом в пространство, рот у нее открылся. – Только бы не в подвал.
Сваубнисгата, 19.
В те давние времена я, надо полагать, несколько повзрослел, приобрел некий жизненный опыт, порой горький и суровый. Признаюсь честно, что свою клетушку я оставил с радостью. Семейство, жившее на верхнем этаже, мне хорошо запомнилось, хотя общался я с ним мало. В доме была потрясающая слышимость, сквозь тонкие перегородки проникал даже шепот, и я слышал многое, что не всегда предназначалось для моих ушей. Кое к чему я быстро привык, кое-что меня иногда поражало, но вскоре забывалось, кое-что запало в память на всю жизнь.
Старуху мучила какая-то болезнь, не знаю ее названия. Она вся дергалась и дрожала, тряслась и корежилась, особенно когда волновалась, а это случалось раз двадцать на дню. Лицо ее, серое и дряблое, всегда было расслабленно-обвисшим, словно перестало подчиняться нервам. Мне кажется, она вообще не улыбалась. Лишь когда на кухню неуверенными шажками входил ее внучек и взбирался к ней на колени, лицо ее светлело. Улыбка начиналась со странных подергиваний и подрагиваний лица, рот принимал форму кривой подковы, а глаза – глаза сияли.
– Бутузик мой родненький, – приговаривала она, лаская малыша, – крохотный-то он какой!
Муж ее, невысокий, плотный крепыш лет шестидесяти с лишком, громогласный, широколицый, бровастый, обветренный, производил на первый взгляд несколько устрашающее впечатление, но был добрейшим существом. Каждое утро, выходя на улицу, он неизменно крестился, и я уверен, что он всегда молился на ночь. В церковь он ходил только по большим праздникам, а по воскресеньям просто слушал богослужение по радио.
– Да перестаньте же, черт возьми, шуметь! – кричал он и стучал кулаком по столу, если во время передачи ему казалось, что в доме недостаточно тихо. Всякие роскошества были ему ненавистны – за исключением копченой баранины, оладий и нюхательного табака в умеренных дозах. Кофе он любил, но обычно ограничивался одной чашкой: надо экономить! Он работал – и все еще работает – подметальщиком улиц и мусорщиком, «штатным служащим Города», как он сам выражался, считая, что за такое счастье во времена кризиса и безработицы надо благодарить бога.
– Они знают, что я голосую правильно! – важно сообщал он, угощая меня нюхательным табаком.
На днях я издалека видел его, и меня поразило, как мало он изменился. Его кряжистая фигура упрямо двигалась сквозь вьюгу, словно споря с ней: «Вытворяй что хочешь, а я, покуда жив, буду идти!»
Сыну их, Вильхьяульмюру – его обычно называли Вилли или Хьялли, – было тогда, в 1940 году, двадцать четыре года. Тонкий, узколицый, с черными бровями и ресницами, прилизанными волосами и маленькими руками, он, на мой взгляд, не походил ни на родителей, ни на сестру. Изредка он бывал весел, но большей частью угрюм и хмур, робок и боязлив, словно лесной человек [68]68
Лесными людьми в древней Исландии называли объявленных вне закона: они скрывались в лесах и прочих ненаселенных местах.
[Закрыть], либо как-то неприятно тих и застенчив, словно просил прощения за то, что вообще существует. Случались недели, когда он бывал на общественных работах, которые устраивались для безработных, но в промежутках заняться ему было нечем, и он торчал дома либо околачивался в гавани в надежде на случайный заработок, слонялся по городу, болтал со знакомыми, курил дешевые сигареты, постоянно удирал вечерами из дому и возвращался навеселе, а то и вдрызг пьяный; частенько его приводили или даже приносили задастые полицейские. Человек без работы и денег, сам он мог купить водку в редчайших случаях, но тем не менее ему удавалось надираться каждое воскресенье и обычно также в середине недели. Он был женат и жил в соседней со мной комнате, тоже мансардной. Жена, тщедушная и довольно некрасивая, была родом откуда-то с Сюдюрнеса. У них рос сын, голубоглазый карапуз с мягким пушком на голове, ему шел третий год. Иногда он – всегда между завтраком и обедом или между обедом и ужином – настойчиво просился к бабушке, но мать не отпускала его и время от времени шикала: «Тс-с, сиди с мамой». Однако, когда ей приходилось обихаживать страдающего от жестокого похмелья Вильхьяульмюра, мальчуган мог беспрепятственно отправиться к бабушке. Он крутился вокруг нее, задавал бесчисленные вопросы или же сидел у нее на коленях, что-то напевая. Старуха умилялась: