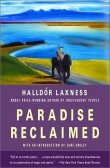Текст книги "Избранное"
Автор книги: Оулавюр Сигурдссон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
Он вновь заходил по комнате, дымя сигаретой и насвистывая, но я не мог не возразить:
– А как сам автор отнесется к тому, что даже не узнает по названиям свои произведения?
– Обойдется!
Я оставил рукопись, собираясь заняться корректурой, но шеф, оказывается, еще не закончил.
– Выдающийся человек этот Эйлифс, – сказал он, – вежливый и скромный. Куда симпатичнее этих красноперых бездарей, каждый из которых мнит себя гигантом мысли. Выжимают по два-три стишка в год и чуть ли не лопаются от непомерной важности, заносчивости и высокомерия. А этому бедняге никто не желает помочь, и все потому, что он аполитичен. Но по восемнадцатой все же…
– Вы о чем?
– Сегодня он попал под восемнадцатую статью бюджета и получит специальную стипендию для поэтов! – Вальтоур вновь зашагал по редакции. – Я умолял двух министров и пятерых депутатов альтинга подбросить ему еще, чтобы вышло по крайней мере полторы тысячи крон. Кого, по-твоему, я застал вчера у одного знакомого?
– Не знаю.
– Баурдюра Нильссона из Акранеса, знаменитого скрягу и подонка, который не может без слез смотреть на каждый медяк, отчисленный из государственной казны в помощь поэтам и художникам. Его протертым задом они там в альтинге пользуются как зеркалом! – Хмыкнув, он продолжал: – К моему стыду, я спросил и у него, не поддержит ли он предложение распространить восемнадцатую статью и на Арона Эйлифса! И что, думаешь, это ничтожество мне ответило?
– Наверное, он… и сам был бы не прочь… – начал я, но запнулся на полуслове и решил выждать.
– Он, мол, ничего не может обещать в эти трудные времена, ибо государственная казна стонет под тяжким гнетом огромного количества неотложных проблем, требующих дополнительных затрат, и финансовой неразберихи, хотя потом все же добавил, что не станет голосовать против нашего Эйлифса, если большинство в финансовом комитете решат поддержать его кандидатуру. Он, видите ли, любит Эйлифса… И как по-твоему – за что?
– Конечно, за поэзию, – сказал я. – За стихи.
– Нет, милок! За благородные идеи, за борьбу против хлеба и сахара, за сенсационные статьи о вегетарианстве! Нужно было видеть этого скупердяя, когда он разглагольствовал об экономии, напоминая, что наш Эйлифс хочет заставить всех жрать щавель и чуть ли не силос!
Шеф вынул изо рта окурок, раздавил его в пепельнице Эйнара, улыбнулся и быстро посмотрел на меня.
– Боюсь, как бы кое-кто в обморок не упал, когда узнает, что наш Эйлифс получил стипендию по восемнадцатой статье бюджета!
– Ну-у… кто же?
– Мои старые друзья-радикалы!
Мне это ничего не говорило.
– Я жестоко ошибусь, если они не засуетятся и не поднимут шум в прессе, – сказал он. – Увидишь, как завопят эти бесплодные поэты и критики!
– Да уж. Наверняка.
Шеф, сияя, вышагивал от двери до окна и обратно.
– Представляю, как они запоют. – Он назвал имена известных писателей, в том числе прославившихся строптивостью и радикальностью взглядов. – Только ведь их камнями забросают, если они попробуют изрубить в куски нашего Эйлифса. Он же теперь невероятно популярен, женщины с ума по нему сходят!
Мне нечего было сказать. Я наизусть знал такие разговоры о популярности поэта, и пересуды меня мало интересовали, к тому же я в этом плохо разбирался. Вальтоур поправил галстук.
– Тебе не интересно, Паудль?
– Мне? Не знаю…
– Какого черта ты такой вялый? Что-то случилось?
Я отрицательно покачал головой.
– Ты похудел за лето! У тебя слишком грустный вид!
Не поднимая головы, я тем не менее чувствовал на себе его внимательный взгляд.
– Тебе нужно развеяться, – сказал он дружески. – Ты либо мало ешь, либо мало спишь.
– Вы думаете?.. – пробормотал я, от неожиданной заботы на душе у меня потеплело.
– Ты, кажется, помолвлен. Как поживает твоя девушка?
Меня бросило в жар, и я уставился в корректуру.
– Все… все кончено.
– Trouble in love! [98]98
Несчастная любовь! (англ.).
[Закрыть]Бедный мальчик!
Вальтоур остановился у окна, посмотрел на улицу и некоторое время молчал, а потом как бы подумал вслух:
– Детские болячки быстро заживают. В молоденьких девушках как будто недостатка нет. Лучший выход – напиться в дым и пуститься в разгул!
Если бы эти слова принадлежали Стейндоуру Гвюдбрандссону (а это весьма походило на его добрые советы), то он изрек бы их тоном старика-учителя, насмешливо и важно, с оттенком недовольства невежеством подопечного. Но по тону моего шефа было совершенно ясно, что он хотел только засвидетельствовать мне свое участие и тем самым по-своему ободрить меня. На душе полегчало, и я подумал, что он славный малый, хотя и опасался дальнейших расспросов. Ни ему, ни кому-либо другому я не мог доверить историю с Кристин.
Опасения не подтвердились. У Вальтоура хватило такта не возвращаться к этой теме. Он заправил авторучку чернилами и ушел к себе в кабинет. Я же принялся за корректуру. Через некоторое время он распахнул свою дверь и спросил, нет ли Эйнара.
– Вышел. Кажется, собирался постричься, – сказал я.
– Н-да. – Вальтоур замер в дверях, слегка нахмурился. – А ты что копаешься?
– Я?
– Кстати, со следующего месяца будешь получать на сорок крон больше!
Не успел я сообразить, что произошло, как он попросил меня держать язык за зубами.
– Эта новость не для всех, – сказал он коротко. – Если все будет хорошо, то тебе еще подкинут.
Уж не знаю, как я собрался с силами, но все же умудрился поблагодарить Вальтоура.
– Не за что, твоей беде эти кроны вряд ли помогут, – сказал шеф, обводя глазами редакцию, будто искал что-то, но что, так и не вспомнил. – Заслужил, – добавил он, отправляясь к себе.
8
Как-то ясным воскресным утром в начале октября в дверь моей комнаты постучала хозяйка дома, фру Камилла Йоуханнсдоухтир, жена управляющего Бьярдни Магнуссона.
– Вас к телефону, Паудль!
Раньше мне никогда не звонили по домашнему номеру управляющего. Телефон мне был не нужен, я пользовался им не чаще жильцов из полуподвала. Сердце вдруг сильно забилось; я будто в забытьи сбежал по лестнице вслед за хозяйкой и наконец услышал, в трубке мужественный голос Вальтоура:
– Привет, дружище! Не побеспокоил?
Чего я ждал? Почему молчал? Надеялся услышать другой голос?
– Алло! – окликнул Вальтоур. – Алло!
– Добрый день, – отозвался я, рассеянно глядя на письменный стол Бьярдни Магнуссона, на кресло, книжный шкаф, семейные фотографии и картины, но шеф вернул меня к действительности.
– Не хочешь проветриться сегодня? – спросил он. – Прокатимся к озеру в Тингведлир?
Немного опомнившись, я с радостью согласился:
– Когда выезжаем?
Шеф спросил, где я обычно ем, и попросил не задерживаться, чтобы быть готовым к половине первого.
– Жена простудилась, ей нездоровится, а то бы мы пригласили тебя к себе, – пояснил он.
– Где встретимся? – спросил я.
– Как поешь, стой у кафе, в полпервого я подъеду за тобой на машине.
Он прибыл более или менее точно, подрулил блестящий черный пятиместный автомобиль к тротуару, чуть-чуть не доехав до меня, и засигналил так, будто решался вопрос жизни и смерти. Вальтоур был в машине один, непривычно веселый, со спичкой в зубах, в сдвинутой на затылок старой помятой шляпе, в серой спортивной куртке и клетчатых брюках гольф. Я сел рядом с ним, заднее сиденье было завалено каким-то барахлом.
– Это ваш автомобиль?
– Пока нет. Чертовски дорогой.
– Собираетесь купить?
– Кто знает. Человеку так много всего нужно.
Он выплюнул изо рта спичку, обогнал автобус и свернул на улицу Квервисгата – как мне показалось, слишком лихо.
– Какая жизнь без машины? Когда-то у меня был развалина «форд», замучился с ним, уж сколько он у меня чихал и дымил. Тебе нужно как можно скорее купить машину.
– Для меня и велосипед пока сойдет.
– Ну… – поморщился Вальтоур. – Ты рассуждаешь как датский социал-демократ! Может ли быть зрелище трагичнее, чем потомок Эгиля Скаллагримссона на велосипеде! – Сунув руку в карман куртки, он вынул пакетик леденцов и протянул мне. – Угощайся!
– Спасибо, что-то не хочется. – Я посмотрел в окно. – На озере сейчас, должно быть, красиво.
Вальтоур кивнул.
– В хорошую погоду везде красиво. Я так и говорил старухе.
– Какой старухе?
– Теще.
– А-а…
– Надо ставни закрыть в хибаре да отвезти туда кое-какое барахло. Она так хотела.
Потом он принялся насвистывать и распевать бесконечные попурри, в которых намешано все – шлягеры, псалмы, древние песнопения, баллады, арии из опер и гимны. Несмотря на прекрасную видимость, я не мог любоваться горными красотами – взгляд поминутно натыкался на палаточные лагеря и кварталы новеньких бараков, разбросанные на каменистых холмах вдоль дороги. Меня охватило уныние. Боже мой! Что станет с нами? – думал я, глядя на отряды вооруженных солдат, армейские автомобили различных марок, заграждения из колючей проволоки, ружейные пирамиды, окопы, укрепления, часовых. Лишь когда мы отъехали подальше от города, где уже не было ни иностранных солдат, ни их баз, я начал смотреть на голубые горы, на осеннее великолепие земли. Помню жухлую траву на болотных кочках, серебристые кусты между валунами, горные озера, пылающие под солнцем, бледно-розовые от увядающего вереска склоны. Мне казалось, я так мало знаю об этих невысоких, поросших мхом каменистых гребнях, о развалившейся каменной пирамидке, указывавшей путнику дорогу с плоскогорья и хранившей память о давних веках, об исчезнувших поколениях. И я все же не мог наслаждаться поездкой, потому что Вальтоур вел машину так быстро и плохо, что я, честно говоря, побаивался за свою жизнь. Стрелка спидометра не опускалась ниже 70–80, а иногда доходила и до 85. Машина завывала и ревела, скрежетала на поворотах и рискованно кренилась, но Вальтоур был в прекрасном расположении духа, радовался сумасшедшей езде и чаще держал руль одной рукой, а не двумя. В паузах между песнями и свистом он угощал меня леденцами и вдруг изрекал что-нибудь малопонятное, большей частью сентенции о жизни и мире вообще. Например, что Вселенная – забавная штука и все в ней не так просто.
– Тут либо пан, либо пропал, – говорил он, – нужно лишь разгадать секрет… подобрать ключи от кормушки… Не вижу никакой добродетели в том, чтоб довольствоваться жалкими крохами.
Жизнь он назвал лотереей, а потом спросил, обращаясь не то к себе, не то к машине, а может быть, и ко мне, понравилась бы кому-нибудь лотерея, где всем достается одинаковый выигрыш. Дескать, смешно, что некоторые люди пытаются подчинить лотерею какой-то занудной плановой системе, да еще кричат «ура!», как он выразился.
– Нет, милок, – сказал он, – они же самикрутятся в лотерейном барабане! Женщину за этим ох как следят, ха-ха!
Потом он опять пел и насвистывал. Я решил, что лучше всего он вел машину под псалмы и гимны. Древние песнопения и шлягеры влекли за собой неравномерное поступление порций бензина, резкие толчки и неожиданный галоп. Любая оперная ария в свою очередь взвинчивала скорость до опасных пределов на всем своем протяжении, от начала до конца.
Но как бы там ни было, я начисто забыл и самого себя, и лихую езду моего шефа, и его изречения и вокальное искусство, едва увидел озеро в долине Тингведлир. Исторические горы словно храмы высились на фоне ясного осеннего неба. Любуясь спокойными голубыми вершинами и лазурной гладью озера, по которой кое-где пробегали и разбивались об острова волны, я вспомнил покойную бабушку. Задолго до того, как меня научили грамоте, я слышал ее рассказы о славных событиях, разыгравшихся здесь, среди синих гор, тысячу лет назад, запоминал стихи, которые уже стали историей (Некоторые из них написаны самим Йоунасом Хадльгримссоном). Особые нотки появлялись в ее голосе, когда она говорила о Скале Закона, об ущелье Альманнагьяу, реке Эхсарау или Омуте Утопленников. Но больше всего ее мучило то, что она давно не бывала в долине Тингведлир. По ее словам, она хотела выбраться туда, как только кончит учиться на акушерку. Думала взять у кого-нибудь на время лошадь и поехать, в крайнем случае одна. Но до путешествия так и не дошло. Нужно было спешить домой, и она боялась не успеть на пароход до Дьюпифьёрдюра. «Ох, – вздыхала она, – вот так – вечно мы связаны по рукам и ногам, ни одной свободной минуты нет». Так ей и не довелось побывать тут – ни со мной, ни с кем другим.
Вышедшие на дорогу овцы шарахались от нас, порой за скалами вдруг открывалась бесплодная пустошь, облизанные ветром холмы и вересковые склоны. Но вот наконец мы вновь очутились в населенных местах и увидели огромный крестьянский хутор на огороженном поле. И вновь в ушах у меня зазвучал певучий голос покойной бабушки, искренний и чуть надтреснутый. Я смотрел на синие горы, на озера, на легкие облака над вершинами Каульфстиндар и Храбнабьёрг, на далекие снежные шапки, на поросшие мхом лавовые поля, на золотистый жар вереска и вербы, а бабушкин голос все рассказывал мне, мальчику, о долине Тингведлир и читал Йоунаса Хадльгримссона. Немного погодя я заметил, что Вальтоур едет гораздо медленнее и больше не поет. А в следующую минуту я увидел английских солдат и их лагерь прямо на краю ущелья Альманнагьяу.
Воспоминания о тихом, надтреснутом голосе бабушки тотчас оставили меня, унеся с собой и то сказочно-лирическое настроение, которое им сопутствовало.
– Что делают тут солдаты? – спросил я.
– Нас защищают! – ответил Вальтоур. – Вдруг немцы посадят самолеты на воду!
Я отказался от мысли просить его хоть чуточку задержаться на краю ущелья и дать мне взглянуть оттуда на древнее место народного собрания, освященное тысячелетней историей и сейчас дивно красивое в осеннем убранстве. Еще пристанут к нам, подумал я, примут за шпионов. Когда же мы выехали к ущелью и отвесные скалы стеною потянулись вдоль дороги – то серые и сухие, то темные и влажные, – мне пришлось внушать себе, что смотреть на них вовсе незачем, что эти бездушные камни никогда не имели отношения к славной истории и к языку. Скала Закона и река Эхсарау, горы Аурманнсфедль и Скьяльдбрейдюр, а вдали полуостров Тиндаскайи, побуревшая растительность долины Тингведлир, где некогда возвышались совсем иные палатки. Нет, я больше не видел этого, не слышал и голоса, что завораживал меня несколько минут назад. На лавовом поле тут и там пылали костры осенних кустарников, солнце сверкало на церковном шпиле, на дерновой крыше хутора желтела высокая трава, из трубы курился дымок. Чего ж мне не хватает? Почему так грустно на душе? Вальтоур опять проехал по мосту через Эхсарау, потом направился на юг от озера, мимо каких-то коттеджей, где не было видно ни одной живой души, кроме двух пугливых дроздов, собиравшихся в жаркие страны. Вальтоур, не задумываясь, называл хозяев этих коттеджей, важных людей – коммерсантов, политиков, адвокатов.
– Эта – Аурдни Аурднасона, – сказал он. – А вон и моя хибара!
«Хибара» ничуть не уступала другим коттеджам и выглядела не хуже того добротного дома в Дьюпифьёрдюре, где прошло мое детство. На зеленых воротах висел массивный замок, грозная ограда из колючей проволоки оберегала маленькие цветочные клумбы и молоденькие деревца – березки, рябины и елочки высотой по колено. Вальтоур закурил сигарету и стал выгружать вещи с заднего сиденья – старый портфель с завтраком, два термоса кофе, три или четыре полосатых одеяла из домотканой шерсти, толстые кофты, шарфы, варежки, теплое белье, банки какао и чая и даже несколько восковых свечей, напомнивших мне о рождестве, о доме. Багаж он складывал на траву у ворот, мурлыча какие-то танцевальные мелодии и пуская дым из уголка рта. Я хотел было поинтересоваться, зачем он привез теплые вещи и продукты в пустующий зимой коттедж, но он, вернувшись к машине, сказал:
– Ну и барахла!
В куче «барахла» лежали полурассыпавшиеся картонные коробки и небольшие деревянные ящики с банками иностранных и отечественных консервов: баранья тушенка, всевозможные паштеты, рыбные тефтели, сардины, разные фрукты, фасоль, овощи и даже грибы. Я вытаращил на все это глаза, но мое удивление лишь рассмешило Вальтоура.
– Теща собирается переехать сюда, если немцы начнут бомбить Рейкьявик, – сказал он. – Боится, старая. Немцы, разумеется, не разбомбят дорог, по крайней мере бомбы не будут столь невежливы и не упадут прежде, чем теща водворится здесь!
Мы перетаскали ящики к воротам, туда, где висячий замок крепко сжимал кривым пальцем железные скобы.
– Черт подери! – выругался Вальтоур, похлопывая себя по карманам. – Ну как же я мог забыть у старухи ключи!
Вся его одежда звенела и позвякивала, точно он был ходячей скобяной лавкой. После многократных похлопываний и ощупываний каждого кармана брюк и куртки он, слава богу, нашел огромную связку ключей. Отомкнув замок на воротах и помахивая ключами, как фонарем, Вальтоур сказал, что сперва надо вытащить из чулана оконные ставни – пусть будут под рукой, – а потом, прежде чем заносить барахло, он покажет мне старухину вотчину.
На дверях чулана висел другой замок, мощный и надежный, он уже начал ржаветь, и его заедало. Вальтоур искал какие-то инструменты, гвозди и болты, а я рассматривал старухины сокровища – немалые запасы угля и дров, канистры керосина, бидоны, воронки, банки с краской, молотки, веревки, мотки проволоки, столбы для забора и мышеловки. Из чулана был ход в кухню, но позже я узнал, что двери туда не просто заперты, а еще закрыты со стороны кухни на крюк.
– Вот, милок, тебе бы такую хибару!
Увиденное поразило меня.
– Что? Мне?
– Разве тебе помешало бы выезжать за город на выходные? Собрал бы стройматериала, а он стоит чертовски дешево, сущий пустяк, и построил бы замечательный домишко!
Вальтоур попросил меня выволочь наружу лестницу и несколько огромных ставен, потом сдвинул шляпу на затылок, швырнул окурок в кусты и, тряхнув ключами, быстро зашагал к главному крыльцу, продолжая показывать мне старухины владения. Ключи звенели не умолкая, потому что двери в доме были крепко-накрепко заперты, да и не только двери, но все, где хоть что-то можно хранить, в том числе и два здоровенных сундука, куда нужно было сложить привезенное «барахло». Один стоял в комнате, другой – на кухне. Сундук в комнате не поддавался. Вальтоур пыхтел над ним, обзывал ископаемым и грозился свезти в музей древностей. Тем временем я рассматривал красивый камин, подсвечники и керосиновую лампу, плетеные стулья, стол и диван, резные полки с керамическими воробьями, воронами и куропатками, сухой букет, овчину на полу, картины. Должно быть, приятно сидеть в этих плетеных стульях и читать хорошие книги, в камине потрескивает огонь, а за окном хлещет дождь. Умеючи, возможно, и удалось бы слепить недорогую хижину, мечтательно подумал я. Несмотря ни на что, я уже мысленно видел молодую чету у этого дивной красоты озера, утреннюю зарю и закаты, темную зелень июньской ночи, лунный свет.
– Вот чертовщина! – вздохнул Вальтоур, рванув вверх крышку сундука. – Мне в голову не приходило, что он полон барахла, как и остальные. Ох и теща, попробовала бы сама еще хоть что-нибудь запихнуть в свой антиквариат!
Он принялся рыться в сундуке, насвистывая и покачивая головой.
– Простыни, нижнее белье, чехлы для перин и так далее, – пробубнил он, распрямляясь. – Да, милок, ну как тебе хозяйство?
– Здорово.
– Пошли наверх, – сказал он важно. – Я покажу тебе старухину спальню.
Я поднялся за ним по скрипучей лестнице наверх и подождал на ступеньках, пока он справился с замком. Помнится, это была темная комнатушка со стенами из суковатых досок, а из мебели там стояли только старомодная кровать, зеркало и умывальник, но главное место занимал массивный сундук с выпуклой крышкой и медным замком, расписанный выцветшими розами, с полустертой датой «1878». Не успели мы войти, как Вальтоур толкнул меня, указав пальцем на сундук.
– Здесь она прячет «Хеннесси» и шартрез!
– А что это?
– «Хеннесси» и шартрез?
Мое невежество изумило его. Зачем это я спрашиваю? Шутки ради? Или хочу убедить его в том, что я человек отсталый и не знаком ни с «Хеннесси» – знаменитым французским коньяком, ни с шартрезом – одним из лучших в мире ликеров? Мне давно пора вкусить этого нектара, сказал он, почувствовать аромат южных цивилизаций.
– Погоди, за кофе мы нальем по капле того и другого!
Я пробормотал, что это излишне, но он и слышать не желал о моей треклятой скромности и заявил, что хочу я или нет, а рюмочку-другую выпить придется. Если б еще и теща решилась прокатиться с нами, ведь она, старая, само гостеприимство и вообще создание выдающееся.
– Мне и самому не грех промочить горло за компанию, – сказал он, осторожно отодвигая сундук от кровати, потом стал перед ним на колени и начал пробовать один ключ за другим.
– Еще она прячет здесь херес и белое вино, – продолжал он доверительно, потряхивая ключами. – Напомни мне отнести в чулан керосин и запереть все перед отъездом.
– Она что, увлекается спиртным? – спросил я неосторожно.
– Кто? Теща? – Мое глупое предположение рассмешило Вальтоура. – В жизни не притрагивалась. Только нюхает!
– У нас и так хлопот хватает, так что ради одного меня беспокоиться не стоит.
Вальтоур вставил в скважину очередной ключ и попытался повернуть его. Он хотя и обзывал себя растяпой, но был все же на удивление терпелив. Пить-то, собственно, и не предполагалось, сказал он, по крайней мере так, как пьют в деревне – осушают фляги до дна, но все же он сочтет себя последней собакой, если я так и не вкушу нектара южной цивилизации – «Хеннесси» и шартреза.
– Погоди, голубчик, спешить некуда, – приговаривал он, рассматривая связку ключей, – главное – не суетиться, а испробовать каждый ключ с научной методичностью, начать, к примеру, с вот такого блестящего нахала, а потом перебрать их по очереди, закончив этим верзилой… Я и раньше в них путался, – объяснил он и, взявшись всерьез, отодвинул сундук еще дальше от кровати, уставился на позеленевший медный замок, уперся левой рукой в выпуклую крышку и основательно поработал с каждым ключом. Его терпение и методичность оказались не слишком результативны: вопреки всем стараниям ни один ключ к замку не подошел.
В конце концов у Вальтоура опустились руки.
– М-да, она сняла его со связки! – сказал он как бы про себя, поднялся на ноги и, отряхивая брюки, шмыгнул носом. – Что за человек, не понимаю. – Он резко толкнул сундук обратно к кровати. – Хотел вот угостить тебя рюмочкой, а даже бутылок не показал.
– Ничего страшного, – успокаивал я, медленно шагая к двери. – Не стоило ради меня хлопотать.
Вальтоур немного задержался, мрачно посмотрел на связку ключей, потом еще раз пожал плечами, захлопнул за собой дверь и запер ее.
– Конечно, ничего страшного, – презрительно ухмыльнулся он. – А то бы, глядишь, закутили, наклюкались до чертиков, посуду переколотили, перевернули все вверх дном, да и саму хибару сожгли!
Расстроенный, что мне не довелось отведать плодов южной цивилизации, хлебнуть французского коньяку и ликера, он надолго перестал острить, даже не пел и не насвистывал. Я толком не расслышал, но, пока мы укладывали консервы в кухонный сундук, он с досады бормотал что-то о боязни воров и глупых бабах. Я понял так, что эти глупые, стонотные и шумливые бабы – сомнительное украшение жизни мужчины. Он ругал их на все лады и посылал к чертовой матери. А меня, наоборот, звал не иначе как «голубчик» или «дружище Паудль», всячески расхваливал, благодарил за каждый шаг, твердил, что если б не моя помощь, то ему бы никогда не управиться с этими дурацкими, бессмысленными, чертовыми ставнями.
К концу дня ветерок посвежел, тени от гор стали длиннее. Как только мы навесили ставни на окно гостиной – самое большое в доме, – Вальтоур решил, что перед отъездом их надо будет закрыть.
– А пока сходим в чулан за дровами, затопим камин, в свое удовольствие попьем кофейку, поболтаем и отдохнем.
Я напомнил о замке в чулане: мол, не смазать ли его прямо сейчас, но Вальтоур уже скис.
– Нет, только не это. – Роль врачевателя замков, слуги и мальчика на побегушках при глупых бабах его уже не привлекала, и ему вовсе не хотелось вспоминать, что кто-то просил смазать этот дьявольский замок. Пускай со ржавым чудовищем бьются весной те, кто мнят себя здесь безраздельными хозяевами и прячут ключи.
Как только в камине затрещал огонь, Вальтоур опять оживился; кофе из термоса благоухал, а лакомые булки, испеченные его женой, буквально таяли во рту.
– Кушай, голубчик, кушай, – приговаривал он, прямо-таки пичкая меня жениными деликатесами. Потом, мудро заключив, что жизнь – забавная штука, он закурил и вытащил из хозяйственной сумки «Моргюнбладид», которую в городе не успел просмотреть. В это воскресенье он был так великодушен, что тотчас же протянул мне половину, чтобы и я мог читать. Честно говоря, мне не очень хотелось браться за газету, я бы лучше послушал тихое потрескивание камина или посмотрел из окна на голубую зыбь озера и красные в лучах солнца горы. Но, разумеется, я был благодарен шефу за заботу и дружеское отношение, а поэтому взял предложенную половину и добросовестно старался читать какие-то заметки.
– Вечно у меня проблемы с этими чертовыми текстами для эстрадных мелодий, – сказал Вальтоур, как бы думая вслух. – Ты бы, голубчик, не смог их сочинять?
Не помню, что я ответил тогда шефу, может быть, как обычно, сказал, что я не поэт и у меня не выйдет ни текста песенки, ни вообще каких-либо стихов. Помню одно: в тот миг я смотрел на газетный подвал, где сообщалось о помолвках. И случайно взгляд мой упал на фотографию стройной девушки, под которой стояли имена Кристин и английского солдата из Ливерпуля.
9
Однажды тихим осенним вечером я шел по Эйстюрстрайти, намереваясь засесть за перевод очередной главы романа для «Светоча». Вдруг меня окликнули. Обернувшись, я увидел молодого рыбака из Дьюпифьёрдюра, моего ровесника, мы даже конфирмовались вместе. Это был Аусмюндюр Эйрикссон, Мюнди, – в детстве он славился умением запускать воздушного змея и пользовался репутацией непревзойденного ловца рыбок-подкаменщиков.
– Палли! – крикнул он.
– A-а, Мюнди!
Он повзрослел и улыбался немного иначе, но, похоже, мы одинаково обрадовались друг другу. Когда мы виделись последний раз – это было в конце зимы, – он только что получил письмо из дому и рассказывал новости из родных мест: пристань решено удлинить, Унндоура поссорилась с председательшей, Катрин из Камбхуса почудилось, будто она видела привидение, доктор Гисли опять вылечил от мигрени жену знаменитого умельца Йоуакима, вынув у нее из уха двух рыб – ската и полосчатую зубатку. Еще Мюнди рассказывал тогда, что живется ему хорошо, и на траулере ходить нравится, а перед Новым годом подфартило, и он неплохо заработал. На прощание он важно спросил, не заметил ли я чего-нибудь. Я ответил, что нет, и тогда он показал мне кольцо на безымянном пальце и фотографию своей невесты, статной девушки с пухлыми щеками, дочери крестьянина из Южной Исландии, она работала прислугой в семье коммерсанта где-то на окраине Рейкьявика. Они лишь вчера обручились и обещали друг другу сыграть свадьбу, как только Мюнди заработает немного денег, самое позднее через год.
– Ну как дела? – спросил я теперь, когда мы прошли мимо дома, где английский детектив ждал, пока я высплюсь и сяду за перевод.
Мюнди помедлил с ответом.
– Да так себе, – неуверенно пробормотал он, смахивая волосы со лба, а потом мрачно добавил: – Вообще-то, хуже некуда.
Он был без шапки и перчаток, ростом пониже меня, но куда шире в плечах и крепче. Здоровое тело и необычайно выносливый, мощный организм. Пальто, облегая грудь, топорщилось так, словно он прятал что-то за пазухой.
Я спросил, чем он озабочен, не случилось ли чего.
– Я все на той же посудине.
– На траулере?
Он кивнул.
– Ну и как?
– Терпимо.
Я поинтересовался, не ходили ли они с уловом в Англию.
– Ходили.
– Наверное, это опасно…
Мюнди пожал плечами и оглянулся на витрину.
– Кому-то нужно ходить… А ты чем занят? Все в журнале?
– В журнале.
– Так и пишешь?
– Куда деваться-то, – неопределенно обронил я и поспешил перевести разговор на другую тему. – Что нового дома?
– Да ничего особенного.
Такой сдержанности я от Мюнди никак не ожидал. Мы всегда считались добрыми друзьями, и вообще я знал Мюнди как парня веселого и нравом довольно буйного. По крайней мере когда стриженым мальчишкой запускал змеев или самозабвенно удил рыбу.
– Как родители? – спросил я.
– Хорошо.
– Не хотят переехать в Рейкьявик?
– Нет.
Думая, что он спешит на свидание с невестой и попутчики ему не нужны, я поубавил свое любопытство, замолчал и мысленно вернулся к переводу для «Светоча». Безлюдная редакция, работа до полуночи – если ее можно назвать работой – наверняка спасут меня и в этот вечер.
– Ну ладно, Мюнди, – сказал я, замедляя шаг, – будешь писать родителям или звонить, передавай привет.
Мой друг детства приостановился и посмотрел в переулок, ведущий к порту, на Хабнарстрайти. Потом, не вынимая рук из карманов пальто, мрачно проговорил:
– Рад был тебя видеть.
– Что?.. А-а.
– Думал, не встречу никого из знакомых. Куда направляешься?
– Хотел попереводить немного.
Он молчал.
– Впрочем, это можно и отложить, – добавил я. – Не к спеху.
Мюнди по-прежнему смотрел в переулок.
– Может, сходим вместе в порт, – сказал он. – Потолкуем где-нибудь в пивной.
Я почувствовал благодарность и в то же время искренне обрадовался. Спокойно пройтись со старым другом и поболтать немного, вместо того чтобы торчать одному в редакции, копаться в словаре, грызть карандаш и гнать от себя навязчивые воспоминания.
– Когда вы пришли, Мюнди? – спросил я.
– В шестом часу.
– А когда отчаливаете?
– Завтра.
– Покажи мне свою каюту, – попросил я. – Где стоит ваш траулер?
Он покачал головой.
– Не хочу я заходить на эту лохань, ведь на берегу у меня осталось всего несколько часов!
– А что делать в порту?
Он отвел глаза в сторону.
– Гулять!
Несмотря на его чуть небрежные интонации, я уже не сомневался, что мой друг чем-то опечален. Он плавает в Англию, подумалось мне, и никто не может поручиться за его жизнь. Мы миновали здание Пароходной компании и молча остановились на пирсе неподалеку от тусклого фонаря. Здесь я уже не мог не спросить моего друга, как он собирается гулять.
Переминаясь с ноги на ногу, он откашлялся, но не сказал ни слова.
– Разве ты не говорил, что собираешься гулять? – повторил я.
– Говорил! – Мюнди поколебался и раскрыл передо мною ладонь.
Я отлично видел, что в ней были два золотых кольца и три разные фотографии девушки с пухлыми щеками, дочери крестьянина из Южной Исландии, его невесты. Моя голова, как обычно, работала слишком медленно, а когда я наконец понял причину странного поведения друга и хотел было отговорить его, упросить пощадить кольца и фотографии, все это уже летело в ночную тьму.