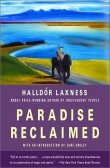Текст книги "Избранное"
Автор книги: Оулавюр Сигурдссон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)
На лице Бьярдни Магнуссона отражалась какая-то внутренняя борьба, как у человека, который изо всех сил сдерживается, чтобы не чихнуть в ответственный момент. Помолчав, он снова с недоумением заговорил о том, что эта поэзия, гм, это хобби, никак не мешала Эйлифсу, пока дела шли хорошо. Он был предупредителен и скромен: писал себе стихи и довольствовался малым, мог месяцами пребывать в полном восторге, если ему удавалось напечататься и сказать по радио несколько слов об овощах и нравственной зрелости. «Светоч» и Вальтоур заморочили ему голову, и, кажется, надолго.
Солнце исчезло. Моль, порхавшая по комнате, назойливо напоминала о своем присутствии, рискованно близко подлетая к нам, словно чувствовала себя в безопасности, пока речь шла об Ароне Эйлифсе. В следующую секунду она горько поплатилась за свое безрассудство и, мертвая, смятая, лежала на ладони Бьярдни Магнуссона. Стряхнув ее на пол, он начал обосновывать мысль о том, как мой шеф заморочил голову Эйлифсу:
– Он себе самовыражается на досуге, а «Светоч» тискает поэму за поэмой, статью за статьей о нравственной зрелости и вегетарианстве и собирается опубликовать его фотографии. И стипендию для него выбили. Достаточно, чтобы прославиться.
Я молчал.
– Вышла из печати книга Эйлифса, и несколько экземпляров в дорогом переплете с дарственными надписями уже проданы. А его имя неколебимо стоит в восемнадцатой статье бюджета – обратите внимание, Паудль, в восемнадцатой статье! – и это когда парламент постановил выдавать поэтам и художникам только годичные дотации и дебатирует из-за каждой кроны. Естественно, человек начинает верить, что он талант, этакий небывалый гений и во что бы то ни стало должен безраздельно отдаться своему призванию. Призвание!
Бьярдни Магнуссон покачал головой и растерянно глянул на меня. Заняв нейтральную позицию, я уже не мог согласно кивнуть, но и критиковать поведение шефа не хотел.
– Призвание? Ничего себе! Эйлифс наверняка много потеряет, бросив хорошую должность, ведь он тут свой человек, все ему доверяют и хорошо к нему относятся. Конечно же, ему будет трудно начать заново, когда сбережения иссякнут, а призвание исчезнет. Сумеют ли незнакомые люди удержаться от насмешек? Сумеют ли примириться с запахом чеснока, которым от него частенько рази!?
Мой нос вспомнил, как ощущал этот запах и не раз молил бога о спасении. Рот мой, однако, молчал.
– К чему этот фарс? – спросил Бьярдни Магнуссон. – Он – не поэт!
Я посмотрел в сторону, почесал нос и сказал управляющему, что у Арона Эйлифса много поклонников.
– Вы имеете в виду простаков?
Переведя взгляд на картину с видом города Акюрейри, я сказал, что твердо знаю: кое-кто из читателей шлет редактору похвальные отзывы о поэмах и статьях Арона Эйлифса. Мало того, парламент действительно назначил ему стипендию, а два видных лица – священник и писатель – напечатали хвалебные рецензии на его книгу.
– Паудль, в Исландии всегда хватало дураков, – сказал Бьярдни Магнуссон. – Нам-то с вами ясно: этот человек – не поэт!
Он замолчал, видимо ожидая моего согласия, и беспомощно смотрел то на меня, то на свои руки. Потом еще раз спросил, к чему этот фарс, каковы намерения моего шефа и зачем он расхваливает Эйлифса, уговаривает издателя, рецензентов и даже членов парламента ублажать Эйлифса, или, вернее, сводить несчастного человека с ума, погрузив его в мир иллюзий. Если же Вальтоур полагает, что рифмоплет вроде Эйлифса способен сыграть политическую роль, то это нелепость. Если он думает, что, возвеличивая Эйлифса, сумеет свести на нет литературные успехи радикалов, то это его заблуждение возымеет обратный эффект.
Уклоняясь от прямого ответа, я сказал только, что член парламента Баурдюр Нильссон был восхищен статьями Арона Эйлифса, в частности теорией о том, что нашему народу следует экономить валюту, жить за счет национальных ресурсов, питаться щавелем вместо пшеницы…
– Вот еще, Баурдюр! – перебил он меня, выказывая презрение к своему товарищу по партии. – Не сомневаюсь, вегетарианская пища в умеренном количестве полезна, но Баурдюр никогда бы не протолкнул Эйлифса в восемнадцатую статью, если б Вальтоур не нашел ловкого человека, который провернул все это за кулисами.
Фру Камилла заглянула в комнату, словно недоверчивая медицинская сестра, но, не обнаружив других гостей, кивнула мне и снова прикрыла дверь. Над нами младшая дочь Бьярдни напевала новую модную песенку.
– Может, попросить редактора поговорить с вами? – спросил я.
– Вальтоура? Зачем же? – Бьярдни Магнуссон знал нескольких людей, поддерживающих «Светоч», акционеров «Утренней зари», и при желании мог бы предотвратить этот скандал, это безумие, если бы, гм, нашел в себе мужество лишить Эйлифса удовольствия самовыражаться каждую неделю в печати. С другой стороны, теперь слишком поздно вмешиваться в игру. Ведь Эйлифс уже не отвечает больше за свое призвание.
О саде он не упомянул, а заключил беседу печальным вздохом:
– Не понимаю я этого, Паудль. Никак не могу понять!
Выражение озабоченности не сходило с его лица, пока он не назначил на место Эйлифса двух добросовестных служащих.
Таким образом, «Светоч» некоторое время оказывал определенное влияние на Бьярдни Магнуссона и его делопроизводство, но, разумеется, не так, как подагра или избирательная кампания. Когда приближались парламентские или муниципальные выборы, Бьярдни Магнуссон превращался в истого члена партии, в политика до мозга костей. Но в другое время он старался избегать политических споров и редко ходил на собрания партии. Дома же он никогда не говорил о политике, только напевал или молчал, когда жена рассуждала о тех опасных людях, которых еще с детства привыкла бояться и всегда называла большевиками. Участие Бьярдни Магнуссона в избирательной кампании заключалось вовсе не во вдохновенных речах и газетных статьях, обвинявших противников в тяжких преступлениях, лжи, казнокрадстве, взяточничестве, мошенничестве и государственной измене. Правда, статьи Бьярдни печатались в газете его партии непосредственно перед выборами и были красноречивым свидетельством скромности и благоразумия. В первой половине этих статей говорилось об успехах, достигнутых страной, а вторая половина посвящалась обзору деятельности партии и призывам голосовать за нее. Но, разумеется, ему не требовалось денно и нощно трудиться для того, чтобы сочинять свои статьи. Денно и нощно трудился он над анализом списков избирателей, изучением сторонников партии, координированием пропаганды, обучением многочисленных кадров и сбором голосов в Рейкьявике. И снискал в этой области отличную репутацию. Его память и организаторские способности ценились очень высоко. Коллеги по партии называли его живой картотекой, а противники – главарем реакции. Во время предвыборной кампании телефонные звонки без конца нарушали его покой, даже ночью. Ему хотелось разрешить по телефону трудности всех и каждого. Со столпами партии он разговаривал не как послушный слуга, а как требовательное благотворительное общество: «Нельзя больше тянуть с предоставлением Гисли выгодного кредита на постройку дома»; «Магнусу нужно выхлопотать участок в хорошем месте, а Эйнару – водительские права»; «Бедняга Йоун заслужил работу получше»; «Партия должна позаботиться о вдове Лейфа»; «Необходимо кое-что сделать для тех, кто находится на иждивении города, не говоря уж о престарелых». Кажется, в сорок шестом году у него был шанс попасть в рейкьявикский список парламентских депутатов от своей партии, но, несмотря на упорные уговоры жены, он отказался от выгодного предложения, поскольку был равнодушен к такому успеху. Его предвыборный энтузиазм остывал к моменту подсчета голосов и полностью исчезал к полуночи в день выборов. Утрата интереса к выборам всегда начиналась с песен и радостной встречи со стойкими коллегами по партии и кончалась в одиночестве приступом подагры и тихим пением: «О alte Burschenherrlichkeit, wohin bist du verschwunden?» [128]128
«О где отрада юных дней?» (нем.) – строка из довоенной немецкой песенки «Я сердце мое в Гейдельберге оставил».
[Закрыть]
«Ишиас», – говорила фру Камилла.
За два года я так и не привык к приступам подагры ее мужа, возникавшим столь же неожиданно, как землетрясения. Мало-помалу я начал обращать внимание на то, что накануне этих приступов Бьярдни никогда не чувствовал слабости. Напротив, он наслаждался бодростью тела и духа, которая, казалось бы, меньше всего свидетельствует о недомогании. В частности, утреннее пение за бритьем несомненно предвещало, что его вот-вот сразит подагра. Песни «Оба Тоурдюра» и «Попрыгунья» указывали, что приступ начнется сегодня же, а другие – например, «Умер Аурдни из Лейры» и «Когда зимой туман спустился» – говорили о том, что приступ случится наутро. Если же он вдобавок заигрывал с прислугой, следовало ожидать очень сильного приступа, который фру Камилла называла прострелом.
Верным симптомом были также случаи, когда Бьярдни Магнуссон не приходил к ужину домой из-за свалившейся вдруг работы, сверхурочных в конторе или долгого заседания комиссии. Тогда он возвращался за полночь или еще позднее, нетвердо держась на ногах и, как правило, с фляжкой в кармане для лечения подагры, порой развеселый, порой неспособный вымолвить ни слова, а иногда с гостем для поддержки, каким-нибудь любителем выпить, которого фру Камилла быстро выпроваживала за дверь, если только это не был большой начальник. На следующий день Бьярдни Магнуссон вставал с постели к обеду, двигаясь крайне медленно. А в случае наиболее острых приступов не выходил на работу два-три дня, если они не совпадали с выходными. Фру Камилла тщательно следила, чтобы с ним не приключилось какой неприятности, предоставляла подруге заботиться о пончиках и торговле, а сама пеклась о здоровье мужа; пока приступ не стихал, она подходила к дверям на звонок и отвечала по телефону. «Приболел, – говорила она строгим тоном. – Ишиас! Прострел!»
За исключением начального, и самого болезненного, периода, Бьярдни Магнуссон предпочитал вести борьбу с подагрой один на один, раскачивался в кресле или, одетый по-домашнему, медленно ковылял по комнате, покуривая сигарету, и время от времени выпивал для восстановления сил немного скира. Вообще он был смирным, как ягненок, но иной раз ворчал на жену, когда ему не нравился скир, наскучивало сидеть одному, приспичивало позвонить по телефону или вдруг выйти по делам в город. Если его сетования оставались безрезультатными и скир по-прежнему казался пресным, он обыкновенно тихо напевал печальным голосом: «О ерум, ерум, ерум, о квэ мутацио рерум» [129]129
«Как меняются вещи» (лат.).
[Закрыть]. Долгий и глубокий сон на просторном супружеском ложе наконец исцелял недуг, освобождая Бьярдни на время от резких мышечных и невралгических болей, а фру Камиллу – от нелегкой задачи следить за выздоровлением больного.
Фру Камилла выполняла эту задачу как настоящая сиделка, расторопная и довольно суровая. До меня не раз доносились ее заявления о том, что, когда она еще молодой девушкой жила в Акюрейри, в приличных домах скир не употребляли. К этому напитку, по ее мнению, можно прибегать в праздники, после застолья, но никак не в одиночестве и не в будни, а уж тем более нельзя лечиться им от ишиаса и прострела. Вероятно, она также полагала, что употребление скира допустимо и во время экспериментов с ловлей лосося, которые ее муженек регулярно дважды за лето проводил вместе с большими начальниками. Я никогда не замечал, чтобы фру Камиллу огорчали его вылазки к заливу Боргар-фьорд или на восток, в Хреппар, хотя она и могла предположить, что он вернется с подагрой, дрожью в коленях, утомленной улыбкой и с одной-единственной рыбешкой или даже без оной.
Мужчина хоть куда! Не могу сказать, что мало его знаю, и все же я проникся к нему любовью.
Обе незамужние дочери Бьярдни Магнуссона были подростками, когда я переехал в их дом: Ловиса, или Лолла, которой шел семнадцатый год, уже стала подкрашиваться по выходным. Она окончила два класса Женской школы. Сестра ее, Маргрьета Йоуханна, которую называли то Грета, то Грета Ханна, только что прошла конфирмацию. Совершив тот проступок, я освободил комнату, сдал ключи Бьярдни Магнуссону и, поклонившись дому, спросил, где находится одна из сестер, собираясь проститься и с ней. Но она уехала кататься на машине со своим приятелем. О другой можно было не спрашивать. Она вышла за какого-то высокопоставленного человека и давно уехала из Рейкьявика. Зато я вспомнил, как она прощалась со мной перед отъездом…
Так вот всё и было.
Дочери Бьярдни Магнуссона, стройные кареглазые шатенки, повзрослели в военные годы и стали настоящими красавицами. Они были похожи друг на друга и, не в пример многим сестрам, дружны. В случае необходимости они всегда помогали друг другу. Обе хотели бросить занятия в Женской школе, свалить эту обузу, но после строгих материнских увещеваний отказались от этой мысли и завершили там четырехгодичный курс – Ловиса весной 1942 года (с репетиторами и превеликими страданиями), а Маргрьета Йоуханна двумя годами позже. Иногда, во время приступов подагры, у управляющего вырывалось, что Гимназия куда лучше этой Женской школы, черт бы ее побрал! Дочери вполне могли бы стать студентками, ведь у обеих очень большие способности, особенно у маленькой Греты. При этом он забывал, что при всей своей одаренности дочери совершенно не интересовались ни теоретическими, ни прикладными дисциплинами, за исключением разве что английского да игры на гитаре. Вдобавок фру Камилла питала не слишком большое почтение к Гимназии в Рейкьявике, которая была известна своими левыми симпатиями. Кроме того, она хорошо помнила, что единственная дочь Свавы и Хильмара, Сири, принесла из Гимназии не одну только гимназическую фуражку – она ждала ребенка от безродного парня из пятого класса, отъявленного нахала. Фру Камилла полностью полагалась на дочерей, веря, что они сумеют устоять перед случайными соблазнами и искушениями. Но, с другой стороны, ей вовсе не хотелось ставить под удар нравственность своих девочек. Поэтому она определила их в Женскую школу, где девушки не только получали достаточное, по ее мнению, образование, но и усваивали такие прекрасные добродетели, как аккуратность, осторожность и здравый смысл.
Для знакомых семьи Бьярдни Магнуссона не было тайной, что фру Камилла очень и очень заботилась о воспитании дочерей, поскольку сами они себя не воспитывали. Управляющий души в них не чаял и не мог им ни в чем отказать, когда мать непреклонно отметала их просьбы. Тем не менее вряд ли можно было говорить об отцовском влиянии, по крайней мере таком сильном, которое вызывает ощущение безопасности и уважение. Этому мешали не только его служебные обязанности и занятость политикой, но и гости, приглашения на вечеринки и бридж, не говоря уж о приступах подагры и употреблении скира. Кроме того, кое по каким признакам можно было догадаться, что в области воспитания у управляющего нет ни любимой идеи, ни теории, которую он мог бы применить к дочерям.
Несомненно, некоторые педагогические приемы фру Камиллы восходили к ее былой жизни в Акюрейри и напоминали те, какими успешно пользовались ее родители до первой мировой войны. В этих педагогических методах не было ни сентиментальности, ни ласки, и все же нельзя утверждать, что фру – Камилла была строгой и жестокой матерью. Ей казалось вполне естественным, что к ее приказам и запретам относятся с уважением. Она не унижала ни себя, ни дочерей постоянными напоминаниями, мелочными моральными проповедями, не говоря уж о слежке и допросах. Еедочери, хотя бы в силу своего североисландского происхождения, должныбыть честными и правдивыми. Она категорически запретила им курить до достижения совершеннолетия. Поэтому о курении украдкой даже речи быть не могло. Она следила, чтобы у них были карманные деньги на мелкие расходы каждый выходной, а поэтому не могло быть и речи о том, чтобы тайком выпрашивать деньги у отца. Мало того, она была верховным судией в отношении их вечерних развлечений, посещений кино и подружек. Поэтому не могло случиться, что они попадут на танцульку или в ресторан, где играет музыка и пьют вино.
Разумеется, фру Камилла неизбежно сталкивалась с дочерним непослушанием. Тогда она действовала решительно, отчитывала их как следует и, иногда даже запуская на несколько дней торговые дела, восстанавливала дома железную дисциплину, чтобы вернуть себе всю полноту власти. Правда, мне кажется, обнаружив какой-нибудь непорядок или нарушение правил, она частенько делала вид, будто ничего не случилось. Фру Камилла считала, что самое благоразумное – выжидать, следя за тем, чтобы мелкое нарушение порядка не привело к дурным последствиям, ведь она раз и навсегда уверовала, что североисландская натура и правильные педагогические принципы подавят склонность к дерзким поступкам прежде, чем они нанесут ущерб. Благотворное педагогическое влияние проистекало, разумеется, из ее поведения и ее взглядов, особенно на дела земные – что практично, а что нет, что повышает и что роняет достоинство молодых девушек, находящихся на родительском попечении. Духовными же проблемами, за исключением образования дочерей и посещения собора в сочельник, она занималась редко, разве что порой выказывала свое отвращение к «разрушителям исландской культуры» – поэтам и писателям радикального толка, книги которых осуждала не читая, – и очень досадовала на то, что их главарю удалось опубликовать свои рассказы в Дании.
«Хорошо же они преподносят Исландию! – говорила она иногда, сверля меня глазами. – Что подумают о нас датчане?»
Во время войны она сетовала, что больше нельзя покупать датские журналы «Родной очаг» и «Семейный журнал», а отечественная продукция вроде «Светоча» ее не удовлетворяет. Даже американские журналы, покупаемые дочерьми вначале ради забавы, а затем из надобности, были ей не так милы, как датские. Сомнительно, чтобы она могла все прочитать в этих американских журналах, зато она их тщательно листала, разглядывая фасоны платьев и пальто, а также фотографии знаменитостей, автомашин, зданий и предметов домашнего обихода. Надо отдать фру Камилле должное: она сумела привить дочерям вкус к красивой одежде, ведь сама подавала в этом пример. Она разрешала им следить за модой, но не позволяла увлекаться крайностями, напоминая, что юбки и блузки должны быть практичны. Таким образом, мать и дочерей объединяли общие интересы: своя и чужая одежда. За девять лет я волей-неволей стал специалистом по части дамских чулок и обуви, шляп и платков, пальто и платьев, кройки и шитья, парчи, рубчатого вельвета и гладкого бархата, муслина, органди, тафты, тюля и крепа, сатина, атласа и дамаста, габардина и поплина, нейлона и перлона, чехлов для мебели, драпировок, велюра, вуали и прочая, и прочая…
Нет, говорю я вполголоса и останавливаюсь. Вот опять я тратил драгоценные вечера, блуждая вокруг скрытой истины, написал множество страниц о Бьярдни Магнуссоне и фру Камилле, которые вовсе не собирался писать, когда начал копаться в воспоминаниях о своей жизни в их доме, а вернее – думать о запахе спертого воздуха и о раздавленном окурке, красном от губной помады.
Позднее.
Когда-нибудь позднее.
Может быть, никогда.
Пока я принимаю решение бросить эту бессмысленную работу, мне кажется, что я слышу, как Ловиса шепчет сестре: «Ох, мама-то наша ничего не видит и не слышит, с головой ушла в бизнес!»
А еще мне чудится далекое печальное пение: «О alte Burschenherrlichkeit, wohin bist du verschwunden?»
Часть третья
1
Где-то выше я уже писал, что смотрю на военные годы будто сквозь забытье. Когда по вечерам я вспоминаю о своем самообмане и оглядываюсь назад, мне становится все яснее, что в те годы надо было внимательно следить за событиями в мире, за ходом войны, а не за мелкими происшествиями у меня под носом. Что знал я, например, об экономической борьбе простого народа, об интригах политиков и глав государств? Правда, я не мог не знать о забастовке печатников, вспыхнувшей в начале 1942 года и продолжавшейся шесть или семь недель, но причина ее мне неясна. Когда выяснилось, что переговоры между бастующими и руководством затягиваются, некоторые знакомые мне печатники взялись за другую работу, например копали траншеи для отопительных труб. Настали другие времена, и безработица сменилась нехваткой рабочих рук. Что касается меня, то я, газетчик, по-прежнему работал над своими материалами, будто ничего не случилось, переводил любовные романы с датского, детективы с английского, а также анекдоты из американского сборника, недавно врученного мне шефом: «10.000 Jokes, Toasts and Stories, Edited by Lewis and Fay Copeland» [130]130
«10 000 шуток, тостов и историй. Составители Льюис и Фэй Коупленд» (англ.).
[Закрыть].
– Когда-нибудь эта чертова забастовка кончится, и тогда резервы пригодятся, – сказал Вальтоур. – Кроме того, мне пришла в голову мысль увеличить в самое ближайшее время объем нашего издания.
– Может быть, в этом году? – спросил я.
– По крайней мере до моей смерти, если только эта забастовка не сделает нас банкротами, – ответил он и, перестав выстукивать пальцами на углу стола какую-то отрывистую мелодию, встал и застегнул пальто. – Ты заметил, что подписчики начали волноваться? Они звонили сюда?
– Кое-кто. Я отсылал их в отдел обслуживания.
– Они говорили, чего им не хватает больше всего?
– Нельзя сказать, чтобы им не хватало многого, – проворчал я. – Одни упоминали послания Сокрона из Рейкьявика, другие – роман с продолжениями.
– Сообщи им, что мы ничего не можем поделать, – сказал Вальтоур. – Доведи до их сведения, что журнал выйдет, как только чертовы забастовщики подпишут соглашение.
– Тогда я не буду отсылать их в отдел обслуживания, – буркнул я, но в тот же миг обнаружил, что ответ мой пропал впустую, потому что шеф уже ушел.
Вспоминая 1942 год, я пожалел о своей неосведомленности во всем, что касается политики и политиков. Однако, возможно, вернее было бы отметить у меня отсутствие интереса к политическим интригам. Некоторые считают, что в сорок втором году в исландской политике наступило затишье. Даже если и так, то я не сознавал этого. В тот год состоялось много всяких выборов – в городское и областное управления 25 января, в муниципалитет Рейкьявика 15 марта, поскольку их пришлось отложить из-за забастовки типографов. Кроме того, выборы в альтинг в начале июня и еще два дня подряд во второй половине октября. Подготовка к этим выборам до того утомила моего квартирного хозяина, управляющего Бьярдни Магнуссона, что ему долгое время пришлось проявлять чудеса стойкости, чтобы не поддаться ишиасу и прострелу, и острый приступ сразил его лишь после того, как осенью завершился подсчет голосов. Политика в ту пору казалась мне вездесущей. Месяцами на улицах и на собраниях шли споры об исходе выборов, не говоря уж о газетах, где полемика и дискуссии продолжались бесконечно. Фру Камилла предсказывала, например, что большевики понесут на выборах большие потери, то же самое говорил и мой коллега Эйнар Пьетюрссон, только называл он этих людей то коммунистами, то социалистами. Квартирный хозяин был в своих прогнозах осторожнее. Ранней весной он разделял мнение Эйнара, но, когда приблизилось пятое июля, повернул на сто восемьдесят градусов, ожидая, что повезет его бывшим знакомым или даже соратникам, если к таковым причислить Стейндоура Гвюдбрандссона. Вышло так, что партия тех, кого называли большевиками или красными, коммунистами или социалистами, не говоря уж о многих других названиях, перечислять которые было бы слишком долго, партия эта выросла и привлекла на свою сторону гораздо больше избирателей, чем кто-либо мог предположить.
– Гм. Смотри-ка, что у них получилось, – сказал мой коллега Эйнар, глядя с озабоченным видом в окно тихим июльским днем сорок второго года.
– Ты имеешь в виду выборы? – спросил я.
Он кивнул и спросил:
– Ты разве не следил за результатами?
– Нет.
Он удивленно посмотрел на меня.
– Разве тебе было не интересно?
– Не очень.
– Ты меня удивляешь!
Мой коллега вскрыл четыре читательских письма к Сокрону из Рейкьявика и, пробежав их глазами, отложил три – несомненно, хвалебных – на стол возле пишущей машинки, а четвертое бросил в корзину, вероятно, это было издевательское послание от читателя с «комплексом неполноценности», как он иногда выражался по-иностранному. Таких людей Эйнар жалел.
– Выборы – нет, кто бы мог подумать! – бросил он, закуривая. – Интересно, что скажут Боуни и Бёкки.
Я уже привык к тому, что он давал ласкательные прозвища некоторым официальным лицам из американских и британских войск, с которыми якобы частенько встречался, чтобы поболтать о том, о сем. Поначалу я думал, что ласкательные прозвища капитанов, майоров и даже генералов не более чем шутка, но Вальтоур сообщил мне с усмешкой, что то и дело видит Эйнара в компании таких людей, особенно в гостинице «Борг» или где-нибудь рядом. «Он давно уже держится гордо и независимо», – сказал Вальтоур. Но какую пользу Эйнар мог принести офицерам из армии Георга Шестого или президента Рузвельта – вот что я хотел бы знать!
– Держи карман шире! Неужели ты думаешь, что Боуни и Бёкки интересуются выборами здесь, на краю света?
– Еще как интересуются, – ответил Эйнар кратко и убедительно.
Через – несколько минут с улицы вошел Вальтоур и бодро приветствовал нас, словно этот день у него выдался особенно удачным.
– Братцы, – сказал он, – какого черта вы сидите такие серьезные? Вы что, только с похорон?
Эйнар сразу же завел разговор о результатах выборов.
– Смотри-ка, что у них вышло, – сказал он, тяжело вздохнув. – Уж не получили ли они деньги из России?
– По почте? С ангелами?
Эйнар не понял.
– Как могли русские доставить сюда деньги? – спросил Вальтоур, смеясь. – Разве именно сейчас рубли не требуются им для собственных нужд? Разве им не трудно пришлось сейчас на Крымском полуострове, разве они не вынуждены были отдать Севастополь? К тому же у наших собственных коммунистов было намного меньше автомашин, чем у других, для ведения пропаганды среди избирателей в день выборов, а? Какое у тебя впечатление?
Эйнар уставился на шефа как баран на новые ворота.
– Ты молод и немного романтик, – сказал Вальтоур, отечески похлопывая его по плечу. – История о русском золоте – пустая болтовня. По-моему, успех социалистов, или коммунистов, можно объяснить двумя причинами. Они пользуются, во-первых, тем, что все честные люди сочувствуют борьбе русских с проклятыми нацистами, а во-вторых, тем, что их сильнейшие противники ведут себя здесь, в Рейкьявике, как идиоты.
– Думаешь, немцы победят? – спросил Эйнар, помолчав.
– Если они победят, тебя без всяких разговоров отведут на холм Скоулавёрдюхольт и повесят за знакомство с офицерами, – сказал Вальтоур. – Но ты можешь спать спокойно – от них останется только пшик! Помяни мое слово, русские перейдут этой осенью в наступление и к зиме разобьют немцев. Я также предсказываю, что через несколько месяцев здесь снова будут выборы и коммунисты получат еще больше голосов. Если только наши болваны не образумятся, но в это я не верю. А мы пока будем заниматься своими делами!
Он ушел к себе, а мой коллега не стал закуривать новую сигарету и вставил лист бумаги в машинку.
– Шеф – дока, – сказал он вполголоса. – А ты как думаешь?
– Верно, – ответил я и, не удержавшись, добавил: – А разве Боуни и Бёкки – не доки?
– Еще какие, – сказал Эйнар.
Камилла Йоуханнсдоухтир, фру Камилла Й. Магнуссон, оказалась далеко не так прозорлива, как мой шеф, относительно развития политических событий в сорок втором году и, похоже, принимала это развитие ближе к сердцу, чем он. За несколько дней до осенних выборов в кратком интервью своей партийной газете она заявила, что эти смутьяны большевики должны потерпеть на выборах поражение. Но когда дошло до дела, в альтинг было избрано десять левых депутатов, а не шесть, как летом. Ее муж, правда, не сидел сложа руки, а месяцами почти круглые сутки проверял списки избирателей, готовил пропагандистов, отдавал приказы направо и налево, как настоящий командир. По окончании подсчета голосов его надолго сразил острый приступ подагры, во время которого он награждал главных руководителей той партии, которой столь усердно помогал, эпитетами намного похлеще, чем «болван» и «скотина». Вот почему фру Камилле приходилось туго в эту пору, когда по календарю близилась зима. Однако она утешалась тем, что ее пончики, о которых я уже говорил, шли нарасхват, и ее женщины из Йёкюдльфьёрдюра едва успевали месить тесто и жарить.
Вальтоур воспринял результаты осенних выборов совершенно спокойно.
– Я так и предвидел, – сказал он как ни в чем не бывало. – Иначе и быть не могло.
Далее он сказал, что предсказывает следующее развитие событий. Парламентские фракции не сумеют ни договориться о сформировании правительства, ни объявить безотлагательно третьи выборы. Так что, по всей видимости, вновь избранному главе государства придется руководить по рекомендациям людей, стоящих вне парламента. И он оказался прав, независимо от того, что явилось источником его прозорливости – собственный его ум или ум чужой, например Аурдни Аурднасона и подобных ему знатоков из акционерного общества «Утренняя заря», ведавшего изданием «Светоча». Оказалось также, что он довольно точно предсказал ход осенней кампании на фронтах, так как уже в это время стало ясно, что положение радикально меняется как на Восточном фронте, так и в Африке.
Но я не затем взялся в выходной день за перо, чтобы подробно воспроизвести события сорок второго года, а чтобы рассказать об одном январском вечере. Не знаю, почему он мне запомнился. Собственно говоря, ничего не произошло, по крайней мере ничего примечательного. Я просто кропал что-то в редакции, кажется переводил анекдоты из «10 000 шуток, тостов и историй», когда неожиданно явился шеф, с недавних пор избегавший работать поздно вечером в доме 32 по Эйстюрстрайти.
– Все вкалываешь, Паудль, – тепло сказал он, снимая пальто. – Ты такой работяга, что нам с Эйнаром просто стыдно.
Он прошел к себе, но дверь за собой не закрыл. Некоторое время он был чем-то занят – газетами, письмами или рукописями, – барабанил пальцами по столу и курил. Потом снова вышел ко мне и, не переставая курить, стал расхаживать по комнате.
– Происходят крупные события, – сказал он. – Скоро дело пойдет к окончанию войны.
– А может, до конца еще далеко, – сказал я.
Шеф покачал головой.
– Весной немцы капитулируют. Недавно они потеряли Эль-Аламейн, а скоро вообще будут изгнаны из Африки. До Суэцкого канала им не дойти. Англичане начинают завоевывать превосходство в воздухе. Американцы шлют военную технику в Европу. Но самое главное – сейчас под Сталинградом русские окружили и громят немецкие войска, которые потерпят там крупнейшее в мировой истории поражение. Я никогда не сомневался, что старикан раздавит проклятых нацистов.