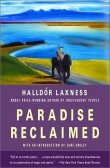Текст книги "Избранное"
Автор книги: Оулавюр Сигурдссон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 41 страниц)
Часть вторая
1
Многие одаренные авторы издавали ученые труды и романы об Исландии в годы войны. Вечерами, заканчивая читать очередную такую книгу, я иной раз откладываю ее в сторону и мысленно возвращаюсь к тем временам. Я вижу тысячи англичан и американцев, самолеты и боевые корабли, пушки и сражения, баррикады из мешков с песком, ряды колючей проволоки, палаточные лагеря, бараки, сторожевые вышки, радиоантенны, склады горючего, скреперы и бульдозеры. Передо мной встают яркие летние рассветы, мглистые и короткие зимние дни, когда в темные еще утренние часы молодежь и старики сотнями спешат на работу в войсках. Вижу я и других рабочих, которые роют траншеи для теплоцентрали, из конца в конец через всю столицу, воздвигают жилые дома, асфальтируют улицы, перевозят товары. Вижу, как меняются их манеры и одежда, как в городе возникают новые рестораны и кафе, как сверкают в витринах магазинов диковинные товары. Вижу, как тучи дыма грозят поглотить город, как из кранов уже бьет вода горячих источников. Вот под звуки волынок марширует взвод шотландцев в клетчатых юбках. Взвиваются языки пламени – это горят больница на Лёйгарнесе и гостиница «Исландия». Вот детишки стоят у колючей проволоки и глазеют на солдат, идущих в штыковую атаку на чучела. Вдруг в городе раздается вой сирен, гаснет свет, народ набивается в подвалы, убежища, а вдали слышен мощный грохот взрывов. Учения? Бомбежка? Женщины молят бога о помощи, но уже через час, когда канонада смолкает и вспыхивает свет, обсуждают прически. Вой сирен по-прежнему стоит в ушах. Никаких бомб на Рейкьявик не падало, но в мыслях я вижу немецкие самолеты со свастикой на хвостах. Вот мой шеф сообщает новость: англичане наложили запрет на издание социалистической газеты, арестовали вчера вечером трех сотрудников и выслали их из страны. А вот мальчишки кричат: «„Худ“ потоплен!», «„Бисмарк“ потоплен!» [114]114
«Худ» – английский линейный крейсер, потоплен между Исландией и Гренландией 24 мая 1941 года немецким линкором «Бисмарк». Из 1341 человека экипажа спаслись лишь трое. 27 мая 1941 г. преследуемый кораблями и авиацией англичан «Бисмарк» затонул западнее Бреста.
[Закрыть]Вот у английского лагеря останавливается такси, нарядные девушки на высоких каблуках семенят мимо часовых и исчезают в огромном бараке, где гремит музыка и висят разноцветные бумажные гирлянды. Вот… нет, уже не отличая чувств от фактов, я мысленно несусь по причудливой местности, как обычно, когда вспоминаю годы войны. По земле бродят привидения, небо закрыто денежными тучами, золотой щит месяца вышел из-за облака ассигнаций. Стеклянные коровы с отвисшими животами мечутся среди похожих на привидения скал, без умолку мыча: «Oh Johnny, oh Johnny, how you can love!» [115]115
«О Джонни, о Джонни, как ты умеешь любить!» (англ.).
[Закрыть]Блеск хмельных призраков, одетых в алый шелк и пурпур, – и разверзлись горы, где живут эльфы, тролли трубят в трубы, а семнадцатилетняя дева-эльф зачарованно слушает, нежная и стройная в холодном сиянии. «Mother, – поет она, – may I go out dancing?» [116]116
«Мама, можно мне на танцы?» (англ.).
[Закрыть]Женщина-эльф отвечает ей, дородная, солидная, в национальном исландском костюме: «Yes, my darling daughter!» [117]117
«Да, дорогая доченька!» (англ.).
[Закрыть]
Все эти годы я был настолько наивен, что так и не научился ни смотреть на мировую войну издалека, как на противоборство гигантов, ни коротать время в кафе, разглагольствуя о фронтах, словно о клетках на шахматной доске. За голосом диктора, читающего сводки радионовостей, мне слышались предсмертные хрипы моих собратьев. За газетными заголовками я видел изуродованные трупы женщин и детей. Когда же на экране появлялись кадры кинохроники, отснятые во время боев или воздушных налетов, сердце у меня разрывалось от боли. Нарвик, Дюнкерк, Лондон, полуостров Батаан, Гуадалканал, Эль-Аламейн, Ленинград, Смоленск, Ростов, Севастополь, Сталинград – по сей день я не могу без содрогания видеть эти и многие другие названия, всех не перечислишь. Порой я так жаждал душевного спокойствия, что решал не слушать новости, не смотреть кинохронику, притворяться, будто газет не существует. Но подобные обеты помогали мало, я не мог ни сбежать на дикие шхеры к морским птицам, ни стать отшельником в пустыне. И если ясными весенними днями мне удавалось поступить по примеру страуса, усыпить на время чувства, то после, когда я открывал глаза, мир казался мне бойней еще более кровавой, чем раньше.
Конечно, каждое слово, написанное в книгах ученых и писателей, справедливо, а именно: в те годы Исландия вступила в новую эпоху, многие стороны народного быта претерпели быстрые изменения или по крайней мере начали меняться. Новые времена и новые нравы шагали по горам и долам в сапогах-скороходах. Я постоянно слышал тяжелый гул этих событий, видел, как менялось живое и мертвое, но собственная моя жизнь никогда не была столь однообразна и неизменна, как в те годы, с сорок первого по сорок пятый. О работе в войсках я знал только понаслышке, не плавал на траулерах в опасные районы, не ездил учиться в Америку, как многие юные интеллигенты, не основал оптовую фирму, не занялся политикой, не женился, не издал книгу. Я окопался в «Светоче», переводил романы с продолжениями, читал рукописи и корректуру, а тем временем мои ровесники гибли на фронтах, за окном вскипал водоворот великих событий. Иногда я вздрагивал, словно от грубого окрика: «Сколько можно растрачивать драгоценнейшие минуты жизни? Так и будешь сиднем сидеть?» Стиснув зубы, я решал срочно найти какую-нибудь другую работу, но, как только доходило до дела, решимость улетучивалась – думаю, еще и оттого, что моему шефу вовсе не хотелось отпускать меня из журнала.
Загубленные годы?
Я смотрю на свои книги. Я много их приобрел в те годы, отличных книг исландских и зарубежных авторов, им отдавал свободное время, перечитывая снова и снова. Купил я и этот патефон – незадолго до окончания войны, взял его почти новым у приятеля Вальтоура и начал собирать пластинки, сейчас их уже сорок или пятьдесят. Летом, по выходным, я развлекался пешими походами по голой каменистой земле цвета мха, что растет на скалах, наслаждался видом, открывающимся в ясную погоду с Эсьи и Хейнгидля, криками полярных гагар в долине Тингведлир, чистыми восходами и дивными закатами. Конечно, я частенько брался за книги, слушал музыку или путешествовал по субботам для того, чтобы отвлечься от неотступных мыслей о моем уделе на окровавленной земле, о моей жизни и о жизни человеческой вообще. И все же факт остается фактом: внушая себе, что искать уже нечего, я именно тогда и нашел то многое, чем живу по сей день, без чего не могу обойтись. Думаю даже, я слышал скрип дверей и видел луч света во тьме, когда переставал идти вперед либо из малодушия откладывал жизнь до лучших времен.
Загубленные годы?
Еще несколько недель назад я бы ответил на этот вопрос утвердительно и добавил: болван, рохля, пустышка, трус! А сегодня вечером я говорю только, что пути господни неисповедимы. Мне, разумеется, так же ясно, как и раньше, что во многом я мог бы использовать это время лучше, но тогда я, наверное, не старался бы разобраться в тайных струнах моей души, не раскопал до конца историю моего отца, не стал тем счастливчиком, который женился на заблудшей овечке. Подул южный ветер, и в разгар лета солнечные дни сменились дождем. Я рассматриваю тяжелые капли на окне, слушаю тихий шорох дождя и уже не думаю о загубленных годах. В голове моей дождь и неисповедимые пути господни.
2
Тихий шорох теплого летнего дождя оживил в памяти порывы холодного ливня, нагрянувшего на голую кладбищенскую рощу воскресным днем в начале зимы, напомнил и о том, что уже смеркалось, когда я шел мимо этого места, и как я после жалел, что не сел на автобус, идущий прямиком на Аусвадлагата, Едва я закрыл дверь дома Бьярдни Магнуссона, как в прихожей появилась его жена, фру Камилла Йоуханнсдоухтир, по обыкновению энергичная и решительная. Аромат сигар ее мужа тотчас смешался с порцией промозглого воздуха, которую я впустил за собой.
– А, это вы, Паудль.
Я поздоровался, снял мокрую шляпу и стащил галоши.
– У вас гости, – сообщила фру Камилла.
Я не ждал никаких гостей и поэтому терялся в догадках, кто бы это мог быть, кому я понадобился в воскресный вечер.
– Пожилая дама, – продолжала она доверительным тоном, будто речь шла о чем-то важном, и внимательно, испытующе смотрела на меня. – Она непременно хотела дождаться вас, я звонила в журнал, но там никто не отвечал. Тогда я сказала ей, что японятия не имею, когда вывернетесь домой, и вообще, мы с мужем намерены пройтись, если погода разгуляется, а наши девочки собираются в гости к родственникам, но она все равноосталась.
– Кто бы это мог быть? – пробормотал я, вешая пальто и шляпу на специально отведенный мне крючок в прихожей. – Вы говорите, пожилая дама?
Фру Камилла перестала испытывать меня.
– Да… пожилая дама, – ответила она, делая вид, будто уходит к мужу, в свою комнату. – Она уже целый час, если не больше, сидит наверху. У вас было не заперто, и я проводила ее туда.
Эту пожилую даму, уже глубокую старуху, я не встречал с тех пор, как съехал с квартиры в доме № 19 по улице Сваубнисгата, поблагодарив за доброе ко мне отношение. В полумраке моего жилища старуха походила на темную тень. Она ссутулясь сидела на диване, сложив руки на коленях, и не двигалась. Будто дремала. Я зажег свет и поздоровался. Она вздрогнула, испуганно оглядела все разом: меня, стол, лампу и окно, словно не понимая, где находится, потом подала мне руку, но еще какое-то время не могла вымолвить ни слова. Руки у нее тряслись, да и все тело дрожало, выдавая болезнь, которая от волнений всякий раз обострялась.
– Ох, – вздыхала она, понемногу приходя в себя. – Ужас до чего стыдно этак вот врываться в чужой дом.
В дорогу она принарядилась, надела, как в большой праздник, поношенный национальный костюм, насквозь промокший под ливнем, может быть, и не под одним. В комнате было тепло, и черная шаль на ее плечах, с виду влажная, отливала коричневатой зеленью.
– Не думала, что сюда так далеко, – сказала она. – Притомилась.
– Не снять ли вам шаль? – предложил я.
– Пожалуй.
Разгладив, она свернула шаль, положила рядом с собой на диван и, явно стараясь унять дрожь, сцепила руки на коленях. Она совсем одряхлела – кожа увяла и даже как-то посерела, щеки ввалились, мышцы стали дряблыми и обвисли, рот кривился в еще более жалкой гримасе, шея стала тонкой, как ниточка. Я не помнил, чтобы ее руки были узловатыми, когда она накрывала для меня убогий кухонный стол в доме 19 по улице Сваубнисгата, делала бутерброды, наливала кофе, подвигала сахарницу и молочник.
– Никогда к нам и не заглянешь.
Я промямлил что-то невразумительное: дескать, занят, да и забывчив стал, а потом спросил, куда они сами перебрались весной. На улицу Лёйгавегюр?
– Ну да, а осенью съехали. Теперь живем в полуподвале на Бароунсстигюр. Там чуть получше.
– И всю дорогу шли пешком?
– Тащилась наудачу, – сказала она, потеплев. – Мне словно кто шепнул, когда мы расставались на Сваубнисгата, что нужно постараться разузнать номер твоего дома и хорошенько запомнить его. Но кто знал, вдруг ты тоже переехал? – Она посмотрела на мокрую шаль. – Тогда бы я пришла завтра утром в редакцию твоего журнала. Моя Мадда покупает мне его.
Голос старухи звучал немного смущенно, но уважительно, когда она назвала журнал моим.Еще весной сорокового года я с удивлением услыхал через стену, что в ее семье обо мне говорят как о Студиозусе из «Светоча» и приписывают мне лавры автора текстов для популярных песенок, в том числе и стишка про Маггу и Маунги, считавшегося в этом убогом доме достойным образцом поэзии. Ветер утих, струйки воды на оконном стекле поредели, а старуха все сидела, чуть раскачиваясь, молча глядя на свои ладони.
– Как здоровье? – спросил я.
– Ох… – вздохнула она. – Даже говорить не хочется.
Доктор по-прежнему прописывает ей разные дорогие лекарства. Мадда ее вышла замуж, поселилась в соседнем доме и помогает, когда одолевают недуги. А вот у Руны несчастье: на днях упала и сломала ногу, мать троих детей, лежит сейчас в постели в Сандгерди и не может добраться сюда, в Рейкьявик…
Она вновь умолкла. Дрожь и подергивание лица свидетельствовали о том, что у старухи тревожно бьется сердце.
– Так вот, из-за этого перелома Руна не сможет добраться до Рейкьявика и быть в среду на похоронах, – сказала она. – Все одно к одному.
Я вспомнил ее шестидесятипятилетнего старика, обветренного и кривоногого. Должно быть, этот ворчун навек простился с земными заботами и уже никогда не будет мести улицы, возиться с мусорными баками, требовать бережливости и еще раз бережливости, креститься по утрам, нюхать табак и сетовать на трудные времена.
– На чьих похоронах? – спросил я.
Старуха подняла глаза. Как, я не знаю? Не знаю, что ее Хьялли уже нет?
Хьялли? Вильхьяульмюр? Я долго перекладывал какую-то мелочь на столе – чернильницу, разрезной нож, карандаши, – прежде чем собрался с духом и спросил, отчего он умер.
– Разве ты не читал в газетах?
Я покачал головой.
Старуха, все еще борясь с дрожью, съежилась на диване и вздохнула.
– Да ведь это он… утонул в порту.
Я вспомнил маленькую заметку в один столбец, которую на днях прочел в газете и тут же забыл. Текст был примерно такой: вчера в конце дня в порту утонул молодой рабочий. Встречая своего знакомого с траулера, он упал в воду между судном и причалом, и достали его лишь через час. А еще там говорилось, вроде как для объяснения, что человек этот был не в себе, иными словами просто-напросто пьян.
– Мне ведь снилось… – Старуха вдруг перестала раскачиваться и полезла в карман юбки за платком, но не стала им пользоваться, а только скомкала в ладони. – Снилось, что мой Хьялли долго не проживет. Но… я думала, что уже так много потеряла в жизни и хоть он-то у меня останется. Ведь старшие девочки, Сольвейг и Гвюдлёйг, умерли от гриппа, такие способные… – Ее тень на стене опять поползла вниз. – В полуподвале мне никогда не снятся хорошие сны, – сказала она. – Детишки, бедные, остались без отца.
Я катал по столу карандаши.
– Детишки? Кроме того мальчика?
– В сентябре родилась дочка. Думали к рождеству крестить.
Когда я жил в каморке на Сваубнисгата, 19, то иногда по ночам, проклиная все и вся, натягивал на голову одеяло, но уснуть не мог, слыша за стеной разговоры молодых супругов, ссоры, жалобы, рыдания или поцелуи, вздохи и любовные ласки.
Жена Вильхьяульмюра была на редкость спокойная, тихая, и вдобавок ограниченная. Например, частенько, когда Вильхьяульмюр уходил на случайные заработки или просто болтался где-то с пьяницами, она запиралась в мансарде и держала сына подле себя, не пуская его даже к бабушке на кухню, хотя он клянчил и просился туда. «Нет-нет-нет, ни шагу туда, будешь при мне».
Старуха вспомнила бога:
– Бог располагает… Господь высоко, а видит далеко. Как знать, может, для моего Хьялли и лучше, что бог так рано призвал его.
В последнее время я не раз видел Вильхьяульмюра в районе Хабнарстрайти, причем чаще пьяным, нежели трезвым. Все в этом тощем человеке говорило о нескладной судьбе. Экономический бум и сверхурочная работа ему, как и многим другим вырвавшимся из-под железной пяты кризиса, пошли вовсе не на пользу и только приблизили трагический конец.
– Он был такой ласковый и внимательный, – продолжала старуха, – так добр и мягок ко мне.
На Сваубнисгата я ни разу не замечал, чтоб Вильхьяульмюр относился к матери с лаской и вниманием. Скорее наоборот: он вел себя довольно бесцеремонно, задиристо и требовательно, а то вдруг совершенно равнодушно. Не припомню, чтобы он хоть раз сказал ей доброе слово или вызвался помочь, например сбегал в ненастную погоду за покупками, ведь из-за болезни пожилая женщина не всегда могла сделать это сама.
Старуха, похоже, прочла мои мысли… Как бы там ни было, принялась возражать.
– Он был такой сдержанный, – говорила она с горечью, как бы споря со мной. Прямо как ее покойный отец.
Затем, пытаясь оправдать погибшего сына, она вернулась к доводам, которые я изо дня в день слышал на Сваубнисгата, 19. В том, что Хьялли начал пить, виноваты только кризис и безработица. Будь у него постоянная работа, лучше под крышей, где-нибудь на приличной фабрике, как у некоторых, он бы не запил. Видит бог, Хьялли по натуре не был гулякой. А как он переживал, что вынужден жить нахлебником, от случая к случаю платить за жилье и пропитание, не радуя своих близких, ничего не покупая в дом, не имея возможности устроиться хотя бы на траулер. Когда же работа наконец появилась, и не только в порту, вино уже успело схватить Хьялли мертвой хваткой и загубить все.
Старуха теребила платок.
– Что говорить, и с отцом он не ладил. Так уж всегда бывает, к чутким да мягким судьба жестока. Хьялли был очень раним, но редко находил у отца понимание и доверие. – Она, мол, никак не забудет, какое у него было выражение лица, когда он вошел в кухню со своими рисунками, разорвал их на куски и швырнул в мусор.
– Со своими рисунками? – переспросил я.
– Да-да, со своими собственными рисунками. – Казалось, старуха готова была всхлипнуть, но удержалась и продолжала: – Не многие знали, как любит Хьялли рисовать, какие замечательные, совсем настоящие картины у него получались, да что там, даже портреты. – Однажды в воскресенье он показал ей рисунок – крошечный домик с садом, и все это цветными карандашами. Она до сих пор помнит этот хорошенький домик, яркие цветы и дрозда на толстой ветке… Хьялли был в тот день как никогда в настроении и сказал, что построит такой дом, когда разбогатеет. Как трогательно, что бедному мальчику хотелось иметь собственный дом. И что же, кризису и безработице суждено было разрушить все надежды? Разве он не мечтал о счастье, только что женившись и ожидая ребенка? А отец, ох… ничего-то он не понимал, только бросался на мальчика да снимал стружку за то, что он не желает работать за гроши, фыркал на рисунки, называл их блажью и хвастовством, а самого Хьялли – бездельником и пьянчужкой. Разве можно так говорить с одаренным мальчиком… и беременной женщиной, что в мансарде, что на людях?.. Незадолго до ужина Хьялли влетел на кухню с рисунками в руках, изорвал их все на кусочки и молча ушел из дома в зимнюю темень и холод, без шапки. Вернулся он уже ночью, пьяный до бесчувствия. С тех пор он никогда больше не брался за карандаши.
Я молчал.
Старуха подняла на меня кроткие горестные глаза.
– Всё… Ссоры уже в прошлом.
Я опустил голову.
– Бог располагает…
Она некоторое время раскачивалась и тряслась, потом опять заговорила о своем Хьялли: каким добрым и способным мальчиком он был, как хорошо учился в школе, книги читал вечерами, а когда они купили прйемник, слушал музыку, тут же запоминал мелодии и подбирал их на губной гармошке. Еще она помнит, как он был рад, когда наловил рыбы на уху, принес домой то ли сайду, то ли камбалу, с причала поймал. Помнит, как ловко он продавал газеты. Зимой, в самые черные ночи ни свет ни заря вскакивал с постели, мерз на улице в плохонькой одежонке, дрожал, коченея от холода. Старуха спросила вполголоса, обращаясь как бы к самой себе, на что он тратил свои монетки – на кино или на сладости, как другие мальчишки. И сама себе ответила: нет, ее Хьялли собирал эйриры в коробочку и хранил до рождества, а потом покупал всем подарки, например сестре Руне – жемчужное ожерелье, Мадде – куклу, отцу – табакерку, а ей… ну да, ей он подарил туфли, они прямо-таки сияли, черные выходные туфли на серой подошве, легкие и мягкие.
Старуха замолчала и, не в силах больше сдерживаться, склонила голову и заплакала. Плакала она очень тихо, отворачиваясь, вытирая глаза платком и болезненно вздрагивая. Я вновь стал перебирать вещицы на столе и говорил какие-то слова, но моя гостья, казалось, не обращала на это никакого внимания. Мало-помалу она успокоилась, слезы прошли, как тихий зимний дождь в ночи, взгляд ее опять застыл на руках, и не надо было уже ни вытирать глаза, ни бороться с болезненными рыданиями.
– О-ох. Бог располагает…
Потом она сказала, что уж и не знает, как быть, ведь она с просьбой ко мне.
Я продолжал двигать по столу вещицы, а тень старухи на стене выросла.
– Ты ведь знал моего Хьялли. Вот мне и хочется, чтобы ты нес гроб на похоронах.
Я спросил, когда это будет, и она объяснила, что прощание в доме назначено, на среду в половине второго, рассказала о пасторе и новом кладбище, что близ бухты Фоссвогюр. Ей трудно примириться с тем, что Хьялли будет покоиться не рядом с сестрами Сольвейг и Гвюдлёйг в углу старого кладбища. К сожалению, там нет места, повторяла она. Нет, нет места. До Фоссвогюра трудно добираться, чтобы ухаживать за могилой, особенно весной.
Она помолчала с отсутствующим видом, глядя на черную шаль, усталая и скорбная, но скоро пришла в себя и, словно еще не закончив дела со мной, опять начала раскачиваться. А детишки Хьялли, детишки-то родные, бедный маленький мальчонка и сестричка его, крестить даже не успели… что они подумают об отце, когда вырастут и поумнеют? Ведь не секрет, многие отзываются о нем дурно и плетут все что не лень. Не многие помнят, как тяжко ему приходилось, каким он был ласковым, сдержанным и чувствительным. Мир, он всегда одинаковый, суровый да жестокий. Потому-то ей и пришло в голову попросить доброго человека написать о Хьялли и напечатать в большом журнале что-нибудь правдивое, тактичное и красивое, чтобы хоть как-то защититься от людской жестокости. Она даже подумала было о посвящении, о маленьком стихотворении памяти усопшего, которое детишки его – храни господь невинных младенцев! – могли бы потом не только прочитать, но выучить наизусть и носить в сердце.
Мне стало жарко, я сразу вспомнил Стейндоура Гвюдбрандссона, услышал его голос и хохот: «Ха-ха-ха! Поздравляю с эпитафией!»
– Он так любил тебя.
– Кто?
– Да Хьялли, уж так любил, так любил.
Старуха катала платок в ладонях и терпеливо ждала, когда я перестану двигать по столу карандаш и ластик, нарушу молчание, отвечу на ее невысказанную просьбу. Потом ее затрясло сильнее, плечи начали опускаться, а тень на стене поползла вниз… Глядя на свою шаль, она шептала, что, кроме меня, ей не к кому пойти, ведь я жил у них на Сваубнисгата, знал Хьялли и понимал его, угощал малыша пасхальными яичками и леденцами. Глядя на свою шаль, изношенную и промокшую, она шептала, что я поэт, и талантливый, ведь под псевдонимом я сочиняю стихи в журнал, Мадда его покупает, много стихов, веселых и серьезных. И если я выполню ее просьбу, сочиню и напечатаю красивое стихотворение в память о Хьялли, которое детишки – храни их господь! – сберегут на всю жизнь, то она постарается когда-нибудь отблагодарить меня…
Погода вдруг переменилась, ветер утих, воздух стал холоднее, за окном заплясали густые хлопья снега, они все сыпали с темного вечернего неба, искрились на свету, кружились в хороводе. Когда шепот старухи умолк, уже не имело никакого значения то, как Стейндоур Гвюдбрандссон произнесет: «Поздравляю с эпитафией!» Еще не ответив ей, я размышлял о жизни человеческой и смотрел на снежинки за окном – они будто служили заупокойную мессу и, опускаясь с небес, накрывали все белым саваном.
3
Кое-кто отправился в Америку.
Гвюдлёйгюр Гвюдмюндссон, или попросту Гулли, тот, кому не было равных в играх с дробинками и мышами у Рагнхейдюр, как-то остановил меня на улице и, болтая без умолку, выложил, что твердо намерен самостоятельно пробиться наверх, завести доходное дело, купить дом и машину. Все взвесив, он решил действовать осторожно, не бросать пока работу в лавке и не торопиться с женитьбой до тех пор, пока твердо не станет на ноги. А чтобы стать на ноги, он начал изо всех сил долбить в свободное время английский.
– …У чертовски дешевой училки, случайно на такую напал, – добавил Гулли, разболтав все, что мог, и простился со мной на языке Шекспира и лорда Байрона: – Гудбай, сэр!
Когда мы встретились снова, он, оглядываясь по сторонам, сообщил, что наладил связь с одним типом в войсках. Через него Гулли вызвался достать мне дешевые сигареты, консервированные фрукты, крепкое пиво и даже шотландское виски. Чуть позже на улице Эйстюрстрайти он уверял меня, что как раз сейчас связь с этим типом в войсках нарушилась, «dangerous business, you see» [118]118
Сам понимаешь, дело опасное (англ.).
[Закрыть]. Впрочем, он только что купил лицензию на торговлю, как на оптовую, так и на розничную, но все же пока рановато прощаться с нынешней работой, лучше поболтаться по городу с набитым портфелем, когда не стоишь за прилавком, перекусить на бегу да позволить себе в выходные нарушить третью заповедь [119]119
Библейская заповедь, запрещающая работать по субботам.
[Закрыть]. В портфеле же найдутся всем интересные вещички – маленькие подсвечники и гипсовые собачки, детские игрушки, рождественские открытки, елочные украшения, женщинам – колесики для разрезания раскатанного теста и заколки для волос, а мужчинам – лезвия, крем для бритья и еще товар, который помогает сдержать чрезмерный прирост населения.
– По дюжине в пакетике, высшего качества, английский довоенный товар, you see [120]120
Понимаешь (англ.).
[Закрыть], – бубнил он приглушенной скороговоркой, почти отеческим тоном и время от времени приговаривал, что товара этого скоро будет вообще не достать, ведь фабрика уже взлетела на воздух.
А однажды Гулли рассказал мне о своих делах с молодым пастором, только что посвященным в сан, холостым и застенчивым, который получил какой-то отдаленный приход:
– Я в два счета доказал ему, что следует запастись этим делом, не отстал, пока он не купил партию с пятипроцентной скидкой.
Потом я случайно натолкнулся на Гулли у витрины магазина, где он присматривал себе костюм. В будний день он был без портфеля, с виду непривычно спокоен и даже тих. У меня мелькнула мысль, уж не в немилости ли он у своего хозяина, сварливого старика, а может, чего доброго, влип в какую-нибудь историю поздно вечером или на праздники. Но все оказалось наоборот. Хозяин как раз сумел оценить стремление Гулли твердо стать на ноги, поощрял его и даже помогал, исподволь заводил разговор о более сложных видах коммерции, чем продажа гипсовых собачек, наконец, сулил ему золотые горы, если он отправился за океан, закупит товар и оформит бумаги – «накладные, you see». Так что Гулли собирается в Нью-Йорк и, как он сказал, наверное, возьмет с собой жену.
Пока он переводил дух, я успел вставить слово. Неужели он вступил в законный брак?
– Yes, sir. Safely married [121]121
Да, сэр. Благополучно женат (англ.).
[Закрыть].
По его словам, он два месяца обивал пороги американского консульства и наконец вчера получил визы.
– Ну как, недурно? – спросил он, хвастаясь визитной карточкой.
Гулли стоял передо мной с видом стопроцентного гражданина мира, словно ему никогда не доводилось жить на каше с ревенем, зеленоватой и густой, подававшейся с молоком, водянисто-жидкой, коричневой от гвоздики.
– Отпечатал пятьсот пятьдесят штук, – сообщил он и, спрятав карточку, угостил меня сигаретой. – You see.
Ему было совершенно ясно, что хозяин, торговец текстилем, отправлял его в Америку именно потому, что не осмеливался ехать сам, не хотел рисковать, ведь с немецкими подводными лодками шутки плохи. Гулли выпустил уголком рта струйку дыма. Разумеется, ему придется лично подобрать текстиль для старика и, как договорено, оформить бумаги. Но кто мог запретить ему прощупать почву для себя в других местах, наладить связи, достать что-нибудь? Ха-ха! Кто запретит ему в свободное время тихо работать на себя… а какой толк от всех этих Бадди и Вадди, которых в Америку послало правительство?
«Гвюдлёйгюр Гвюдмюндссон, – вновь пишу я на листе бумаги, – Wholesale, Retail». И все же не только коммерсанты, но и управляющие, промышленники, разного рода представители и уполномоченные, несмотря на торпеды немецких подлодок, двинулись за океан, даже девушки, едва вступившие в жизнь, вышедшие замуж или помолвленные с американскими солдатами, десятки студентов и других учащихся, более того, молодые одаренные поэты – мои ровесники.
Финнбойи Ингоульфссон. Когда он в первый раз принес Вальтоуру свои стихи? Постойте, да ведь это случилось, должно быть, весной 1941-го. Он пришел после обеда, так что я успел немного разгрести дела, а уж потом взялся за тот желтый конверт. Да, сразу после корректуры статьи шефа – жесткой, прямо-таки чеканной, где он разносил англичан за намерение запретить издание одной исландской газеты и выслать из страны трех ее сотрудников. Мне было известно, что месяц назад Вальтоур ездил к дяде своей жены Инги и показывал ему эту самую статью, планируя опубликовать ее в ближайшие дни. Но Аурдни Аурднасон – директор банка и депутат альтинга – твердо настаивал, чтобы шеф не ввязывался в большую игру и не печатал статью в журнале по вопросам культуры, далеком от политики. Мол, сейчас по крайней мере надо выждать, посмотреть, как будут развиваться события. Шеф подчинился с большой неохотой, некоторое время пребывал в дурном настроении, выжидал, а потом явился в типографию с разгромной статьей на англичан, без дополнительного согласования с дядей жены. Еще не закончив читать корректуру, я подумал, что эта резкая статья не совсем похожа на творения, обыкновенно выходящие из-под пера Вальтоура. Он меж тем молча расхаживал по редакции, потом сел на свободный стул Сокрона из Рейкьявика и замурлыкал какую-то мелодию.
– Много ошибок?
– Да попадаются.
Вальтоур подошел к моему столу, взял оттиск и задумчиво уставился на него, отбивая ногой ритм.
– А это что за мазня?
– Ничего особенного, просто здесь нужен винительный, а не дательный падеж.
– Понятно.
Втоптав в пол последние такты мелодии, он бросил оттиск на стол, заложил руки за спину и с еще более гордым и независимым видом зашагал по комнате.
– А в остальном? Ничего статья?
Я вовсе не думал дуться на него за то, что на днях он обозвал меня простофилей, а позавчера – болваном, и сказал ему все как есть: мол, даже если б я ничего не понимал в большой политике и непременно жёлал остаться нейтральным, то счел бы статью не только смелой, но удивительно благородной и мужественной. На мой взгляд, он никогда столь грамотно не писал по-исландски.
– Да, за нее не стыдно. Я был ослом, что мариновал ее, – сказал он. – Надо было сразу печатать. – Его тон вдруг стал дружелюбным и доверительным – Черт бы побрал этих болванов англичан. И зачем они только делают из коммунистов национальных героев!
Я вычитал корректуру и принялся точить карандаш, в душе радуясь возможности поболтать с шефом в непринужденной обстановке.
Вальтоур продолжал расхаживать по редакции.
– Не выразить протест против такого насилия – значит проявить малодушие и раболепие высшей марки, – заявил он. – Мы не позволим топтать нас как тряпку, мы – исландцы, черт подери! Но… как, по-твоему, поступили бы красные, если бы русские сейчас оккупировали страну, запретили выпуск «Светоча» и выслали нас в мешках к чертовой матери в Сибирь?