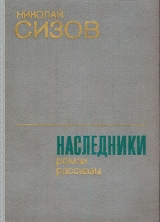
Текст книги "Наследники"
Автор книги: Николай Сизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
– Что ж, мысли правильные, хорошие мысли, – живо заметил Снегов.
– Подожди, Анатолий. Это не все. Далее Антонов говорит примерно вот что: а не приходится ли иногда нашим людям, особенно молодежи, проявлять героизм там, где при лучшей организации и более бережном отношении к человеку в нем не было бы безусловной необходимости? Не снижаем ли мы иногда цену героизму? Ну как? Ведь верно же, верно?
– Верно, да не совсем, – ответил Снегов. – С первой мыслью я согласен, вторая – сомнительна. Я уверен, что наши ребята, да и не только наши, а и в Братске, и в Целинограде, в Усть-Илиме, и на Иртыше ее на вооружение не возьмут. Я за другой подход к этим проблемам. Помните, у Безыменского:
…Опять отправиться в поход
И жить в землянке иль в палатке,
Свершая подвиг свой людской
В упорной, злой, веселой схватке
С горами, степью иль тайгой…
На эти слова откликнулся Зарубин:
– Так эти времена, Анатолий, давно прошли. Почему нужно обязательно жить в землянке или в палатке? А почему бы не считать героизмом толковую организацию дела? Если неорганизованность, бестолковщину без конца считать в порядке вещей, то некоторые незадачливые руководители вроде нашего товарища Казакова совсем, извините, перестанут мух ловить. Такой героизм им очень выгоден и удобен.
– Чего ты на палатки-то обрушиваешься? И сам и вся бригада переезжала в дома-то последней. И песни о палаточном городке все время горланите, – проворчал Снегов.
– Не упрощай, Анатолий. Были у нас палатки, жили мы в них, не жаловались. Дело не в том. Понимаешь, ты этот палаточный, бивачный подход к нашим делам хочешь возводить в принцип. Штурмуй – и ничего больше.
– Да, будем штурмовать, товарищ Зарубин. В такие сроки построить завод-гигант не шутка. А если у кого слаба гайка, выдохся порох в пороховницах, поможем этим товарищам, отпустим.
Зарубин махнул рукой:
– Не получается у нас с тобой разговора, Анатолий.
– Что верно, то верно, – согласился Снегов.
Снова подал голос Хомяков:
– Поскольку прения сторон пошли по второму кругу, я хочу кое-что дополнить. Я удивляюсь, почему по такому поводу здесь возникают споры. Сверхударная комсомольская… Этим, собственно, сказано все. Тлеть здесь нельзя. Не то место. Поэтому я полностью согласен с товарищем Снеговым.
Костя Зайкин с ехидцей заметил:
– Что-то героических дел за вашей бригадой пока не числится.
Хомяков ответил важно:
– Трудимся как положено.
– Это еще надо посмотреть, – не унимался Костя. – Мотаетесь по стройке. Подвезти да поднести. Здоровенные парни, а мелочишкой пробавляетесь.
– Работаем, где наиболее целесообразно, по мнению руководства. Вот так-то, товарищ Зайкин. – И, считая выпад Кости отраженным, Хомяков продолжал: – Но некоторые аспекты сегодняшнего спора меня обеспокоили и насторожили. Я хотел высказать эти мысли несколько раньше, но, к сожалению, это не удалось. Вы вдумайтесь, товарищи, за что ратуют Мишутин и те, кто его поддерживает. Молодежь хочет заниматься хула-хупом – нельзя. Танцевать твист или, допустим, рок-н-ролл – не положено. Если вы захотите прогуляться в Лебяжий лес, сразу вопрос: с кем? Что же получается? Хотят, чтобы мы ходили по струнке, думали и мыслили, как хочется товарищу Мишутину? Его, видите ли, беспокоит, что кто-то слушает «Голос Америки», смотрит фильмы Феллини, увлекается не теми песнями, которые пели когда-то до царя Гороха. Знаете, товарищ Снегов, я в сегодняшнем споре вижу нечто большее, чем просто вопрос о работе комитета. Я считаю, что это наступление на свободу личности. Но ведь нынче из этого ничего не выйдет. Кому какое дело, что я люблю и что не люблю, о чем думаю? Это дело мое, мое личное, и ничье больше. Я говорю, конечно, не только о себе, а в принципе. Надо работать? Мы работаем. Надо строить «Химмаш»? Мы строим. Строим героически и самоотверженно, как правильно подметил товарищ Снегов. Чего же еще от нас надо? В душу ко мне хочется забраться? Не выйдет. Чем живут и дышат товарищ Зайкин, товарищ Удальцов или Мишутин, меня, например, нисколько не интересует. Они сами по себе, я сам по себе.
– Но это же чистейший индивидуализм, – возмутился Зарубин.
Хомяков повернулся к нему.
– Индивидуализм? Допустим. Но чем он, собственно, вам не нравится? Догматики исказили это слово, и вы по старинке боитесь его. А ведь, в сущности, это не что иное, как свободное проявление личности. Что же в этом плохого?
– Насколько я понимаю, индивидуализм – это подчеркнутый эгоизм личности, забота только о себе, жизнь лишь для себя.
Удальцов добавил:
– Алексей Максимович Горький по этому поводу очень хорошо сказал: меньше возись с собой самим – вот принцип, следуя которому жизнь становится легче для человека. Смотри и думай больше об общем…
– Время, товарищ Удальцов, корректирует и не такие авторитеты.
– Что-то вы, Хомяков, не туда заворачиваете. Как же тогда коллектив, общество? Индивидуум, личность должна чувствовать свою ответственность перед ним?
– До известной степени. Если это не обедняет личность, не растворяет в общей массе, не ущемляет ее интересов и устремлений.
– А как же наш принцип: «Один за всех и все за одного»?
Хомяков махнул рукой:
– Сами же меня упрекали за лозунговщину…
В наступившей тишине раздался чей-то озадаченный голос:
– Да, на вражескую амбразуру такая личность не бросится.
Поднялся Зайкин и нервным, взволнованным голосом потребовал от Снегова, чтобы он дал ему слово для подробного ответа товарищу Хомякову по существу его политических заблуждений.
Снегов нахмурился:
– Не стоит, Костя, вы лучше потом, отдельно. Иначе мы до утра заседать будем.
Снегова поддержал Удальцов.
– Действительно, не надо. В голове у Валерия мешанины много, но сразу-то ее в порядок не приведешь, займемся этим в индивидуальном порядке.
– Просто Хомяков боится от моды отстать, – сердито проговорил Зарубин. – Вприпрыжку гонится за теми кликушами, что везде и по каждому поводу верещат: я личность, я индивидуум. Не то важно, что было и есть, а то, что я вижу, что и как воспринимаю. И бахвалятся, что они самые смелые, самые умные и самые современные. А послушаешь – не мысли, а мыслишки, да и то чужие. Про таких есть очень точная поговорка: много амбиции да шиш амуниции. На серьезное дело, если понадобится, с такими действительно не пойдешь, на их плечо в случае чего не обопрешься.
Хомяков, усмехнувшись, проговорил:
– Успокойтесь, Зарубин. Коль понадобится, в цепь за меня вам идти не придется.
– Ой ли! Как бы борода не помешала, – раздался опять голос Зайкина.
– Борода-то, может, и не помешает, а вот жизненные установки… – в раздумье заметил Зарубин.
Хомяков помедлил немного и проговорил:
– Я вам отвечу словами поэта:
Но если вдруг когда-нибудь
Нам уберечься не удастся,
Какое б новое сраженье
Ни покачнуло шар земной,
Я все равно паду на той,
На той, далекой, на гражданской!
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной!
Хорошо, с чувством были прочитаны эти стихи. Но почему-то спокойно восприняли их ребята. И никто не стал больше спорить с Хомяковым. Не было ни желания, ни смысла. Толкует, что кто-то там посягает на его личность, хочет лезть в его душу. А кому, собственно, нужна его душа? Мечется, никак не прибьется к делу, да все за оригинально, самостоятельно мыслящего прослыть хочет. И чего пыжится? Ведь как на ладони весь виден. Нет, не обрел Хомяков у комсомольского актива авторитета, не принимают его ребята всерьез. Валерий это чувствовал, но объяснял тем, что народ на «Химстрой» съехался молодой, зеленый, ему просто не «по зубам» вопросы, что он, Хомяков, подбрасывает.
Вместо спора с Валерием ребята заговорили опять о том, что их беспокоило: «Химстрой», сроки сдачи объектов и та тема, которую поднял Мишутин. Беспокоило их еще, что упорствует Снегов. Не хочет понять Анатолий: ведь не только Ефим Тимофеевич с Зарубиным так думают. Обо всем этом ребята говорили горячо, с болью, и чувствовалось, что мысли эти к ним пришли не сейчас только, они их тревожили давно.
Нервничал, беспокоился и Анатолий. Слушая членов комитета, комсоргов участков, бригадиров, он все больше мрачнел. Не понимают товарищи многого, не понимают. Нельзя сейчас даже на йоту ослаблять внимание к производственным делам. Пусть уж лучше нас ругают за то, что мало кружков, экскурсий, что ребята лишнюю рюмку выпьют и пошумят малость, чем за то, что провалим объекты стройки. Не в ту сторону гнут друзья-товарищи. Не в ту. Такие настроения могут основательно навредить, снизят, безусловно, снизят тот трудовой настрой, который сейчас чувствуется всюду.
Эту тревожную и пугающую его мысль Анатолий старался внушить всем, кто сидел сейчас перед ним. Говорил долго, горячо, твердо.
Ребята поняли: все будет по-прежнему – и замолчали. Вопросов больше никто не задавал, охота продолжать разговор пропала.
– Ну что ж, тогда будем считать спор законченным, – подытожил Снегов.
Раздалось несколько голосов:
– Да, на сегодня хватит…
– Наговорились вдоволь…
Но не услышал Анатолий того, что хотел услышать: поддержки, одобрения.
Расходились из комитета все какие-то озабоченные. Хотел уйти и Зарубин, но Снегов задержал его:
– Подожди немного, поговорить надо.
Когда все вышли, сказал:
– Зря ты затеял все это, сегодняшнее. Расхолодить людей легко, а мобилизовать…
Зарубин опустился на стул, хотел что-то ответить, но в это время в комнату вошел паренек. Был он из вечерней смены, в спецовке, пыльных рабочих ботинках. Правда, нетрудно было заметить, что, направляясь сюда, он их малость почистил, но без особого результата. Парень явно был не храброго десятка, не знал, куда деть красные, видно, только что вымытые холодной водой руки. Говорил несвязно.
– Я к вам по личному вопросу… Понимаете, нам с Катюшкой пожениться надо, решили мы это. А ничего не получается. Ходили, ходили, и все без толку. Ждите, говорят, и все тут. А сколько еще ждать-то, никто не говорит.
– Не пойму, о чем речь? – спросил Снегов.
– Ну, насчет комнаты.
– С комнатами для семейных трудновато.
– Да хоть бы самую маленькую.
– Ни маленьких, ни больших пока нет, ничего не поделаешь. Уж очень вы спешите, дорогие товарищи.
Парень, вздохнув, согласился:
– Оно конечно. Только Катюшка так хочет. Да и я прикидываю: тут ребят вон сколько, не поженишься – живо уведут.
Зарубин улыбнулся.
– Да, ребята у нас такие, за ними гляди в оба.
– Вот именно. Потому я и решил не откладывать, – обрадовался поддержке парень.
Но Снегову сегодня было не до этой докуки посетителя. Он сухо сказал:
– Пока подождать надо.
Паренек с надеждой спросил:
– А долго?
– Вот как вторую очередь поселка закончим – получите.
– Долгонько, но и на том спасибо. Объясню Катюше.
Выходя, он осторожно закрыл дверь.
– Хороший парень. Надо бы с ним помягче, – заметил Зарубин.
– Насчет помягче да поглаже – ты это брось. У нас их не один, а тысячи, всем комнаты не дашь. Лучше пусть знают истинную обстановку.
– Таких, как эта молодая пара, не так уж много. Может, договориться с Данилиным и один дом специально для молодоженов отвести? Пусть даже недостроенный. Они сами его вместе со строителями в два счета закончат.
– Вот-вот. Только дай знать об этом – завтра в заявлениях утонем. Насчет пеленок пусть наши профсоюзники думают.
– Знаешь, Анатолий, в чем твой главный недостаток? – спросил вдруг Зарубин.
Снегов вскинул на него суженные в злом ожидании глаза, откинулся на спинку стула.
– Ну, ну, в чем же?
– Ребят ты не любишь, отвык, сидя в кабинетах, возиться с ними.
– Тогда, может, и впрямь кому-нибудь другому это кресло уступить? Тому, кто помягче да полюбвеобильнее. Может, заявление накатать?
Зарубин пристально посмотрел на него и ответил угрюмо, с болью:
– Советовать не берусь, ты очень обидчив стал. Но скажу еще раз то, что говорил. Если и дальше так будем вести дела, ребята и заявления ждать не будут – выставят нас с тобой, и все.
Когда Зарубин ушел, Снегов долго сидел задумавшись. Чем больше он размышлял о сегодняшнем споре с ребятами, тем горше становилось ему, тем больше взвинчивал себя, разжигая в душе обиду. Он не мог согласиться с теми сомнениями, что высказывались сегодня активистами, не мог побороть внутреннее сопротивление их мыслям. Какой все-таки незрелый, неопытный народ, подытожил он свои раздумья. Приходится доказывать прописные истины.
Анатолия, конечно, нельзя было обвинить в безделье. Молодежные бригады, контрольные посты «комсомольского прожектора», штаб по связи с поставщиками и смежниками – все это организовал он, Снегов. Дни проходили в суете, заботах и хлопотах. Надо сходить в такую-то бригаду, подкрутить ребят – пожалуйста. Необходимо подобрать бригаду для ударной, срочной работы – в два счета. Прорыв с материалами – и здесь быстро и оперативно вмешается комсорг. И вечером, когда затихали телефонные звонки с участков, из отдела снабжения, со смежных заводов, когда уходили из комитета последние посетители, он усталый, но довольный уезжал домой. Когда же выбирался в Лебяжье, возвращался оттуда расстроенный и злой.
Беседы с ребятами у него не клеились. Вопросы, которые они поднимали, казались чудными, мелкими. Один спрашивал, когда к ним в Лебяжье приедет МХАТ, другой, оказывается, ждет не дождется советских олимпийцев, третий предлагает какой-то общепостроечный шахматно-шашечный турнир или с самым серьезным видом просит организовать встречу с бывшим священником из Ленинграда. Он, видите ли, здорово интересно говорит о боге и прочем.
«Неужели мне надо влезать во все это?» – с тоской думал Анатолий.
…Сбивчиво, горячась и волнуясь, рассказывал Снегов Быстрову о споре в комитете.
– Понимаете, Алексей Федорович, все рассуждают, все критикуют, изрекают то, что уже навязло в зубах. Чепуха какая-то. Конечно, делаем мы далеко не все, что нужно и что хотелось бы. Но отойти от хозяйственных дел, заняться только экскурсиями, вечеринками да танцульками, как предлагают некоторые, – это же абсурд!..
Быстров вздохнул, улыбнулся. Снегова это задело.
– Вы улыбаетесь, а я места себе найти не могу.
– Да ты не обижайся. Усмехнулся я потому, что когда-то мне самому мяли бока за такие же дела.
– Да, да. Мне в ЦК комсомола, посылая сюда, говорили, что у вас комсомольский опыт немалый. Расскажите, Алексей Федорович. Может, пригодится?
– Видишь ли, Анатолий, событиям, происшедшим со мной, предшествовал период, когда комсомол кабинетными мудрствованиями некоторых его руководителей вовсе был отключен от сферы хозяйственной деятельности. Традиции, которые были накоплены за годы первых пятилеток, в войну, в первые послевоенные годы, постепенно тускнели. А если комсомольские организации брались за какие-либо хозяйственные дела, иные лидеры местных масштабов видели в этом нездоровые тенденции и прорабатывали беспощадно. Ну, а разве можно заставить ребят не заниматься тем, в чем их жизнь? Попробуй докажи твоим питомцам, что объекты «Химстроя» их не касаются?
Поручили тогда нашему заводу освоить и спешно начать производство нового комбайна. Взяли мы над ним шефство. Каждый винт, каждую гайку, каждый агрегат – под контроль. И, как это часто бывает у комсомольцев, взявшись за одно, забыли про другое. А это другое у нашего горкома было разграфлено, разнесено по клеточкам, таблицам, по ведомостям. Сводки, цифры, доклады, отчеты – все это считалось у них первейшим, самым важным в работе. Ну, а так как нам было не до отчетов и докладных, все графы и клетки, отведенные заводу, пустовали. Ну и влетело мне по первое число. За игнорирование горкома, забвение задач по воспитанию молодежи и т. д. и т. п. – снять с работы раба божьего.
– Ну, а что же дальше?
– Дальше? Комсомольский актив оказался дальновиднее горкомовцев. Он прекрасно понимал, что предпринималось в стране. Партия приобщала комсомол к своим самым большим делам – поручала строить заводы, электростанции, магистрали, осваивать целину. Поэтому на конференции ошибка горкома была исправлена.
– Вот видите! У нас же…
Быстров остановил Анатолия:
– Подожди минутку. Выслушай до конца. Горкомовцы со мной тогда поступили, конечно, крутовато, нужды большой в этом не было. Но в какой-то мере они были и правы. Мы действительно подзапустили тогда дела, кроме комбайна, знать ничего не хотели. Обрати внимание на следующее. Вот комсомол шефствует над крупнейшими стройками. Делает он здесь много, очень много. Но самое ценное из его дел – это то, что он воспитывает людей. Лучшие наши строители, инженеры, техники, прорабы, мастера, самый квалифицированный народ – откуда они? С крупнейших, прославленных строек. А ведущие работники министерств, главков? Оттуда же. Это очень существенно, Анатолий. «Химстрой» должен взять на вооружение эти традиции. Мало построить завод, надо, чтобы стройка стала еще и жизненной школой для ребят, что пришли сюда. Да-да… Не удивляйся и не морщись. Мы часто говорим: надо воспитывать нового человека, сознательного строителя коммунистического общества. И не всегда вдумываемся в эти емкие слова. А ведь они имеют предельно конкретный и огромный практический смысл. Именно здесь должны ребята получить серьезную квалификацию, новые знания, закалить характер, обогатиться духовно. Решаем мы эти задачи? Нет, к сожалению. Вот почему обеспокоен Мишутин, волнуются ребята, тревожатся коммунисты. «Химстрой» не просто стройка, не только бетон, опалубка и даже не только главный корпус или литейка, а школа, школа жизни.
Снегов вздохнул.
– Ну вот и вы тоже не удержались, чтобы не прочесть мне лекцию, не разъяснить мои так называемые заблуждения. А я думал, что вы-то уж поймете меня. Что ж, видимо, не в свои сани сел Анатолий Снегов. Задачу комсорга ЦК на «Химстрое» я представлял себе несколько иначе.
Быстров, прищурясь, с улыбкой заметил:
– А что, для комсорга ЦК есть какие-то особые задачи? С людьми работать – вот наш с вами долг и обязанность.
– А я и работаю с ними. Но понимаете, в няньки я все-таки не гожусь. С соской к каждому бегать не могу. Из коротких штанишек начинающего комсомольского работника я уже вырос. Может, кто другой и бегал бы, а я не буду. И прежде всего потому, что считаю это нецелесообразным. Так что извините, но я не согласен с вами. Ребята ошибаются потому, что неопытны, а вы, видимо, потому, что на вас давит груз прошлых лет.
Снегов встал. Лицо его горело, он вытирал платком вспотевшие от волнения руки. Где-то в глубине души упрекал себя за то, что так резко говорил с Быстровым, но, почувствовав, что тот берет сторону ребят, не мог себя сдержать.
– Ну что ж, если я ошибся, то буду только рад этому, – спокойно ответил Быстров. И добавил, как давно обдуманное и решенное: – На днях мы с вами поедем в ЦК комсомола. Проясним наши споры. Да и помощи попросим. А то шефы что-то редкие гости на «Химстрое».
– Что ж, давайте съездим. Хотя мне все и так ясно.
Быстров сумрачно посмотрел на него:
– Завидую тебе, Анатолий. А вот у меня такой ясности, к сожалению, нет.
Глава XX. Под родными крышами
Как-то утром, к удивлению Натальи Федоровны, Алексей не встал, как обычно, рано. Было слышно, как Сергей возится в своей комнатушке с гантелями; вот и Старозаводская вся проснулась, кое-кто уже идет на работу, а старший все валяется в постели. Наталья Федоровна постучала в комнату:
– Ты что, Алеша, прохлаждаешься? Или захворал?
– Нет, нет, все в порядке. Просто хочу сегодня на завод сходить. Как там Серега? Встал, собирается?
– Встал. Красоту наводит. Пожури его, по полчаса у зеркала возится. Будто девка на выданье.
Когда Алексей вышел, Наталья Федоровна хлопотала в кухне. Он посмотрел на мать, и сердце у него горестно сжалось. Дома Алексей бывал редко и помалу и не замечал, как неумолимо старела мать. Когда-то полная, широкоплечая женщина стала худенькой и легкой, ситцевый халат висел на ней, будто с чужого плеча. Но больше всего его поразило лицо: худое, желтоватое, белые, аккуратно причесанные волосы резко оттеняли его болезненную худобу. Алексей подошел к матери, взял ее морщинистую, сухую руку и приложил к щеке.
– Мама, что с тобой? Ты больна? Выглядишь неважно…
– В такие годы, сынок, всегда что-нибудь болит.
– Может быть, врача прислать? Или, хочешь, я попрошу, чтобы тебя обследовали? В нашей поликлинике чудесные доктора.
– Да нет, сынок, не беспокойся, не такая уж я плохая. А сердце-то болит у меня ты знаешь отчего.
Алексей гладил ее руку, с мягкой улыбкой смотрел на родное морщинистое лицо.
– А ты выбрось из головы свои заботы. Придет время, все встанет на свое место.
Алексей прекрасно знал, о чем сокрушается мать. Она много раз ворчливо жаловалась ему, что ей тяжело вести хозяйство, обслуживать двух таких здоровенных мужиков, что давно уже пора Алексею решить с семьей. Об этом она напоминала при каждом удобном случае.
– И почему таких, как ты, на партийных должностях держат? Я бы непутевых да неустроенных на пушечный выстрел не допускала до людских дел. Человеку четвертый десяток пошел, а он все в холостых ходит!
– Исправлюсь, честное слово, исправлюсь, мама, я уже осознал.
– Все шутишь, а я всерьез. Старая я, Алешенька, очень даже старая, умру и внуков не понянчу.
– Ничего, Серега это упущение поправит.
– А ну тебя. Непутевый ты человек, Алексей. До седых волос скоро доживешь, а ума ни на грош. Он совсем еще юнец, а ты женить хочешь.
Кое-как успокоив Наталью Федоровну, Алексей пошел к Сереге. Тот стоял у стенного зеркала, тщательно круглой щеткой холил свои упрямые быстровские волосы. Расчесывал долго, старательно, методично. Слышалось даже легкое потрескивание. Потом парень взялся за лицо. Мазал какой-то мазью, втирал, снова мазал. Алексей терпеливо наблюдал за этой процедурой. Затем спросил:
– И сколько же времени уходит у тебя на это?
Сергей, сначала не заметивший брата, смутился.
– Гигиена – мать здоровья.
– Так то гигиена, а это, извини, пижонство.
– А ты что, хочешь, чтобы я не стригся и не мылся? Чтобы зарос, как битник?
– Все хорошо в меру. Времени твоего жалко.
– Ладно, брательник. Не будем обсуждать эту тему. Пойдем завтракать, а то Федоровна, поди, уже ворчит.
– Пойдем, пойдем. Потом на завод отправимся.
– Да? Какое-нибудь дело к нам у «Химстроя»?
– Особых дел у «Химстроя» к вам нет, а у меня есть. Хочу заглянуть в цехи, старых товарищей повидать.
– Правильно, давно пора, – одобрил Сергей.
…И вот они идут на завод. Снова, как когда-то, Наталья Федоровна смотрит из окна им вслед. Но только она теперь не может издалека узнать, кто из Быстровых старший. Да, подрос, основательно подрос Серега. Он шел не как когда-то, подпрыгивая и семеня, чтобы приноровиться к шагам Алексея. Шел неторопливо и степенно, взрослый, самостоятельный человек. И шаги его были такими же широкими, уверенными и твердыми, как у старшего Быстрова.
– Здоровенные вымахали, чертяки, – предельно довольная проговорила Наталья Федоровна, неохотно отходя от окна.
А между братьями шел неторопливый, еще дома начатый разговор. Сергей рассказывал:
– Изменилось многое. Литейку расширили, компрессорную новую построили. А бытовой корпус какой отгрохали! Обязательно зайди. Души, раздевалки, дорожки, цветы. Мы даже подумываем, не организовать ли на базе этих бытовок воскресный дом отдыха.
Как и прежде, на завод торопливо шли женщины, степенно вышагивали пожилые рабочие, с шутками, смехом, громко перекликаясь – молодежь. Многие узнавали Алексея, спрашивали, где работает, как живет. Приветливо здоровались и с Сергеем. «Видно, уважают парня, – обрадованно подумал Алексей. – Если бы числился не на важном счету, сразу бы заметно было».
Вот с ними поравнялась стайка девчат. Над одной из девушек подруги начали добродушно подсмеиваться:
– Наташка, а Наташка, может, подойдешь, представишься старшему-то? Или боишься не понравиться? Вдруг не одобрит Сережкин выбор?
Алексей посмотрел в их сторону. Девчонка, над которой подшучивали, была совсем юной. Темные вьющиеся волосы, большущие синие глаза, зардевшиеся щеки. Алексей посмотрел на брата. Лицо у того было непроницаемо спокойно. И только сдвинутые брови да проступившие на скулах красные пятна выдавали его смущение.
Алексей добродушно сказал:
– Ничего, курносая только очень.
Сергей, не глядя на старшего, глуховато ответил:
– Наташка-то? Серьезная особа.
Больше Алексей ни о чем не спрашивал.
Скоро они входили в проходную завода. Алексей с волнением достал свой старенький заводской пропуск. Старик вахтер по-военному молодцевато отдал честь:
– Можете проходить, товарищ Быстров.
– А я думал, не пустите, – пошутил Алексей.
– Это как же? Быстровых – и не пропустить?
Алексей благодарно пожал старику руку. Братья вошли на территорию завода. Сергей, посмотрев на часы, заторопился.
– Думаю, гид тебе не нужен?
– Спасибо, как-нибудь обойдусь.
– Когда приедешь?
– Дня через два-три. А ты, Серега, смотри будь повнимательнее с матерью. Плоха она у нас стала.
– Знаю, – ответил Сергей и, пожав руку брата, добавил: – Привет Тане.
Пришла очередь смутиться старшему. Он хотел что-то сказать, но Сергей был уже далеко. Вот остановился, помахал рукой. Лукавая, озорная улыбка тронула губы.
Не торопясь Алексей пошел по широкому шоссе, что полукольцом огибало цехи. Главный корпус, механический, термичка, сборка. Вдалеке здание автобазы, разгрузочная платформа. Вот здесь, около сборки, было место заводских митингов. И здесь же всегда вывешивался их комсомольский «Крокодил». Что тут сейчас? Алексей подошел ближе. Теперь здесь хозяйничал «комсомольский прожектор». Злые карикатуры, хлесткие подписи в стихах. Какому-то Курицыну доставалось за задержку поковок, начальника главной бухгалтерии прохватывали за бюрократизм при оплате счетов смежников. Завод работал над новой моделью машины, о которой вчера вечером подробно рассказывал Серега, и, судя по сатирическим окнам, сегодняшние комсомольцы дрались за нее не менее зубасто, чем когда-то товарищи Алексея воевали за комбайн.
Походив по территории, Алексей пошел в свой, инструментальный. Вот и широкие, задрапированные двойными парусиновыми полотнищами ворота. Лицо обдала волна теплого воздуха из калориферов. Зимой здесь приятно постоять минуту-две с мороза, ощутить горячее дыхание цеха. Алексей не спеша шел по пролету. Те же аккуратные ряды станков, тот же ровный, глухой шум. Казалось, что все здесь так же, как и в те годы. Но вскоре Алексей убедился, что это лишь первое, общее впечатление. Вместо старых громоздких агрегатов, на которых работал когда-то Алексей, стояли ровные линии компактных, выкрашенных в бело-серебристые тона автоматов и полуавтоматов. Старый торец на полу тоже заменили: был он свежий, желтоватого цвета, и от него шел еле уловимый запах леса.
Алексей думал пробыть на заводе два-три часа, но куда бы он ни приходил, везде его встречали шумно, с неподдельным интересом и доброжелательством и долго не отпускали. Расспрашивали, рассказывали о заводе, о себе, вспоминали общих знакомых. Наконец Быстров добрался до своего участка. Начальник, молодой стройный парень (что-то знакомое было и в его облике), потащил Алексея к себе в конторку, стал подробно рассказывать, как они справляются с планом, как трудно далось освоение новых универсальных станков с программным управлением. Алексей, приложив руки к груди, взмолился:
– Дорогой мой, извини, проверять вас не собираюсь. Я работал здесь раньше, вот и зашел.
Начальник участка удивленно посмотрел на него и чуть обиженно объяснил:
– Я знаю это, Алексей Федорович, очень хорошо знаю. Потому и рассказываю вам все подробно. А вы меня, видимо, не помните?
– А вы тогда где работали?
– В сборочном.
– Здесь-то давно?
– Да нет. Год с небольшим. Как институт закончил. Забыли вы меня, – с легкой обидой проговорил парень. – Я Галчинский. В институт-то с вашей помощью прорвался. Вы тогда звонили директору, доказывали, что четверка по русскому – случайное явление. Я и сейчас как вспомню, так краснею.
– Митяй Галчинский?
– Точно, – улыбнулся собеседник. И доверительно сообщил: – Когда подчиненных нет, бывшие комсомолята и сейчас так кличут.
Из комнатки Галчинского Быстров позвонил Луговому. Того на месте не оказалось, и Алексей решил зайти в комитет комсомола.
Вот и знакомый подъезд, лестница, ведущая на второй этаж, вот, наконец, и комната.
Алексей не ожидал, что с таким волнением будет входить сюда. На миг ему показалось, что и не было пробежавших лет, что он, Алексей Быстров, вернулся сейчас из цехов. Войдет, сядет за этот видавший виды стол. Придут ребята. Здесь устроится Пашка Орлов, здесь Лена, на этот стул плюхнется Яша Бутенко, а здесь будет восседать Вилька Печенкин. Начнется горячий спор, вечная перепалка Лены и Вильки, немногословные, но всегда меткие замечания Пашки, мечтательные изречения Бутенко. Алексей стоял в задумчивости. Он не сразу понял, что вопрос стриженного под машинку, одетого в красноармейскую гимнастерку парня, сидевшего за столом, обращен к нему.
– Вы ко мне, товарищ? – И извиняющимся тоном, с улыбкой добавил: – Если есть что, то прошу, а то, понимаете, в литейку собрался.
Алексей, почему-то немного робея, все еще не сумев унять волнения, ответил:
– Я вас не задержу, я на минутку. Когда-то работал здесь.
– На заводе?
– На заводе и здесь.
– В комитете?
– Да, и в комитете.
– Это, видимо, без меня. Я недавно из армии.
Алексей улыбнулся.
– Да, это было давненько, более семи лет назад.
– Ну, тогда, конечно, мы не знакомы. Да вы садитесь.
– Спасибо. Вы спешите, да и я тоже.
Оглядевшись еще раз, Алексей сказал:
– Чего-то тут не хватает, а чего – не пойму. О! Вспомнил! Диван вот здесь стоял. Большой такой, черный дерматиновый диван. Всегда у ребят возня происходила – кто скорее займет его. Уж больно удобно на нем сидеть было.
– Диван? Да-да, был. Но мы решили пожертвовать его завкому. В обмен, – и парень указал на выстроившиеся вдоль стены щеголеватые, новые стулья.
– Что ж, обмен не без выгоды, – рассмеялся Алексей и предложил: – Вы ведь в литейку собрались? Ну, а я в технический кабинет. Пойдемте вместе.
– Хорошо. Только, вы извините, я вашу фамилию не спросил.
– Быстров.
Парень схватился за голову.
– Быстров! Совсем я зарапортовался. Ведь столько о вас слышал. Надо бы ребят собрать.
Алексей успокоил его.
– Не стоит, Миша. Как-нибудь в другой раз.
Молодой человек, совсем обескураженный, сказал:
– А вы меня, оказывается, знаете?
– Секрет невелик. Братишка меня проинформировал, кто возглавляет комсомолию «Октября».
– Ну да, конечно. Что-то я плохо соображаю сегодня. Понимаете, голова кругом идет. Бригаду из горкома жду, на бюро нас слушают. А кроме того, никак еще к гражданке не привыкну.
Алексей понимающе улыбнулся и проговорил, отвечая своим мыслям:








