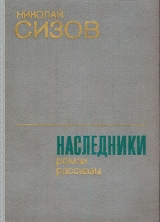
Текст книги "Наследники"
Автор книги: Николай Сизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Так продолжалось четыре или пять дней. Вернулась она похудевшая, с выплаканными усталыми глазами.
– Давай, Степа, мириться, не могу я так.
И хотя я сам был без памяти рад такому обороту дела, виду не подал. Говорю ей:
– При условии, если будешь себя вести как полагается.
Вздохнула она и говорит:
– Чудак ты. Люблю я тебя, дурака, несмотря ни на что, люблю. Потому и вернулась.
Опять все вроде вошло в нормальную колею. Но язва, что завелась во мне, осталась и исподволь точила и точила. Конечно, если бы здраво посмотреть на все это, с умом и спокойно разобраться, все бы, наверное, ушло, рассеялось. Только не получилось у меня так. Не верил я Вале, злобился все больше и больше.
Водку раньше не очень-то любил. Иногда выпьешь в гостях или с приятелями, и все. А теперь стал прибегать к этому зелью частенько. И не то чтобы оно доставляло мне удовольствие. Нет. Но на какое-то время забывалось все, притуплялась боль, недовольство… Валя увещевала меня, просила, грозила, но я уже, что называется, закусил удила. Виноватил во всем только ее. „Сама проштрафилась, – думал я, – хочет и меня очернить: дескать, и ты, мол, не без греха“.
Все знают, что там, где водка, там и многое другое. Друзья подбираются такие же, думаешь только о том, где выпить да с кем выпить. И если не хватает законного достатка, ищешь другие пути-дорожки. Всем известно и еще одно: дурную привычку заполучить легко, а изжить очень и очень трудно. Так получилось и со мной.
К выпивке я пристрастился основательно. Денег стало не хватать. Дружки это заметили и недели две или три ходили вокруг да около, посмеивались над моим безденежьем, а потом открыли свои карты… Сначала я воспротивился. Забоялся: чем это кончится? Но в угощениях в счет будущих получек они отказывали, а тоска по рюмке все точила, как тля какая-нибудь. И я не выдержал. Согласился на участие в предложенной приятелями „операции“.
Вывезли мы с завода два ящика дефицитной сантехники – краны там, смесители и прочее. Продали. Все прошло удачно, не попались. Потом, когда вырученный куш иссяк, „операцию“ повторили. И опять прошло. На третий раз попались.
В эту ночь я не пришел домой. Валя, конечно, всполошилась, побежала утром на завод. Там ей все объяснили. Когда она пришла ко мне в тюрьму, я ее не узнал. Постарела на несколько лет. Сердце у меня зашлось от боли. Ругал я тогда себя самыми последними словами. Дал ей слово, что возьмусь за ум, не дам никому утянуть себя на дно.
Статья гласила, что срок может быть что-то около трех лет. Но произошло иначе. Заводские взяли нас под свое крыло. Узнал я потом, что Валя и у директора была, и в парткоме, и в профкоме. На цеховое рабочее собрание поехала. В общем, осудили меня условно.
Беда эта образумила меня, да ненадолго. Как-то выхожу я с завода, вижу, ждет меня Игнат Шумахин – закоперщик наших „операций“ с сантехникой. Ему-то дали срок не условный, а настоящий. Но оказывается, он уже вышел.
– Потолкуем? – предложил Шумахин.
– А что такое? Что случилось?
– Да ничего особенного. Просто поговорить надо. Разве старым приятелям нечего обсудить? И потом, мог бы ты, Кривцов, и слово благодарности сказать Шумахину. Ведь я за всех вас отдувался, на суде-то все на себя взял.
Действительно, Шумахин не скрывал тогда, что он инициатор „операции“. Но это было известно суду и без его признания. Шумахин, однако, не раз напоминал нам о своей услуге в письмах из тюрьмы, напомнил мне о ней и сейчас.
Одним словом, отказаться от встречи я не смог, и мы пошли в какое-то кафе. Выпили. Вернувшись домой, я пытался оправдаться, потом вспылил, сам обрушился на Валю с упреками. Она отвечала тем же.
Назавтра, после работы, я уже сам пошел в какую-то забегаловку.
Объяснение дома было еще более шумным. Настоящая буря. Валя грозилась, что пойдет на завод, в дирекцию, в милицию.
– Так я жить не могу, не могу. Пойми ты. Ты и себя и меня губишь!
Это повторялось все чаще. Мы оба озлобились, неделями не могли друг другу слова сказать по-человечески. Надо было что-то делать. Конечно, разумнее всего было бы бросить пить, кончить якшаться с сомнительными приятелями. Эти мысли, однако, быстро уступали другим: „Ну, а что это будет за жизнь, если не сможешь с друзьями встретиться, чарку выпить? Нет, не пойдет, под каблук жене попадать я не намерен“. Вот так оправдывался я в собственных глазах.
Как-то во время очередной баталии я со злостью сказал ей:
– Так было, так будет. На поводке водить я себя не дам. А не нравится – можешь уходить. Или хочешь, я уйду?! Не жить нам вместе.
Она так и вскинулась:
– Дурак, набитый дурак. Я же люблю тебя, люблю! Как же я брошу тебя? Ведь ты гибнешь!
– Хороша любовь. Камень это на шее, а не любовь! – бросил я ей.
– Камень? Камень на шее? Тогда вот что, Степан. Не бросишь свою дурь, не возьмешься за ум, освобожу я тебя от этого камня…
Не очень-то обратил я внимание на эти ее слова. Потом только понял их… Да!.. Пришла беда – отворяй ворота.
Сижу я как-то один дома, и даже трезвый. Открывается дверь, и появляется Шумахин с целой авоськой бутылок и закусок. Весь какой-то взъерошенный, нервный. Надо сказать, что в последнее время мы встречались редко, потому что в его темных делах я больше не участвовал. Боялся, что Валя может вконец из себя выйти. Он предлагал, и не раз, но я проявил какую-то отчаянную решимость. Тогда он ответил в том смысле, что, мол, ладно, знаю твою ведьму, по рукам и ногам тебя связала, не дает, дескать, жить, как хочется. И отстал. Выпивать с ним выпивали, но к своим комбинациям привлекать меня перестал. Так и шло.
И вдруг заявился ко мне, да, видимо, неспроста. Спросил его, зачем пожаловал.
– Дело, – говорит, – неотложное, и только ты можешь помочь.
Когда выпили, подзахмелели, достал он из своей сумки коробку, завернутую в тряпку, и говорит:
– Подержи некоторое время у себя, спрячь понадежнее.
– А что это такое?
Он махнул рукой:
– Да небольшие мои сбережения.
– А что же у себя не спрячешь?
– Нельзя. Визитеров жду.
Я, конечно, понимал, какие сбережения у Шумахина. Не иначе какую-нибудь новую „операцию“ обтяпал. Сказал ему:
– Не могу, Игнат. Сам знаешь, ситуация у меня дома какая. Вот выпили мы с тобой – велик ли грех? А придет сейчас моя половина – истерики не миновать.
Он этак с прищуром поглядел на меня да и говорит:
– Да мужик ты или кто? Спрячь куда-нибудь, и все. Через несколько дней заберу. Или уж ты совсем ручным стал?
И пошел и пошел. Махнул я рукой:
– Черт с тобой, – говорю, – давай.
А на лестнице – шаги, Валентина возвращается. Взял я сверток, сунул в сервант.
Как я и думал, приход Шумахина у Вали восторга не вызвал. Шумахина она прогнала, а на меня даже смотреть не стала. Я сижу, молчу, в дремоту потянуло. Очнулся от крика:
– Что, что это такое? Чьи это деньги?
В руках у Валентины толстая пачка денег и раскрытая коробка, которую Игнат оставил. Видимо, стала она посуду прибирать и наткнулась на сверток. Стал я ей объяснять, что к чему. Слушать не хочет. Дрожит вся:
– Опять с этими подонками связался… Стыд-то, позор-то какой! Теперь уж засудят. Кто же за тебя что-нибудь доброе скажет? Жулик, вор, пьянчуга…
Потом поникла, замолчала. Не плакала. Слез уже, видно, не было… Говорит будто сама с собой:
– Ну что же мне делать?
А я спьяну-то возьми и брякни:
– Вон, – говорю, – окно открыто, бросайся.
Опять она замолчала. Потом глухо так, тихо говорит мне:
– Уйди, прошу тебя…
И, видя, что уходить я не собираюсь, начала вроде хлопотать по хозяйству, прибираться. Делала это будто через силу. На меня и не смотрит. Решил я выйти на часок, проветриться. И она, думаю, за это время успокоится.
Через час или около того возвращаюсь. В это время от нашего дома „Скорая помощь“ рванулась. У подъезда толпа. Крик, шум.
– Молодая ведь совсем.
– Видно, стекла протирала, да и оплошала.
Меня будто чем-то тяжелым по голове ударили. Понял я, что произошло что-то страшное, непоправимое… Кинулся в квартиру. Пуста, нет Вали. Только открыто окно… Бросился звонить в „Скорую“. Оттуда сообщили, что скончалась… По пути в больницу.
Похороны, следствие, обследование, допросы – все это я помню очень плохо. Слег я тогда, целый месяц валялся в полубреду. Врачи опасались за мою жизнь. И я жалею, что она не кончилась тогда, на больничной койке. Теперь-то я уяснил, что жизни без Вали для меня нет и быть не может. Не живу я, а существую, будто механически, по привычке. Думаю только о ней одной. Работа валится из рук. С участком в цехе управляться уже не смог, устроили меня учетчиком и здесь держат только по доброте.
Любила она меня. Да что тут говорить, и я тогда, раньше, был уверен, что не уйдет она, не бросит меня. Не такое у нее сердце. И потому дал себе волю. Куражился, понимал, что из-за своей любви ко мне она бессильна против моего хамства. Нет, не оплошала она, не упала из окна, а наложила на себя руки. И толкнул ее на этот шаг я, только я. И должен за это тягчайшее преступление нести полную ответственность в соответствии с нашими законами».
Кривцов замолчал. Долго молчал и Белов. Потом спросил:
– А почему вы не рассказали всего этого, когда велось следствие?
– Я ведь говорил вам, в каком был состоянии. А потом… Я просто забыл об одной очень существенной детали.
– О какой же?
– А об открытом окне. Ведь это я… подсказал ей. Не знаю почему, но вспомнилось мне об этом лишь недавно. А ведь случилось все именно так. Когда же я вспомнил этот факт, жить стало совсем невмоготу. И вот пришел к вам…
– Что пришли – это хорошо. Конечно, у вас есть все основания казнить себя. Но это у вас, а не у нас. И чтобы сказать вам что-либо определенное, я должен ознакомиться со следственным делом.
– Да-да, я понимаю. Только прошу иметь в виду, гражданин прокурор, что я не хочу никакого снисхождения. Я должен принять на себя то, что заслужил.
– Поступим, как велит закон. До свидания.
На следующий день Белов затребовал дело о случае на Зеленом бульваре и внимательно прочитал его.
Акт осмотра места происшествия, заключение медиков, производивших анатомическое исследование, показания свидетелей, очевидцев, соседей по дому, мужа погибшей – все свидетельствовало об одном: гибель Кривцовой – результат несчастного случая. Но перед Беловым лежало подробное объяснение Кривцова. Оно совсем иначе освещало всю эту историю. Но почему, собственно, иначе? Что оно вносит нового?
Белов еще и еще раз внимательно читает самые важные документы дела. Из них явствует, что на подоконнике были остатки стирального порошка «Лотос», которым хозяйки протирают окна. Синтетическая губка, судорожно зажатая в руке погибшей, тоже с остатками этого же порошка. Его следы и на правой раме окна. И еще немаловажная деталь – поперечные бороздки на подоконнике, оставленные, как было установлено, ногтями Кривцовой. Она в последний момент пыталась ухватиться за что-то. Значит, не бросилась из окна, а сорвалась. Другое дело, что ее душевное состояние было далеко не таким, чтобы делать работу, требующую предельной собранности. Вот к этому факту Кривцов, безусловно, причастен, но он, этот факт, все же не дает права обвинять его в убийстве.
Белов, прочитав дело, пришел к прежнему выводу: уголовного преступления в этом случае не было. И все же он послал дело на новое расследование.
Старший следователь прокуратуры, криминалисты, судебно-медицинские эксперты из Института судебной медицины проверили, сопоставили, изучили события на Зеленом бульваре во всех деталях, исследовали все доказательства, предположения. И вывод сделали тот же: состава преступления в случае с гибелью гражданки Кривцовой нет.
И вот Кривцов снова в кабинете Белова.
Он пришел с вещичками, поставил их на пол около кресла.
Белов не спеша уточнил некоторые детали, поинтересовался самочувствием Кривцова, делами на заводе.
– Да, все могло быть у вас иначе. Все! – Он сделал отметку на пропуске. – Можете быть свободны.
Кривцов недоумевающе посмотрел на него:
– Но как же? Я готов…
– Искупить свою вину в краях не столь отдаленных? Или даже смертию смерть поправ?
Кривцов глухо выдавил:
– Готов и к этому.
– Можете быть свободны.
Кривцов хотел сказать еще что-то, но, как видно, раздумал и медленно пошел к двери…
После того как Кривцов ушел, Белов долго думал о том, как невероятно сложна жизнь, какие трагические, запутанные ситуации возникают порой во взаимоотношениях людей. И как трудно, а иногда и невозможно уложить их в рамки каких-то правил, норм и законов. И как безрассудно порой люди бросаются тем, что у них есть самого дорогого…
Из задумчивости Белова вывел телефонный звонок. В трубке послышался голос старшего следователя, проводившего повторное расследование дела:
– Ну, как беседа с Кривцовым? Ничего нового он не сообщил? Согласны вы с нашим заключением?
– А что он может еще сообщить нам? Ищет наказания. Судить мы его не можем. Как не можем и освободить от сознания вины за гибель Кривцовой. От этой кары ему не освободиться. До конца своих дней.
Последний взлет
Прием посетителей растянулся надолго. Сняв очки и устало вздохнув, депутат Ракитин спросил секретаря:
– Ну, кажется, все? Тяжеловатый выдался денек, ничего не скажешь. И не упрекнешь никого: не по пустякам шли, причины у всех серьезные.
Секретарь как-то мялся, беспокойно поглядывая на дверь. Ракитин заметил и спросил:
– Ты что? Уж не по второму ли заходу хочешь начинать?
– Понимаете, Павел Степанович, там давно сидит пожилой гражданин. Просится к вам. Суть вопроса он изложить отказался. Дело, говорит, сугубо личное.
– Ну что ж, – вздохнул Ракитин. – Зови. Пусть входит.
Он представил, как сейчас войдет раздражительный старик и начнет многословно излагать бесконечную историю своей тяжбы с каким-нибудь столь же несговорчивым соседом.
В комнату вошел высокий, действительно пожилой, но статный, даже стройный человек с седой гривой аккуратно подстриженных волос, на нем ладно сидели серый костюм и голубая в белый горошек рубашка. Вместо галстука был подвязан легкий темно-синий шарф, как это принято у артистов или художников, Войдя, он пристально посмотрел на сидевшего за столом Ракитина и, покосившись на кресло, вежливо осведомился:
– Разрешите?
Ракитин, отрываясь от своих мыслей, поспешно предложил:
– Да-да. Извините. Пожалуйста, садитесь. Я слушаю вас.
– Моя фамилия Кудрявцев. Кудрявцев Владимир Михайлович. Художник. Дело у меня необычное, и я убедительно прошу вас выслушать меня и помочь.
– Выслушать готов, смогу ли помочь, скажу, когда узнаю суть дела.
– Да-да. Конечно. Боюсь только, что и узнав суть вы особой готовности не изъявите. Тем не менее намерен просить вас, настойчиво, убедительно просить помочь.
– Так в чем же просьба?
– Я прошу вас помочь зарегистрировать мой брак с гражданкой Воронцовой Людмилой Павловной.
Ракитин удивленно поднял глаза.
Кудрявцев, несмотря на свой аккуратный, даже элегантный вид, все же мало подходил на роль жениха.
– Это дело органов, осуществляющих регистрацию гражданских браков, – сухо ответил Ракитин. – Вы были там?
– Был. И сотрудница отказала из-за разницы в возрасте. Дело в том, что моя будущая супруга значительно моложе меня. – Помедлив немного, уточнил: – Мне за шестьдесят, ей тридцать. Точнее, чуть-чуть за тридцать.
Ракитин задумался. Он знал случаи подобных браков. Часто, увы, это были деловые союзы с точным расчетом на выгоду для одной из сторон – той, которая имела в запасе большее количество лет жизни.
Кудрявцев, казалось, догадывался, о чем думает депутат, и, прерывая затянувшуюся паузу, заговорил:
– Ход ваших мыслей сейчас, видимо, таков: молодая хищница, охотница за легкой, беззаботной жизнью, окрутила подвернувшуюся жертву, затуманила мозги старику и решила овладеть накопленными благами. Так ведь? Я не ошибся?
Ракитин усмехнулся:
– Пожалуй.
– Ну так вот, товарищ депутат, в данном случае вы ошиблись. Наш союз с Людмилой Павловной совсем иной, на нем не лежит и тени корысти. Более того, Людмила Павловна настойчиво противится формальному закреплению нашего союза. Но его настойчиво добиваюсь я. И добьюсь.
– А почему противится оформлению брака гражданка Воронцова?
– Видите ли, Людмила Павловна человек особый. Я бы сказал, редкостный человек. Мы, говорит, любим друг друга, и этого достаточно. Людям же понять нас трудно. И незачем затевать эти хлопоты. А я иного мнения. Раз наш союз основан на чистом, искреннем чувстве – а иначе ни я, ни Людмила Павловна и не помыслили бы о нем, – то почему он не может быть законно оформлен? Права гражданина у нас священны, в том числе и право на брак. – Кудрявцев, сказав это, взглянул на Ракитина, опасаясь, как бы его слова не были приняты с иронической снисходительностью. Но нет. Депутат слушал его внимательно и серьезно.
– Ну что ж, товарищ Кудрявцев, оставляйте ваше заявление. Вопрос, надо полагать, будет решен с учетом и ваших прав, и советских законов.
Недели через две после этой встречи Ракитин уехал со службы чуть раньше и, отпустив машину, решил пройтись пешком. Неожиданно вблизи своего дома он встретил Кудрявцева. Поздоровавшись, Ракитин спросил:
– Вечерний моцион совершаете?
– Да, прогуливаюсь.
– А почему же без спутницы?
– Уехала в Ростов к сестре. Приболела та немного, ну Люда и помчалась, чтобы помочь.
– Вызывали вас по поводу заявления?
– Да-да. Спасибо вам, от души благодарю.
Поговорив еще немного, Ракитин стал прощаться. Но у Кудрявцева вдруг возникла идея:
– А знаете, Павел Степанович, извините, что я так неофициально к вам. Зайдемте ко мне. Это совсем рядом. Посидим, чаю попьем. Захотите, музыкой угощу. Люда у меня стереофоническими записями увлекается. Время-то ведь еще детское. Всего восемь часов.
Ракитин был совсем не прост в отношениях с людьми, случайных знакомств не признавал, но прямодушие Кудрявцева, его искренность покоряли, и, к собственному удивлению, Ракитин согласился.
Кудрявцев жил в большом старом доме. Просторная квартира казалась образцом старого московского быта. В ней удивительно обжитыми, органичными и уютными выглядели массивная, потемневшая от времени мебель, громоздкие хрустальные люстры и все прочее убранство. И чай хозяин приготовил вкусный, музыку подобрал приятную. Беседу повел непринужденную и неторопливую. Но Павла Степановича все время занимала мысль, почему Кудрявцев не предложит посмотреть его работы? Он уже вспомнил, что имя художника не раз встречал в прессе, на афишах, но, кажется, давно. Поразмыслив немного, Ракитин спросил:
– Владимир Михайлович, у вас, художников, принято угощать гостей своими творениями. Я, правда, не знаток изобразительного искусства, так что квалифицированных суждений не выскажу, но посмотреть ваши работы хотел бы.
Кудрявцев нахмурился и, преодолевая неловкость, поспешно проговорил:
– Извините, Павел Степанович, но вынужден отказать вам в просьбе. Дал себе зарок.
Ракитин, смущенный таким оборотом дела, тоже стал извиняться.
Кудрявцев перебил его:
– Дело в том, что старые мои работы известны, а новых, заслуживающих внимания, пока нет. Но они будут, надеюсь, что будут. – Затем глухо, с нескрываемой внутренней болью добавил: – Так хочется создать что-то достойное, настоящее.
Скоро Павел Степанович засобирался уходить, однако Кудрявцев упросил его остаться. Он, видимо, все еще чувствовал себя виноватым, что отказал гостю в просьбе. Ракитин пытался его успокоить, но художника переполняла потребность высказаться, что называется, излить душу.
– Я должен вам рассказать все подробно. Иначе трудно будет понять, могут остаться недоумения.
И Ракитин услышал историю, полную радостей и огорчений, успехов и неудач, понял, что жизнь неожиданно столкнула его с человеком редкой и сложной судьбы.
Десять – пятнадцать лет назад Кудрявцев был уже известным, признанным художником. Его вещи неизменно занимали достойные места на выставках. Их отмечала пресса, хвалили критики, одобряли товарищи по профессии.
Для одних успех – это стимул к новым поискам, новым завоеваниям. Для других – утверждение собственной значимости. Но есть и третьи. Их не упрекнешь в самодовольстве. Однако успех расхолаживает их, вызывает легковесное отношение к своему творческому труду. Что-то подобное случилось и с Кудрявцевым. После шумного успеха на нескольких выставках он стал писать быстро, много, но небрежно. Эти работы по-прежнему экспонировались на выставках. Но раз от раза их замечали все меньше и меньше. И наконец, у художника просто не приняли большую и, как ему казалось, значительную картину, которую он готовил для юбилейной выставки. Кудрявцев возмутился. Выставкой собрался вторично, и снова ему вежливо, прямо и твердо сказали, что эта его работа даже не шаг назад, а просто непроработанный вариант, набросок, эскиз к картине. Это обидело Кудрявцева, оскорбило, и он замкнулся в своей мастерской на Садовой. Встречался лишь с немногими друзьями, да и то редко. Перестал бывать в союзе, не показывался, как прежде, на людях, под разными предлогами отклонял любые приглашения и встречи.
Именно в это время его постиг тяжкий удар. Скончалась жена Татьяна Ивановна – товарищ многих лет жизни. Несколько старых друзей старались отвлечь Владимира Михайловича от горя. Советовали переменить квартиру. Кудрявцев отказался. Он еще больше замкнулся, вел отшельнический образ жизни. Старуха домработница, что жила в доме не один десяток лет, кое-как следила за его немудреным хозяйством.
Так продолжалось несколько лет. За это время коллегам, товарищам, даже очень близким, Владимир Михайлович не показывал ни одной работы, даже малого рисунка, наброска, эскиза, и многие утвердились во мнении, что Кудрявцев полностью исчерпал себя и бросил кисть.
Первое время после провала с выставкой и особенно после смерти жены у художника действительно пропало всякое желание делать что-либо. Кисть буквально валилась из рук. И если усилием воли он заставлял себя встать к холсту, то, кроме немощных вялых линий, бесформенных мазков, ничего не получалось. Кудрявцев приходил в отчаяние и долго не возвращался к мольберту.
Как-то заглянули к нему двое приятелей, журили за бездеятельность, советовали кончать бесплодные переживания и писать. Только когда уходили из мастерской, один из них высказал нечто совершенно обратное. Я, мол, думаю так: что нечего зря холсты марать, тратить силы и краски, если угас талант. Эти слова, услышанные Кудрявцевым, ударили его по нервам, обозлили, вызвали неудержимое желание показать, что коллеги рановато списали его со счетов.
Он вернулся в мастерскую и сердито, с какой-то неистовостью занялся одним из неоконченных эскизов, писал его до ночи, а рано утром пришел сюда вновь. Так помчались день за днем, постепенно художник втягивался в ритм прежней трудовой жизни. Он стал уезжать в подмосковные окрестности, бродил, сгибаясь под тяжестью красок, картона, холста, выбирал натуру. Возвращаясь вечером в электричке, всю дорогу растирал озябшие до синевы пальцы.
Но не только пейзажи привлекали его внимание. Он часами просиживал на какой-нибудь станции, делал моментальные зарисовки встреченных людей, тщательно отбирал характерные лица.
Но длительный период творческой расслабленности давал себя, однако, знать, и Владимир Михайлович с отчаянием убеждался, что он в значительной степени утратил верность глаза и твердость руки. Он с унынием смотрел на все, что делал. Вроде уже ясно вырисовывался замысел, краски точно ложились на холст, оставались последние, решающие штрихи. Но художник снимал работу с мольберта, сворачивал в трубку и бросал за шкаф, а нередко просто уничтожал.
Кудрявцев всегда свободнее чувствовал себя в портретной живописи. Но и портреты, что он набрасывал теперь, и даже те, которые писал по нескольку сеансов, Владимиру Михайловичу не нравились.
Размышляя над своими неудачами, терзаясь от бессилия, Кудрявцев не раз думал, что, видимо, правы были те, кто утверждал, что как художник он кончился.
Может быть, так бы оно и случилось, если бы не поездка в один из осенних дней на этюды в Сосновку. Места эти были знакомы Владимиру Михайловичу давно, сюда они не раз наведывались с покойной женой.
Он устроился на опушке небольшой рощицы, долго разминал засохшие краски, размачивал кисти. Затем принялся писать. Хруст веток, детские голоса вызвали у него досаду: не дадут поработать. Женский голос за спиной негромко произнес:
– Извините нас, пожалуйста. Шли мимо, ребята, конечно, сразу вас заметили, заинтересовались. Но вы не беспокойтесь, мы сейчас же уйдем.
Кудрявцев взглянул на детишек, цеплявшихся за свою воспитательницу, и невольно улыбнулся. Так неподдельно заинтересованно и восторженно разглядывали они набросок. Владимир Михайлович поднял глаза на молодую женщину и долго с интересом и удивлением смотрел на нее. Затем медленно отложил кисть, обтер сероватой холстинкой руки и проговорил:
– Раз так, давайте знакомиться. Кудрявцев Владимир Михайлович.
– Людмила Павловна Воронцова. Учительствую в местной школе. Вон там. – Она показала рукой в сторону недалекой деревни. На самой окраине ее отчетливо выделялось двухэтажное здание под зеленой железной крышей.
– Значит, сеете разумное, доброе, вечное.
– Стараемся.
Владимир Михайлович понял, что сказал банальность, и вдруг почувствовал странную скованность.
Воронцова приветливо спросила:
– Места у нас красивые. Правда? Раньше приезжали многие.
– Да, я знаю. Мне нравится здесь.
– Ну так приезжайте чаще. Наши пейзажи достойны того, чтобы их увековечить.
– Постараюсь.
– Не будем вам мешать. Пошли, девочки.
Оставшись один, Владимир Михайлович задумался, удивляясь своей взволнованности. Перед глазами возникал образ: серые глаза, высокий лоб, просто причесанные волосы. И улыбка – добрая, сдержанная, даже робкая. Кудрявцев усмехнулся: «Старик, старик, что это с тобой? В твои-то годы на молодых засматриваться? Вот уж действительно глупым человек бывает дважды – в детстве и в старости». И он взялся за кисть.
Работа шла споро, с каким-то захватывающим азартом. Скоро Кудрявцев отошел от этюдника и, издалека взглянув на него, удовлетворенно заметил:
– А ведь ты еще что-то можешь, Кудрявцев.
Он пробыл здесь до позднего вечера и возвращался домой приятно уставший. Утром собрался вновь в Сосновку. На следующий день тоже. А потом спросил себя: «Выходит, видеть ее хочешь? Так? Конечно, так. Поздновато, старина, поздновато».
Однако в один из ближайших дней, основательно промерзнув, Владимир Михайлович решил воспользоваться приглашением учительницы и завернул в школу. Шел он не без сомнений и колебаний, но, как только увидел Воронцову, все сомнения бесследно исчезли. Людмила Павловна встретила его приветливо и радушно, предложила чаю.
Владимир Михайлович с удовольствием пил горячий чай, слушал нехитрые школьные новости. На вопрос собеседницы: «Как пишется?» – не таясь, ответил:
– Застой, Людмила Павловна, полный застой. Ни черта не получается. Устарел, видимо, иссяк, выдохся.
– Да что вы. Я видела, как вы работаете. Быстро, энергично. И с какой точностью схватываете самое яркое, самое главное в пейзаже.
– Спасибо вам за эти слова. Но мое призвание – это портрет. Когда-то что-то получалось. И сейчас гложет тоска по несовершенному. Ведь именно в образе человека можно предельно выразить свое понимание смысла жизни, постижение истины.
– Ну, тогда в чем же дело? Беритесь за портрет, раз это у вас хорошо получалось.
Кудрявцев усмехнулся:
– Вот если бы так настойчиво меня убеждали мои товарищи.
– А ведь, наверное, убеждали. А? Признайтесь, Владимир Михайлович.
Кудрявцев вздохнул и махнул рукой:
– С вами я не могу лукавить – внушали, ну, может, и не так искренне и убежденно, но внушали.
Людмила Павловна видела из окна, как Владимир Михайлович уходил. Шел легкой, твердой походкой, и во всей его высокой подтянутой фигуре, несмотря на годы, проявлялась какая-то молодцеватость.
Людмила Павловна долго еще рассматривала альбом репродукций, который оставил ей Кудрявцев, и перечитывала трогательную и бесхитростную надпись: «Людмиле Павловне. Огоньку в ночи».
После разрыва с мужем Людмиле Павловне не раз представлялся случай устроить свою личную жизнь. Но никто не смог затронуть ее сердца. Да и первая ошибка, разочарование сделали ее осторожной и сдержанной.
О Кудрявцеве она думала все чаще и скоро заметила, что ей очень нужны, необходимы их душевные беседы. Владимир Михайлович бывал во многих странах, хорошо знал шедевры крупнейших музеев и галерей мира, интересно о них рассказывал. Но Людмила Павловна отчетливо понимала, что не только это заставляет с нетерпением ждать приездов Кудрявцева. Ей становился дорог этот человек с глуховатым голосом, с неторопливой речью, ласковой улыбкой, чуть виноватыми глазами.
Кудрявцев же после нескольких встреч с Воронцовой переживал какое-то странное, удивительное состояние, временами похожее на сон. Образ Людмилы Павловны присутствовал в этом сне-яви, заполнял его жизнь. Он не раз порывался поехать в Сосновку и высказать Людмиле Павловне все. Только сомнения, мучительные и неотступные мысли о бессмысленности такой откровенности останавливали его. Увидеть ироническую улыбку, услышать мягкие, но все равно беспощадные слова о возрасте – нет, нужно избежать этого.
При всей невероятной сумятице в мыслях Владимир Михайлович, однако, работал. Да так, что поражался сам. Работал одержимо, без устали.
Он писал портрет женщины.
Еще грунтуя холст, он решил, что фон будет темным. А вот силуэт – рисунок долго уловить не мог. Он бесчисленное количество раз стирал тонкие линии, намеченные углем, начинал новые и новые варианты, искал лучший ракурс, пока не достиг свободной, непринужденной позы фигуры. Зато светлые, чистые краски уже ложились сами собой, переходили в тончайшие живописные оттенки, составляя особый, гармоничный колорит – желтовато-золотистую гамму, озаряя лицо искристым, лучезарным, как бы солнечным светом и придавая всему портрету жизнерадостное, мажорное звучание. Это был несомненно почерк мастера, но Кудрявцев оставался недовольным. Кудрявцев приходил в отчаяние, что не может передать простоту и благородство Людмилы Павловны, и наконец понял, что остается единственный выход.
Он поехал в Сосновку. Пристально вглядывался в лицо Людмилы Павловны, задумывался, отвечал невпопад. Людмила Павловна заметила его смятенное состояние.
– Вы, Владимир Михайлович, уж не типаж ли во мне рассматриваете?
Кудрявцев, словно уличенный в чем-то нехорошем, смутился и, вздохнув, признался:
– Догадливая вы. Мне не остается ничего другого, как открыться во всем. Не знаю, право, как вы отнесетесь к этому. Я хотел попросить вас попозировать мне, хотя бы два-три сеанса, в моей мастерской. Понимаете, сейчас успех или неудача моей работы зависит от вас. Но предупреждаю: позировать – труд тяжелый, эмоциональный и нервный.








