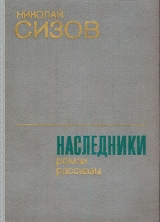
Текст книги "Наследники"
Автор книги: Николай Сизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
– Вот это я и хотел слышать. Раз плоховато, раз не выходит – надо решать. Я сегодня опять был в ЦК. Попросил освободить. Вы уж извините, что я… ну… не поставил вас в известность раньше. Но ведь мою точку зрения вы знаете.
Быстров, казалось, никак не реагировал на это сообщение. Он сел к столу напротив Анатолия и механически перелистывал какую-то брошюру.
– То, что ты был в ЦК, я знаю. Товарищи звонили.
– Тогда, значит, все в порядке. Все правильно. Раз я оказался таким плохим…
Быстров поднял взгляд на Снегова, укоризненно, с досадой сказал:
– Не надо кокетничать, Анатолий. Ты ведь вроде серьезный парень. Зачем это? – И, выдержав паузу, спросил: – Скажи, это у тебя твердое, продуманное решение? Или обиду переступить не можешь?
– Нет, нет. Какая же обида? На кого мне обижаться? Решил я это в здравом уме и твердой памяти, как говорится. Замену найдете. Свято место пусто не бывает.
– Замену, конечно, найдем, хотя тоже дело нелегкое. Незаменимых людей у нас нет. Только я о тебе думаю, Анатолий. Раскаиваться, жалеть ведь будешь.
Снегов прекрасно знал, что и жалеть будет, и раскаиваться, но, посмотрев на стены тесной комнаты комитета, на стол с дешевенькой, залитой чернилами скатертью, представил себе, что опять день и ночь надо мотаться по бригадам, участкам, общежитиям, опять выслушивать едкие замечания Мишутина и других, претензии, упреки…
– Нет, Алексей Федорович, я решил твердо.
Быстров встал, аккуратно поставил на место стул.
– Поедем по домам, время позднее.
– Но вы же не ответили на мой вопрос.
– Ну зачем же так спешить? Дело серьезное.
– Что, может, не отпустите?
– Может, и не отпустим. Ты ведь коммунист.
– Я прошу, Алексей Федорович. Настаиваю даже. Самым решительным образом.
– Ты все обдумал, дай и нам подумать хоть немного.
Мрачный, расстроенный ехал домой Снегов. Не получился разговор с парторгом, явно не получился. Вспомнились слова Быстрова: «Жалеть ведь будешь». – «Буду или нет, а уйду. Решил я правильно». Вспомнив вопрос Быстрова о Наде, Анатолий подумал: «Надо ей сегодня же все объяснить. Удивится, конечно. И не одобрит. Наверняка скажет с этакой своей иронической улыбкой: „Темнишь, старик, темнишь. Не по зубам коврижка-то“. И опять насчет аспирантуры петь начнет. Она ведь считает, что, даже работая в этом содоме, я могу заниматься…»
Быстров вернулся к себе тоже в плохом настроении. Не проходила досада, неудовлетворенность собой за то, что не сумел вовремя узнать этого парня, разобраться в нем.
Ведь его упрямое стремление витать больше в хозяйственной сфере – это боязнь потерять вес, влияние. Как же обойтись без возгласов: «Это комсомольские бригады сделали, это только комсомолу под силу…» Чудак. Будто только в этом смысл его работы. А о ребятах, о том, чтобы войти в душу и сердце к ним, не думает. В общем требования, что стали предъявляться комитету, набили парню оскомину, потянуло к более спокойной, кабинетной жизни.
Все это было так, но досада не уходила, и Быстров вновь мысленно твердил себе, что надо было давно поглубже узнать Анатолия, помочь ему, помочь. Хотя вряд ли он, Быстров, мог это сделать за несколько месяцев, что работали они вместе со Снеговым.
…С чувством гнетущей тяжести в сердце обходил Анатолий Снегов на следующий день стройку. Зашел на главный корпус, на литейку, кузнечно-прессовый. Скупо, натянуто улыбаясь, здоровался с ребятами. Пока никто ничего не знал, и именно потому он решил сегодня до заседания комитета пройти по площадке. Все кончено. Добивался он этого сам, и все же было до боли обидно, что все решилось именно так. Где-то в глубине души он надеялся, что ему скажут: нет, не отпустим, ты нужен, без тебя стройке не обойтись. Однако этого ему не сказали. Быстров, когда Анатолий зашел в партком узнать, как решили его вопрос, удрученно ответил:
– Советовались мы с членами парткома, созванивались с МК и ЦК комсомола. Никто не сторонник того, чтобы затевать ломку в комитете сейчас, когда стройка в разгаре. Но товарищи правы: на таком участке без желания работать трудно.
…Заседание комитета было недолгим. Быстров сдержанно объявил:
– Дело такое, ребята. Товарищ Снегов отзывается в распоряжение Центрального Комитета комсомола.
– С моего согласия, – глухо заметил Анатолий.
– Правильно. С согласия, – подтвердил Быстров. – А если еще точнее, по личной просьбе. Нам надо избрать секретаря комитета «Химстроя». Какие есть предложения?
Сразу несколько голосов выкрикнули:
– Зарубин…
Быстров, оглядев членов комитета, спросил:
– Другие предложения есть?
– Нет, нет. Зарубина.
– Не спешите, дело серьезное. Может, есть и другие кандидатуры?
– Зарубина, Зарубина.
Виктор поднялся:
– Алексей Федорович, дайте мне слово.
Быстров испытующе, с интересом посмотрел на Виктора.
– Слово просит Зарубин. Дадим, пожалуй?
Виктор хмуро и напряженно заговорил:
– Спасибо, конечно, за доверие. Но я скажу то, что уже говорил и товарищу Быстрову и везде. Не справлюсь я. Организация вон какая, а у меня почти никакого опыта. Если уж Анатолию было трудно, то мне и совсем не потянуть. Коль вопрос с ним решен, пусть нам пришлют кого-то из опытных комсомольских работников. На «Химстрой» можно не пожалеть.
– Ты же все время рвался на это кресло. Вот и садись, – с иронией бросил Снегов.
Виктор вспыхнул, сжав губы, посмотрел на него, но ответил спокойно:
– Опять за старое, Анатолий? Сам же знаешь, что говоришь ерунду. – И, вновь обратившись ко всем, закончил: – Считаю, что надо попросить прислать кого-то из работников ЦК или МК. Мне это не по плечу.
Удальцов пошутил:
– Устав не знаешь, Виктор. Надо же из членов комитета.
– ЦК может разрешить кооптацию.
– Может. Только не надо. Тебя изберем.
Раздалось несколько голосов:
– Правильно.
– Давайте голосовать. Не крути, Виктор.
Зарубин выступал еще несколько раз. Переубедить ребят ему, однако, не удалось.
Вечером, оформив приемку и передачу дел, Виктор вышел проводить Анатолия. Стоя у машины, перебрасывались незначительными фразами. Разговора не получалось. Наконец Виктор впрямую спросил о том, что мучило его весь день:
– Анатолий, неужели ты думаешь, что я… хотел твоего ухода?
Снегов пожал плечами, собрался было сказать что-то злое, резкое, но сдержался. В глубине души он не верил этому. Но и взять те слова обратно, сказать что-то теплое, дружеское у него не хватило сил. Обида и на Виктора и на Быстрова, на всех ребят, злость и досада на себя все еще горели в нем. Сухо, неприязненно он проговорил:
– Не будем об этом. Желаю тебе самых блистательных успехов. Бывай здоров.
Машина уже отошла, а Виктор все стоял у крыльца и смотрел ей вслед.
Его окликнул Быстров. Они с Данилиным куда-то уезжали.
– Ты что, Зарубин, тут дежуришь?
– Анатолия провожал.
– А, понятно. Обид у него – вагон. Бес самолюбия бушует. Ну, да ничего, переживет. Парень не глупый, и, если захочет, пользу для себя из этой истории извлечет. Так что не терзайся. И за дела, за дела берись, товарищ комсорг.
Не чувствовал Виктор вины перед Анатолием и все же мучительно переживал все, что произошло. Ведь терять товарища, терять дружбу иногда не менее больно и тяжко, чем терять любовь. А то, что их дружба погибла, было ясно обоим.
Глава XXII. По следам дельцов
Бесконечная цепь холмов, поросших елью, березой, дубком, окружала Каменск, волнистой широкой дугой уходила вдаль, теряясь где-то в районе Валдайских высот на севере и в Талдомских лесах на северо-востоке. Это шла Клинско-Дмитровская гряда.
Среди этих холмов, километрах в тридцати от Каменска, профсоюзные работники «Химстроя» облюбовали и застолбили обширный лесной участок, поставили на крутом взгорье небольшое сооружение из древесностружечных плит. Было решено, как только сойдет снег, развернуть строительство пионерского лагеря и базы отдыха.
Сейчас же здесь обосновались любители лыжных прогулок. Лучшего места нельзя было и желать. Среди просек вились многочисленные пологие и крутые спуски. Природа будто специально позаботилась о том, чтобы сделать удобную лыжню для ребят. Плотный гребень леса на вершинах холмов прикрывал лыжные тропы от северных ветров, снежный покров манил белизной и свежестью. Редко кто из ребят, хоть раз побывавших здесь, не стремился бы приехать сюда снова. А когда кончался день, собрать их, чтобы вовремя вернуться домой, было довольно трудным делом.
Сегодня запропастился куда-то Костя Зайкин. Все были уже в сборе. Кто отряхивался от снега, кто переобувался, кто наслаждался горячим чаем, который так аппетитно булькал в огромном чайнике на печке-времянке.
– Куда он все-таки делся? – с тревогой спросил Зарубин, ни к кому не обращаясь, но глядя на всех поочередно.
Кто-то беспечно ответил:
– Вы что, Зайкина не знаете? Забрался в какую-нибудь балочку, елозит мягким местом по снегу, а придет, будет рассказывать, как героически преодолевал спуски и буераки. Целый короб небылиц придумает.
Другой парень добродушно согласился:
– Что верно то верно. Сказок наслушаемся.
Прошло еще с полчаса. Сквозь украшенные морозными кружевами стекла было видно, как садилось солнце, закутываясь в белесую облачную кисею. Далекая кромка неба сначала алела от его последних лучей, потом стала серовато-оранжевой и наконец совсем блеклой. Шутки прекратились. Ребята выходили на улицу, кричали, аукали Косте, но никто не откликался.
Виктор подошел к окну, постоял с минуту. Быстро смеркалось. Кромка неба покрылась густыми синеватыми тенями и скоро слилась с темнеющей равниной.
Повернувшись к ребятам, Виктор сказал:
– Надо искать Зайкина, ждать больше нельзя. Давайте сделаем так. Двое пойдут по гребню на северо-запад, двое – на юг, к станции, трое спустятся на северный спад, и еще кто-нибудь по берегу реки километра два-три. Дальше он вряд ли ушел: лыжник-то далеко не первоклассный.
– Раззява он первоклассный. Заплутался в трех соснах, – с раздражением заметил парень, все еще ладивший у окна свои лыжи.
Это замечание никто не поддержал. Молча стали надевать мокрые, уже оттаявшие ботинки, развязывать предохранительные чехлы на лыжах.
В это время на крыльце послышались шаги, и в комнату ввалился Костя, потный, красный и заснеженный так, словно он обмял все попавшиеся на пути сугробы. Его встретили и сердитыми и обрадованными восклицаниями:
– Что с тобой стряслось?
– Куда запропастился?
– Где тебя носила нелегкая?
Костя молча отряхивался, будто не замечая устремленных на него насупленных, вопросительных взглядов. Затем сел на лавку и в изнеможении вытянул ноги.
Виктора возмутило его спокойствие.
– Ты можешь объяснить, что произошло?
– Обязательно объясню. Только отдышусь немного.
Однако слушать Костю уже никто не захотел. Важно было, что он цел, этот чертов парень, а где был, куда его занесло, какое это имеет сейчас значение? Да и время позднее, пора двигаться домой. Снова стали торопливо собираться: связывать лыжи, палки, прилаживать рюкзаки.
– Так будете слушать или нет? – спросил Костя.
– Очень нужно слушать твою брехню!
– Пусть Зарубин тебя выслушивает, ему положено, а нас уволь.
– Эх вы! А я-то вам хотел рассказать такое… Просто удивительная история…
Но ребята уже потянулись к выходу. Костя вздохнул и двинулся вслед, насупленный и несколько обескураженный таким оборотом дела. К станции шли молча. Давала себя знать усталость. Костя шел рядом с Зарубиным. Виктор ни о чем не спрашивал, а Костя не хотел начинать разговор первым. Однако долго сдерживаться он был не в силах и тронул Виктора за плечо.
– Виктор! А ведь я того… нарочно задержался-то.
– Что ж, скажи об этом ребятам. Банок тебе обязательно наставят, – не оборачиваясь, сердито бросил Виктор.
– Ты сначала разберись, в чем дело, а потом лайся. Причины были уважительные.
– Знаешь, Зайкин, лучше помолчи.
– Не буду. Ты же комсомольское начальство. А раз так, тебе должны быть особенно близки государственные интересы.
– Тоже мне блюститель интересов государства. Трепач ты, Костька.
– Я трепач? Ну ладно, Зарубин, запомню я тебе эту формулировочку. Комсорг из тебя, как из меня балетмейстер.
– Спасибо за оценку. Еще что?
– А ничего. Я кончил.
– Вот и хорошо.
Оба замолчали. «Но, черт побери, – думал Костя, – мне же обязательно надо рассказать ему обо всем. Иначе зачем я затевал всю эту историю?» Пройдя метров двести, Костя пробубнил:
– Ну так как, комсорг? Слушать будешь?
Зарубин вздохнул:
– Ох, и смола же ты! Ладно, давай звони.
– История, дорогой товарищ Зарубин, длинная и чрезвычайная. В прошлое воскресенье шел я, понимаешь, по левому спуску, вон там, – ткнул он рукой в сторону. – Иду, значит, наслаждаюсь природой. Очень это местечко мне понравилось. Спуск не очень крутой, сосенки молоденькие, пушистые такие, и дорога рядом.
– Зачем же тебе дорога? За машины цепляться, что ли? У таких лыжников, как ты, это самое любимое занятие.
– Ты угадал. Именно этим я и занимался. Но утверждаю – удовольствия никакого.
Зарубин взмолился:
– Костька, объясни, наконец, толком, о чем ты бормочешь? Ведь ничего же не понимаю!
– Ага, заело! Теперь уж терпи. Торопливость, как известно, не всегда нужна, товарищ Зарубин. И потому слушай да помалкивай. Так вот. Бегу это я по взгорью параллельно дороге и вижу – идут два грузовика. Грузовики как грузовики, ничего особенного. Но шоферы показались мне знакомыми. Пошел я по бровке за ними. У чайной, что на развилке, машины остановились. Решили водители подсогреться. А я тем временем заглянул в кузов задней машины. Он был полон бумажных мешков. И с чем, ты думаешь, эти мешки? С цементом, товарищ Зарубин.
– А я-то уж думал, с чем-то особенным. Что же такого, что цемент?
– Да, это вы тонко подметили, товарищ Зарубин. Только опять торопитесь. Понимаешь, показалось мне, что мешки эти наши, с «Химстроя». Посуди сам, откуда здесь цемент? Целина же подмосковная. На пятьдесят километров вокруг ни одной стройки.
Зарубин уже без прежней иронии спросил:
– И что же дальше?
– А? Вот то-то. Никогда не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Подожди, не так еще запоешь, когда все узнаешь. – И, насладившись местью, Костя продолжал: – Когда шоферы отъехали, я зашел в чайную. Потолковал малость с официанткой, миловидная, между прочим, цыпочка, и узнал, что мои знакомые в Межевое курс держат. Ну и я туда вслед за ними двинулся. Заметь, кстати, это десять, а то и пятнадцать километров.
Пришел-то я, конечно, к шапочному разбору, машины уже мне навстречу мчались. Но я все-таки добрался до цели. Выяснил, что из себя представляет это самое Межевое. Ничего, неплохое местечко. Река. Лес. И дачки. Хорошенькие такие особнячки-коттеджики. Прямо как из рекламного журнала. Дачно-строительный кооператив «Северянин» тут обстраивается. Услышал я краем уха, что в следующее воскресенье, то есть сегодня, опять машины с цементом прибудут. Ну и, как ты заметил, я с самого утра пропал, оторвался от вас.
– Но почему же ты думаешь, что цемент именно наш? Может, он с какой-то базы? В здешней округе не только «Химстрой» существует. Это тебе, браток, не Сибирь, а Подмосковье.
– Все может быть. И базы, конечно, есть, и магазины, сельпо и прочее. Но таких наглых жуликов, как эти, думаю, нигде нет. И это понятно, – философствовал Костя. – К большому кораблю, как известно, присасываются разные там ракушки, моллюски и всякие другие аналогичные паразиты.
– Но все-таки – почему ты уверен, что цемент с нашей стройки?
– Такая упаковка только у новороссийских цементников. Я-то уж это точно знаю. И потом машины. Хотя они и не с нашей базы, а из Каменска, из горавтотреста, но работают у нас. Конечно, можно допустить, что они могли быть выделены кооператорам, чтобы цемент подвезти.
– Правильно. Поэтому твоя уверенность, что цемент именно наш, пока не очень понятна.
– Да, удивительно умный человек у нас Виктор Зарубин. Сенека, да и только.
– Ладно, ладно. Продолжай, – беззлобно прервал его Виктор.
– А дальше самое главное. И заключается оно в том, что цемент действительно с нашей стройки. Мы, понимаешь, ночи не спим, по городам и заводам мотаемся, чтобы был на участках этот самый цемент, а разные мазурики хапают его, и хоть бы что.
Костю особенно возмущало именно это. Он хорошо помнил, как новороссийские ребята по ночам и в выходные дни работали на карьерах, стояли у печей, чтобы дать цемент «Химстрою».
За разговором незаметно добрались до станции. Ребята с шумом устраивались на лавках, расставляли лыжи, кто-то радостно сообщил, что в буфете есть горячие сосиски и московское пиво.
Зарубин, усевшись с Костей на диван в конце зала, тормошил его:
– Давай, Шерлок Холмс, продолжай свои сказки.
– Зачем сказками заниматься? У нас факты есть. – И Костя снял варежки. – Видишь? – прищурясь, спросил он.
Руки Кости были почти сплошь покрыты буро-фиолетовыми пятнами. Когда на них попадал луч света, они отливали бронзово-золотистыми тонами.
– Что это такое? – удивился Виктор.
– А это такой порошочек. Приманка для жулья.
– Черт тебя знает, как ты умеешь душу тянуть!
– А ты не перебивай разными безответственными репликами. Так вот, был я недавно в нашей лаборатории…
– Ты частенько туда заглядываешь. Не иначе, кто-то из лаборанток тебя притягивает.
– Ну, это ты брось, товарищ Зарубин. Я же тебе серьезные вещи рассказываю. Так вот, увидел я, как они, эти лаборантки, опыты с цветным бетоном производят. Задание у них: проверить, как цветной бетон будет вести себя в условиях химического предприятия. И все с пятнами на руках от этих опытов ходят. Говорят, неделю, а то и две никак отмыть не могут. Как увидел я это явление, пришла мне в голову гениальная мысль. Попросил у девчат пару пакетов этого снадобья и пошел на центральный склад, где лежит затаренный цемент. Оказалось, однако, что его уже нет там, на складе-то. Выяснил: на Тимковский завод отправили. Подался я туда. В бригаде-то сказал, что в больницу еду, а сам в Тимково. В складе-пристройке лежат аккуратно сложенные штабеля. То ли готовые к отправке, то ли в бункера пойдут. Обсыпал я их порошочком, что девчата дали, и домой. Когда приехал, руки стал мыть, да черта с два – до сих пор не отмываются. Сколько теперь таким меченым ходить буду, не знаю. Зато и молодчики тоже разукрасились.
– Выходит, клюнули на твою приманку?
– Еще как! Попались, как карась на наживку. Сегодня, когда оторвался я от вас, поехал в Межевое. По времени чувствовал, скоро должны появиться голубчики. И верно, почти у самого поселка обогнали меня. Когда же я добрался до сараев, они уже разгружались. И мешки, вижу, мои, точно мои. Но сомнение все же брало. А вдруг действительно откуда-нибудь из сельской торговой сети? Но вот кто-то чертыхаться стал. От снега начал действовать мой химикат, и руки у тех, кто к мешкам прикасался, стали довольно-таки красивого цвета. Матерятся ворюги. Какая-то дрянь, дескать, на мешки попала. Один другого успокаивает: ничего, говорит, сгрузим и вымоемся. Как же, думаю, недельку-другую походите с каиновой печатью, прохвосты этакие. Вот, собственно, и вся история.
Рассказ Кости всерьез обеспокоил Зарубина. Сотни людей трудятся, не жалея ни сил, ни времени, а кто-то в это время обделывает свои темные делишки, пользуется тем, что у всех полно разных забот.
– Что же делать? – задумчиво проговорил Виктор.
– Я уверен, что действует какая-то группа. Подумай сам. Только на моих глазах вывезено шесть грузовиков цемента. Это тонн пятнадцать – двадцать, не меньше. Ведь кто-то его оформляет, списывает и прочее… А может, они уже давно снабжают нашими материалами всяких там кооператоров?
…В понедельник, как только Быстров появился в парткоме, к нему пришел Зарубин. Его рассказ о вчерашних наблюдениях Кости Зайкина не на шутку растревожил парторга.
– Пойдем-ка к Данилину.
– Слишком все это удивительно и невероятно, – хмурясь, сказал Данилин, выслушав Зарубина.
– Как бы удивительно и невероятно ни было, а в прокуратуру или ОБХСС сообщить надо. Пусть займутся, – предложил Быстров.
Данилин поморщился.
– Ну зачем же так сразу? Сначала надо самим разобраться. А то начнутся проверки, комиссии, ревизии… Людей взбаламутим, а если ничего такого нет? Эти дела у Казакова и Богдашкина в руках. Оснований не верить им у нас нет. Надо узнать, что за цемент, почему его забросили в Межевое. Мы ведь всех обобрали, когда у нас было туго с материалами. Может, снабженцы с долгами рассчитываются? Нет, давайте сначала разберемся сами.
Быстров вспомнил недавний партком по Лебяжьему. Тогда ни Казаков, ни Богдашкин так и не смогли вразумительно объяснить, почему гнали цемент в Тимково. Может быть, потому и гнали? Но эта мысль показалась ему слишком невероятной. Он не решился высказать ее даже Данилину.
Видя его упорное нежелание выносить вопрос за пределы стройки, Быстров настаивать не стал. Уходя, проговорил:
– Хорошо, Владислав Николаевич, может, вы и правы, но разберитесь во всем этом как следует и скажите, что удастся узнать.
– Скажу обязательно, – суховато пообещал Данилин.
После ухода Быстрова он задумался: «Прав ли был, когда так решительно вступился за своих материальщиков? Казаков. Ведь, в сущности, знаю-то я его не очень близко. Да, но сказать, что совсем не знаю, тоже нельзя. В конце концов знакомы, наверное, лет пятнадцать, а то и больше. Всегда он слыл деловым работником, с хваткой, твердым характером. Пошли как-то в строительных кругах слухи, будто что-то неладное всплыло на Новомосковском комбинате, но к заместителю начальника стройки никаких претензий предъявлено не было, а вскоре он даже был награжден. Богдашкин тоже известен везде и всем. Зачем же тень на людей наводить?»
Да и вообще Владислав Николаевич не мог себе представить, что люди его круга – руководящее ядро строек – могли пойти на что-то неблаговидное. Он даже мысли такой допустить не мог, она оскорбляла его профессиональную гордость.
Владислав Николаевич хорошо знал людей строек. Грубоватые манеры и нравы? Да, есть такое. Найти «козла отпущения», «виновника» своих же просчетов, поплакаться всем и вся на трудности? Это они могут. Убедить хоть десяток комиссий и сдать объект, до окончания которого еще далеко, – тоже случается. Ну и выпить любит строитель, получку, премию или награду отметить. Все это так. Но чтобы кто-то из тех людей, которых знал Данилин, с которыми работал не на одной, а на многих стройках, мог пойти на что-то темное? Этого быть не может. «Нет, товарищ Быстров, торопиться не будем. Разберемся. Конечно, ты не строитель, для тебя наша братия временная, но мне-то она дорога, очень дорога. И если я за нее не заступлюсь, то кто же заступится?»
Такой итог подвел Владислав Николаевич. Правда, он не мог бы сказать, что у него все спокойно на сердце, но Данилин старался отогнать от себя эти тревожные мысли.
Глава XXIII. Неожиданное открытие
Разговор из комнаты отца доносился сначала глухо, не очень явственно, но затем стал все более и более громким; в голосе Петра Сергеевича послышались нотки раздражения и гнева. Таня встала из-за стола, чтобы прикрыть дверь, но возбужденные выкрики спорящих насторожили ее.
Таня не придала особого значения приходу сегодняшних гостей. Это было обычным: почти каждый вечер они бывали у отца. Правда, один из них пришел впервые. Это был крупный рыжеволосый мужчина лет сорока пяти, стриженный под бобрик, с круглыми, навыкате глазами. Держался уверенно, говорил басовито, часто и глухо кашлял.
– Шмель, – коротко представился он Тане, цепким взглядом окинув ее с головы до ног.
Наскоро собрав гостям холодные закуски, она вернулась к себе. Сейчас, услышав усилившийся спор мужчин, хотела войти к ним в комнату, но грубое, бранное слово, выкрикнутое там, остановило ее у самой двери. Из комнаты слышался голос отца:
– Нет, ты просто болван, идиот! Так попасться, так влипнуть!
В ответ послышался басистый, сипловатый голос рыжего:
– А откуда я мог знать, что там легавые поработали? Это вы должны знать, что под самым носом делается.
– С дураком свяжешься – сам поглупеешь, – опять зло и нервно проговорил Казаков.
И снова грубоватый и спокойно-назидательный голос:
– Не ту пластинку завел, Петр Сергеевич, не ту. Ругаться я могу и похлеще. Сейчас надо думать, как выплыть. А то всем небо с овчинку покажется.
– Ты что, угрожаешь? Да ты знаешь… – взвинченно зашумел Казаков, но его остановил Четверня:
– Подожди, Петр Сергеевич. Криком тут не поможешь. А тебе хвост поднимать нечего, – сказал он, видимо обращаясь к рыжему, – тебе голову оторвать мало. Так опростоволоситься!
Тот нервно и грубо отругивался:
– Да что вы хамите? Скажи, какие стратеги! Сидите себе в кабинетиках и бумажками играете. А работает кто? Шмель работает, Шмель! Так цените же это! А то рычат, как дворняги, испугать, видишь ли, хотят. Не на того напали. До сих пор-то все было в порядке. Южный порт забыли? Когда по десять косых в карман положили, тогда молчали, не хамили? Вам, вам надо бока-то помять. Я же говорил, что на центральный склад и в Тимково надо своих людей посадить. Сколько раз говорил?
– И посадили, – огрызнулся Четверня.
– Посадили, только когда? Две недели назад. А я вам это вдалбливаю полгода, а то и больше. Да и рохля этот ваш Хомяков. Сопля. Ему бы только на гитаре бренчать да за юбки цепляться. Нашли кадру. А уж посадили на место, так хоть научили бы как следует. Он же, раззява, ничего не знает или разыгрывает незнайку. А может, и того хуже.
Четверня ответил:
– Ну, с этим я разберусь. Но чтобы он прикидывался, не допускаю. Парень хоть и зеленый, но наш.
– Тогда кто же навел? Кто? Не могли же оперативники так, наобум влезть в это дело? – грохотал Шмель. – У кого-то они ведь и разрешения получали, чтобы эту подлость учинить?
Казаков раздраженно проговорил:
– Никаких оперативников в эти дни на стройке не было.
Раздался голос Четверни:
– Начальства на стройке много. Вы можете и не знать всего. А если Данилин в курсе? Или Быстров?
– С Данилиным мы сегодня виделись. Держится обычно, как всегда. Ему ничего не известно. А вот Быстров?.. Впрочем, тоже не думаю. Данилина он бы наверняка предупредил. Да и не полезет он в такие дела, – ответил Казаков все еще раздраженно.
– Тогда кто же? Кто? – зло и взвинченно воскликнул Шмель.
Таня давно хотела уйти и не могла. В сознании, словно метроном, настойчиво и неотступно звучала фраза: «По десять косых в карман положили». В первое мгновенье Таня не восприняла, не уяснила до конца значения этой фразы, но очень быстро страшный смысл этих слов дошел до нее, оглушил, парализовал все мысли. Мелкая дрожь била тело, острая, колючая боль отдавалась в висках. Созрело решение: пойти туда, к ним, все узнать, выяснить, потребовать, чтобы отец немедленно дал объяснение. Но она знала крутой, властный нрав отца. В приступе гнева он становился страшным. И хотя не обижал дочь, сдерживал себя при ней, все же Таня боялась его. Да и что толку, если она пойдет к ним, накричит? Разве это что-либо изменит? Ведь та страшная правда, что заключалась в словах Шмеля, останется. Ее, как дым, в открытое окно не вытянет.
А спор в комнате продолжался, то поднимаясь до крика, то стихая. Доносились грубые, бранные слова, угрозы.
Таня с трудом нащупала дверь в свою комнату и, механически войдя туда, обессиленная, опустилась на диван. Тщетно пыталась она убедить себя: чепуха это, пьяный бред. Но вновь и вновь приходила она к мучительному выводу: все слышанное ею – правда, невероятная, страшная правда.
Вскоре Таня услышала, как, глухо переговариваясь, уходили Четверня и Шмель, как, прощаясь с ними в передней, отец нарочито бодрым голосом говорил:
– Обдумаем, прикинем. Думаю, утрясется.
И ответ Шмеля:
– Да уж старайтесь. Увязнуть, как мухам в липучке, ни мне, ни вам расчета нет.
Отец не сказал больше ничего и медленно, будто в нерешительности, закрыл за гостями дверь. Воровато и приглушенно щелкнул английский замок. Таня вышла в коридор. Петр Сергеевич в задумчивости стоял у двери, нервно, глубоко затягиваясь, курил.
– Папа, что случилось? – голос девушки прерывался от волнения.
С трудом оторвавшись от своих мыслей, Казаков поднял голову.
– Что? Кто? Ах, это ты…
– Папа, что произошло?
Казаков с плохо скрытой досадой махнул рукой.
– Ничего особенного. Дела построечные. Не обращай внимания.
Таня долго, пристально смотрела на отца. Осунувшееся, посеревшее лицо, встревоженные, растерянные глаза, спутанные влажные волосы. Если бы она даже не слышала их разговора, то по одному виду отца могла определить: произошло что-то серьезное.
Таня росла без матери. Не получилась семейная жизнь у Петра Казакова. Дочь не вникала в причины, тем более что отец не терпел разговоров на эту тему. Только один раз, когда она была уже взрослой, на ее расспросы Петр Сергеевич, насупленный и мрачный, скупо ответил:
– Мать у тебя плохая была, так и знай.
И чтобы не оставалось сомнений, достал из ящика письмо. Из него Таня узнала, что мать покинула их семью и создала другую. Причины в письме не излагались. Сквозила только одна мысль: так жить нельзя, немыслимо… Почему нельзя? Почему немыслимо? Видимо, между родителями произошло такое, что вынудило женщину уйти.
Все остальное в письме было об одном – мать убеждала, просила, умоляла отдать ей дочь. Таня спросила:
– А как получилось, что я осталась с тобой?
Казаков ответил нехотя:
– Эта была длинная тяжба. Решал суд. Я отчаянно воевал за тебя. Как знал, что она долго не проживет.
Близких у Тани, кроме отца, не было, и вполне естественной была ее привязанность к нему. Особенной нежности между ними не существовало, но за внешней грубостью, замкнутостью Казакова жила глубокая, острая любовь к дочери. Этой любовью он оправдывал перед самим собой многие действия и поступки, когда они будили его совесть, когда тревога и страх сжимали сердце.
«Уж если я не поживу в полную меру, так пусть хоть Танька настоящую жизнь увидит», – думал Петр Сергеевич. Правда, в глубине души себя-то он ставил все-таки на первый план, ждал еще от жизни многого.
До сих пор у Тани не было причин для недоверия к отцу. Но услышанное сегодня обрушилось на нее такой непомерной тяжестью, что ей необходимо было сейчас же, не откладывая ни на минуту, выяснить все. Напряженным, звенящим голосом она просила, требовала, умоляла:
– Объясни, объясни, что случилось? Что все это значит?
Казаков, холодно посмотрев на дочь, выкрикнул:
– О чем ты? Что объяснить?
Таня понимала: отец не хочет говорить, уходит от ее вопросов. Он отводил глаза, рука с папиросой дрожала. Эта суетливость, бегающий, прячущийся взгляд убедили Таню, что услышанное ею не ошибка, не предположение, а страшная правда. Сжав кулаки, она вплотную подступила к отцу:
– Если ты… если ты не расскажешь мне все, я… не знаю, что сделаю… Я уйду от тебя, не останусь здесь ни минуты!..








