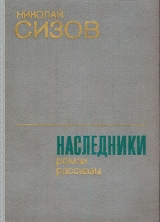
Текст книги "Наследники"
Автор книги: Николай Сизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
– Я имею сведения, что мою бригаду вы не включаете в списки. Имейте в виду, с этим вопиющим фактом я ни за что не соглашусь. На трассу, и только на трассу. У меня вся бригада бурлит.
Бригада поехала на трассу. А кто это оценил? Обычное, видите ли, дело. Ничего себе обычное. И главное, неизвестно, сколько еще тут торчать придется. Может статься, что и до весны. При мысли об этом Валерия даже озноб прошиб. Ну, а потом что? Опять то же самое – штурм, выработки, нормы… «Нет, с меня, пожалуй, хватит».
В эту ночь после беседы с Ярошевичем Хомяков принял окончательное решение. Утром он отозвал в сторону Бориса и Толю и, не глядя ребятам в глаза, проговорил:
– Вот что, друзья. Поработали мы на героическом «Химстрое» почти два года и свой вклад в развитие химического машиностроения внесли немалый. Думаю, хватит.
Ребята переглянулись. Борис, не скрывая удивления, спросил:
– Это как же? Драпать?
– Почему драпать? Берусь решить организованно.
– Вы шутите, бригадир? Сейчас, когда трасса… Да нет, вы, конечно, шутите. – Толя говорил это так взволнованно, с таким неподдельным испугом в глазах, что Хомяков понял: питомцы не поймут его и не поддержат. Он усмехнулся и проговорил:
– Ну ладно, ладно, цыплята. Вижу – моя школа даром не пропала. Энтузиасты из вас получаются перворазрядные. Я пошутил. Просто временно я вас покину. По состоянию здоровья. Ярошевич настаивает на госпитализации, иначе, говорит, без конечностей останусь. А вы тут смотрите, чтобы был порядок. Через недельку вернусь. И мы еще повоюем. Удальцова я предупредил, он в курсе.
Аркадий Удальцов знал о предстоящем отбытии Хомякова с трассы. Вчера вечером к нему зашел Ярошевич и рассказал о беседе с Валерием. А с утра пораньше заявился в конторку и сам Хомяков. Он долго сидел молча у стола Удальцова, сгорбившийся, удрученный, всем своим видом давая понять, что разговор, который ему предстоит вести, вынужденный, малоприятный разговор. Но обстоятельства, мол, бывают сильнее нас. Аркадий, однако, облегчил его задачу. Он предложил Валерию сигарету и, упершись в него своим лукавым, озорноватым взглядом, проговорил:
– Эскулап сообщил мне о твоих травмах – и физической и психологической. Сочувствую.
– Да, придется подлечиться, ничего не попишешь.
– Правильно, здоровье – дело такое, его в магазине не купишь. Как конечности-то?
– Болят дьявольски.
– Ну ничего, пяток дней полежишь, и все пройдет. На балу по поводу окончания трассы мы такой твист выдадим, что небу жарко будет.
Хомяков, вздохнув, проговорил:
– Вряд ли. Состояние у меня такое, что…
– Да что ты, Валерий! Чего ты оробел? Не хочется мне этой процедурой заниматься, да уж ладно. – Удальцов повернулся на своем скрипучем табурете и стал стаскивать валенки.
– Зачем это? – удивился Хомяков.
– Подожди. – Он стащил один валенок, потом другой. Морщась и кряхтя, размотал на правой ноге портянку и поднял ногу. – Видишь? – Пальцы ноги у Аркадия были такие же красновато-синие, как и у Валерия. – А эта, – Удальцов показал на левую ногу, – еще хуже. Черт его знает, тоже не уберег. Только ты Ярошевичу не говори. Снадобье-то я у него взял, говорю, для ребят, мол. И знаешь, помогает. Уже лучше.
Хомяков сидел молча, а Аркадий бережно всовывал ноги в широкие валенки. Закончив эту операцию, он притопнул одной, потом другой ногой и проговорил бодро:
– Пройдет. Неделька, и все. Только мажь их, чертяк, этим снадобьем и теплее обувайся. Но несколько дней, конечно, полежи. Я сказал, чтобы к вам в палатку еще одну электропечь поставили.
Хомяков, не глядя на него, сумрачно проговорил:
– Понимаете, организм, он того, у каждого… по-своему реагирует. Я должен с московским врачом посоветоваться.
Удальцов пристально посмотрел на Валерия. Улыбка его погасла, и, вздохнув, он отчужденно проговорил:
– Московские врачи, они специалисты, конечно, настоящие. Тут спора нет.
– Значит, считаем вопрос согласованным?
– У тебя же бюллетень. Следовательно, птица ты хоть и больная, но вольная.
– Вы зря, между прочим, так, товарищ Удальцов. Дело это такое… И упрощать его нечего.
– Да чего уж проще! Все ясно как божий день.
– А вы что хотите, чтобы я тут концы отдал? – зло выдохнул Хомяков. – Покорно благодарю.
Удальцов развел руками:
– Обмен мнениями можно считать законченным в связи с полным расхождением сторон. Счастливого вояжа в столицу.
– Вернусь, вернусь, не бойтесь, – вяло проговорил Хомяков, вставая.
– Да? Вы меня успокоили. Спасибо.
Валерий не понял, шутит Удальцов или говорит серьезно. Торопливо застегнув фуфайку, он вышел из вагончика.
Когда Валерий уходил к автобусной остановке, Борис и Толя долго смотрели ему вслед. Они понимали, что Хомяков покидает не только бригаду и трассу, а покидает «Химстрой». Это не укладывалось в их сознании. Валерий Хомяков, их вожак, их кумир, драпал с трассы? Нет, это для Бориса и Толи было непостижимо.
Через несколько дней Хомяков расслабленной походкой больного человека пришел в комитет комсомола и положил на стол Зарубина длинную, мелким бисерным почерком написанную справку московской поликлиники. Из нее явствовало, что гражданин Хомяков нуждается в длительном стационарном лечении. Онемение правой конечности в силу производственной травмы, истощение нервной системы, сердечная аритмия и т. д. и т. п.
Зарубин, прочитав справку, долго удивленно смотрел на Валерия.
– Кошмар, – наконец проговорил он.
Валерий тяжко вздохнул:
– Да. Завидного мало.
Во время их разговора в комитет зашел Быстров. Увидев Хомякова, его выставленную вперед забинтованную ногу в галоше, обеспокоенно спросил:
– Хомяков, что с вами стряслось?
– Обморозил на трассе.
– Как же это? И что, очень серьезно?
Зарубин подвинул Быстрову справку. Тот читал долго и тщательно, потом с подчеркнутым удивлением проговорил:
– Страху-то сколько! И как вы до сих пор концы не отдали?
Валерий понял издевку и, покраснев, нервно проговорил:
– Вы, между прочим, зря смеетесь, товарищ Быстров. Над такими вещами не шутят.
– Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно. Слышали такое выражение?
И затем, взглянув в упор на Хомякова, раздельно и суховато спросил:
– А как же с трассой? С «Химстроем»?
Зарубин с расстановкой прочел:
…И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной. —
Помните, Хомяков?
Хомяков молчал.
Зарубин спросил Быстрова:
– Придется отпустить? Как думаете, Алексей Федорович?
– Конечно. Климат «Химстроя» таким противопоказан.
И Быстров, не глядя на Хомякова и не прощаясь, вышел из комнаты.
…Делами трассы жила вся стройка. О ходе работ справлялись в управлении, в парткоме, в комитете комсомола. Стоило руководителям стройки появиться на любом участке, в любой бригаде, их встречали неизменным вопросом: «Как там, на трассе?»
Как сводку с фронта, читали сообщения в многотиражке. Каждый день там крупными буквами на первой полосе сообщалось: «Осталось тридцать дней, двадцать, пятнадцать, десять…» День и ночь по обеим сторонам холмов, по всей линии водозабора искрились огни электросварки, клубился дым от котлов, изолировщики, измазанные, прокопченные, обертывали трубы изоляционной тканью, покрывали битумом. Монтажные краны подхватывали стальными лапами огромные лоснящиеся свитки и бережно укладывали в траншею на бетонные подушки. Сзади них шли бульдозеры, скреперы, тракторы. Они свирепо набрасывались на отвалы грунта, мяли, крошили его мерзлые комья, сдвигали в траншею. И вот была видна уже только желтая полоса выровненной земли, ярко выделявшаяся среди искрящихся белых снегов.
А под гребнем холмов, в их глубине, шла еще более напряженная, лихорадочная работа. Оттуда слышалась глухая трель отбойных молотков, стрекот транспортеров. По ним бесконечными желтоватыми ручьями текла наружу мягкая земля, образуя у подножья холмов конусообразные отвалы. Экскаваторы насыпали этот грунт в тяжко оседавшие кузова самосвалов, и те осторожно пробирались по деревянным настилам. А смонтированные в главном корпусе перегонные установки ждали окончания этой битвы. Испытание их откладывалось со дня на день – нужна была вода, много воды.
Подошел, наконец, последний день срока, установленного для окончания трассы. Но объем работ был все еще велик. Многим даже казалось, и не без основания, что отряду придется-таки просить отсрочку на три-четыре дня, а то и на всю неделю.
Бригады Мишутина и Зайкина (раньше ее называли зарубинской, теперь же только так – бригада Кости или бригада Зайкина) выходили из тоннеля лишь затем, чтобы наскоро пообедать.
Удальцов и Зарубин пришли к мишутинцам.
– Перекур, ребята! – крикнул бригадир.
Все собрались около Ефима Тимофеевича. Было видно, как устали люди: бледные, потные лица, запавшие глаза.
Любовно оглядывая ребят, Виктор спросил:
– Ну как, совсем измотались?
– Да нет, не очень.
– Осталось тридцать – тридцать пять метров, – рассматривая под слепящей электролампой чертеж, объявил Удальцов. – Как ни считай, а пара-тройка дней понадобится.
– Выходит, к сроку не управимся? – хмуро спросил Мишутин.
– Ну, два-три дня погоду не сделают.
– Может, конечно, и не сделают, а все же нехорошо.
– Что вы, Ефим Тимофеевич! – вступил в разговор Зарубин. – Поработали вы так, что у всех на стройке только и разговоров о тоннеле и ваших бригадах. И не только на стройке. Корреспонденты из Москвы житья не дают. Радиостанция «Юность» нажаловалась на нас, что к вам не подпускаем.
Удальцов предложил:
– Ефим Тимофеевич, а если сделать так: перебросим к вам и зайкинцам пару бригад в помощь? Тогда управимся.
Вся бригада недовольно зашумела. Мишутин в раздумье проговорил:
– Оно бы неплохо, только где людей-то поставишь? Толчея будет, а не работа.
Разговор, похожий на этот, произошел и в бригаде Зайкина. После трагедии с Костей ребята будто переродились. Ни шутки, ни смеха. Держались всегда вместе, молчаливые, сосредоточенные. На работу набрасывались неистово, словно бы гася ею свое горе. Бригадира пока не назначали, все решали сообща.
Гриша Медведев, добродушный, спокойный юноша, который когда-то вместе с Костей пришел к Зарубину в Лебяжье ставить палатки, поглядев на товарищей, как бы спрашивал их разрешения говорить от имени всех, сумрачно ответил Удальцову:
– Мы сделаем. Выйдем к мишутинцам в срок. Только пусть шамовку нам сюда приносят.
И Зарубин и Удальцов поняли – бригады от принятого решения не отговорить. Условились, что Виктор останется здесь, Аркадий направится к мишутинцам.
Кончился короткий зимний день. Высокое холодное небо раскинуло над землей темное, высвеченное звездами покрывало. Уснули деревни вокруг трассы, и даже припоздавших огней нигде не стало видно.
Не спал лишь тоннель под Каменскими высотами. Бригады Мишутина и Зайкина вели последний штурм перемычки, отделявшей их друг от друга тридцатиметровой толщей земли.
Поздно ночью Зарубин и Удальцов встретились в конторке.
– Ну, как твои? Не свалятся? – устало садясь на стул, спросил Виктор.
Удальцов озорно стрельнул глазами:
– Мои-то нет. А вот твои… – И, посерьезнев, без улыбки закончил: – Такие ребята все выдержат. Все!
Утром местные автобусы, грузовики, что шли с площадки на трассу, были битком набиты людьми. От станции железной дороги тоже шли люди. Многие мчались на лыжах. Им махали из окон автобусов, предлагали прибавить скорость, а то придете, мол, к шапочному разбору.
Весь этот поток химстроевцев стремился на трассу, на ее центральный участок. Уже знали, что мишутинцы, бригада Зайкина, крепильщики, монтажники и бетонщики не выходят из тоннеля двое суток, добивают последние метры и вот-вот должны встретиться.
На склонах холмов собрались сотни людей. Многим не хотелось ждать вот так, без дела. Несколько групп спустились вниз, к бригадам, что работали у выходов тоннеля. Брались выравнивать откосы, грузили щебень, засыпали колдобины и ямы на дороге, пытались помочь изолировщикам. И все это делалось шумно, весело. Напрасно доктор Ярошевич прохаживался здесь, пристально вглядываясь в разгоряченные лица людей. Работы ему, кажется, не предвиделось.
Данилин и Быстров, увидев этот незапланированный, стихийный воскресник, переглянулись. Подумали об одном и том же: «Чудесный все-таки народ на „Химстрое“».
А в тоннеле дело шло к концу. Уже каждая из бригад слышала приглушенные, неясные звуки, проникающие сквозь толщу земляной перемычки. Все измотались до предела, лиц не было видно под слоем пыли, только глаза блестели лихорадочно и ярко. Наконец под молотком одного из мишутинцев отвалилась большая глыба земли, и в глаза ринулся встречный свет, послышались ликующие возгласы:
– Как вы там? Живы?
– А у вас как?
Люди толпились с обеих сторон проема, жали друг другу руки, обменивались папиросами.
Мишутин не хотел мешать суматошной радости ребят. Он стоял чуть в стороне, жадно затягиваясь. Когда подносил папиросу ко рту, рука заметно дрожала. Почему, он и сам точно не знал: то ли от радости, то ли оттого, что устал, как никогда. А может быть, и от того и от другого вместе.
Зачистка перемычки, установка бетонных опор заняли немного времени, и бригады пошли к выходу. Их ослепил белый сияющий день, оглушили восторженные крики сотен людей. Ребята в недоумении оглядывались по сторонам, а увидев знакомые, родные лица химстроевцев, радостно отвечали им. Но их голоса были еле слышны. Только сейчас почувствовали они, как предельно измотались. Хотелось присесть хоть на одну минуту.
Быстров сжимал в объятьях то Мишутина, то кого-то из ребят Костиной бригады, а потом, отойдя на шаг, отвернулся в сторону. Немного погодя, повернувшись к Данилину, смущенно проговорил:
– А ветряга-то, черт его побери, слезы выжимает.
Данилин, взволнованный не меньше его, обращаясь к обеим бригадам, чуть срывающимся голосом сказал:
– Ну что ж, дорогие. Спасибо вам. От имени всех нас спасибо. А сейчас приведите себя малость в порядок – и обедать. Думаю, наш Мигунков не ударит в грязь лицом.
До автобусов героев трассы провожала целая толпа… Но обед, торжественный обед, который готовился под личным и непосредственным руководством начальника комбината питания, пришлось отложить до вечера. Ребята еле добрались до кроватей.
Глава XXXII. Любовь и ненависть
Таня жила в общежитии института около Калужской площади. Быстров уже не в первый раз ехал сюда, но до сих пор все посещения его оказывались неудачными. То Таня была на студенческом вечере, в другой раз он попал, когда она только что уехала в институтский лагерь. Потом закрутился с делами сам и выбраться никак не удавалось. Время и сейчас было донельзя горячее – завершались работы по нескольким объектам, часть цехов уже сдана, там хозяйничали монтажники. Заводские работники торопили строителей со сдачей литейки и кузнечно-прессового.
Бригады отделочников, сантехников, электриков, забыв об усталости, работали и днем, и вечером, и ночью, поочередно сменяя друг друга. Многим и сменяться было нельзя: их работу никто другой не мог выполнить.
Каждое утро в главном корпусе собирались оперативки командного состава. До хрипоты спорили с представителями завода, шумели друг на друга руководители участков, смежных строительных организаций, субподрядчики. Там что-то недоделано, там допущено отступление от проекта, что-то не предусмотрели проектировщики, а здесь не хватает агрегата и из-за него все встает. Где уж тут выбраться к Тане, хоть и ждешь этой встречи и думаешь о ней часто и много.
После суда над отцом Таня стала замкнутой, мрачной, неразговорчивой. Среди подруг по институту она забывалась, встречи же с Алексеем воскрешали со всей остротой тяжелые воспоминания. И Таня шла на эти встречи не очень охотно. Алексея это искренне огорчало. Как-то он спросил:
– Таня, вы относитесь ко мне так, будто я в чем-то виноват.
Она удивилась:
– Да что вы, Алексей? С чего вы взяли? Просто мне тяжко вспоминать все это.
Алексей решил сдерживать себя, не навязывать девушке своей дружбы. «Да и вообще, пара ли ты ей? – думал он порой. – Староват все-таки. Смотри, вон и пороша в волосах». И однако совсем не видеть Таню он не мог.
Сегодня он тоже ехал с тревожным чувством. Таня, когда он позвонил ей, согласилась увидеться, но Алексею показалось, что голос ее звучал как-то холодно и отчужденно.
Однако встретила его Таня весело, по-дружески. Шутливо и требовательно спросила:
– Что будем делать? Куда пойдем?
Алексей растерянно пожал плечами:
– Ей-богу, не знаю. Давайте обсудим вместе.
– Ничего себе кавалер. Назначает свидание и сам не знает, куда идти.
– Не очень-то я надеялся на это свидание, – обескураженно проговорил Алексей и предложил: – Поедемте в Центральный парк, благо он рядом?
– В парк так в парк, – согласилась Таня.
Центральный парк выглядел уже по-весеннему. Липы стояли еще голые, но их набухшие зеленовато-бурые почки готовы были вот-вот раскрыться, а тополя уже распустили стрельчатую липкую листву. Буйно раскинулся кустарник, обрамлявший клумбы и цветники. Дорожки парка еще не просохли, были мягкими, податливыми. Было жалко ступать по ним: на влажном щебне оставались глубокие четкие следы…
Алексей и Таня сели на теплую, нагретую апрельским солнцем скамейку. Таня все в том же тоне спросила:
– Ну, что мы будем делать, что обсуждать?
– А ничего не будем делать и ничего не будет обсуждать, – ответил Алексей. – Посидим, погреемся на солнышке. Чем плохо?
Увидев вдали женщину в белом фартуке, он кинулся было к ней.
– Иду на базу, – сухо отрезала та. Обескураженный Алексей вернулся.
– Хотел отхватить по бутерброду, но сорвалось.
– А вы голодны?
– По совести говоря, да. Когда в Заречье ночую, мать без завтрака не выпустит. А тут закружился и позабыл в буфет зайти.
– Надо было сказать. У девчат в холодильнике, по-моему, что-то есть.
– Не велика беда. Найдем какое-нибудь кафе.
После некоторого молчания Таня спросила:
– Как Наталья Федоровна себя чувствует?
– Ничего, скрипит. Все меня критикует.
– Вас? Что-то не верится. За что же?
– Да по любому поводу. В частности, за то, что никак не приведу вас в гости. Такие дифирамбы вам поет…
– Да. Счастливый вы, Алексей, что имеете такую мать, – проронила Таня.
Алексей посмотрел в лицо девушки и понял, что этот разговор опять напомнил ей про отца. А он знал, что воспоминания о нем всегда круто меняли ее настроение. Алексей несколько неуклюже переменил тему:
– А вы знаете, что наш Серега придумал? В моряки решил податься. Куда-то ездит, анкеты заполняет… Бился с ним несколько дней, еле уговорил отложить планы дальних странствий.
– В моряки?
– Да. В Атлантику метит.
– Что же, по-моему, это очень интересно. Может быть, мешать и не следует?
– Да нет. Все это несерьезно. У него, видите ли, конфликт с некоей дульцинеей. Есть на заводе такая пташка Наташка. И вот произошел грандиозный разлад между ними. Серега решил утолить свои печали в краях неведомых и дальних.
Таня рассмеялась, но отнюдь не весело. Чувствовалось, что занята она другими мыслями. Так оно и оказалось. Нахмурясь, будто через силу Таня попросила:
– Посоветуйте, Алексей, как быть… Отец… забросал письмами. Пишет, что сожалеет, клянет себя, винится передо мной. «Хоть, – говорит, – и поздно, но за ум возьмусь».
Таня говорила сердито, неприязненно, и Алексей в который уже раз подумал: как много горя принес Казаков своей единственной дочери!
– А вы? Написали ему?
Таня насупилась еще больше, поежилась, словно от холода:
– Нет. И не собираюсь. Я отказалась от него, совершенно отказалась. Хочу забыть…
Быстрова насторожила ненависть, звучавшая в голосе девушки. Алексей органически не выносил жестокости. Люди с холодным, непроницаемым сердцем, ставящие свои обиды превыше всего, долго их помнящие и мелочно подсчитывающие все, что было тяжкого на их пути, всегда его настораживали. Это были, как правило, себялюбивые и эгоистичные натуры. Но сейчас он подумал: «А ведь она имеет право на эту непримиримость». И, слушая Таню дальше, Алексей чувствовал: не только ненависть, а боль, глубокая боль была в словах Тани. И он целиком разделял и ее гнев, и эту боль. Но в то же время он хорошо помнил, каким жалким, убитым был Казаков, когда его исключили из партии, и тогда, на суде…
Таня замолчала. Долго молчал и Алексей. Потом он, взяв ее за руку, негромко проговорил:
– Видите ли, Таня… Вы, безусловно, вправе поступать, как хотите. Но я все-таки не рвал бы так… Ведь у него никого и ничего не осталось, кроме вас. Так ведь? И только ваши строчки и могут доставить ему радость. Он будет жить ими. Вправе ли вы отказать в этом человеку?
Таня удивленно посмотрела на Алексея.
– Вы это серьезно?
– Вполне. Знаете, упавшего у нас не бьют. И потом… отец все-таки. Какой-никакой, а отец. У восточных народов есть поговорка: «Чувства отца выше гор, чувства матери глубже океана».
– Не знаю, не могу, – нервно сказала Таня. – Рука не поднимается написать хоть строчку.
Алексей мягко проговорил:
– Я понимаю, Танюша, очень понимаю. Но подумайте об этом. И как-то меньше терзайте себя. Ведь самое страшное, что могло случиться, уже случилось. Знаешь, Таня, – голос Быстрова вдруг зазвучал взволнованно и глухо. – Я совсем выхожу из равновесия, когда вижу тебя такую… удрученную. Извини, что я говорю так…
Таня повернулась к Алексею и тихо произнесла:
– Спасибо… Алексей… За все спасибо. – Потом резко поднялась, отошла от скамейки и долго стояла посреди дорожки, глядя в даль парка. Справившись с охватившим ее волнением, предложила: – Пойдемте поищем, где можно перекусить. Ты же голоден. А то не ровен час останется «Химстрой» без партийного вождя.
– Весьма разумная мысль. Какой-нибудь бифштекс или отбивная сейчас бы не повредили.
Но, конечно, дело было не в завтраке. Он услышал в голосе Тани какие-то совсем иные, теплые и сердечные интонации. Эта короткая, мимолетная, в сущности, беседа как-то сразу сблизила их, сняла настороженность Тани.
…В кафе они были первыми посетителями. Дородная, но очень подвижная женщина в голубом «служебном» платье быстро подала кефир, сосиски, кофе. Все было свежее, вкусное. Алексей воскликнул:
– Смотри, прелесть какая!
Таня, разливая по стаканам кефир, проговорила:
– Сосиски да кефир – самое изысканное студенческое меню.
Алексей смутился, предложил:
– Действительно, сосиски тебе и в институтских буфетах надоели. Может быть, в ресторан махнуть?
Таня отозвалась с нарочитым удивлением:
– Товарищи, что делается с парторгом «Химстроя»? Все свои заботы побоку, зачеты мои тоже и в ресторан – гуляй напропалую.
Алексей подхватил шутку:
– Ладно. Раз у меня такая строгая спутница, будем довольствоваться сосисками.
Таня рассмеялась.
– Я так и знала, что Быстров обрадуется такому повороту дела.
Алексей, окончательно сбитый с толку, взглянул на Таню:
– Ты хочешь сказать, что я…
– Я хочу сказать, что нам пора кончать с завтраком и идти гулять. Смотри, как солнце-то старается.
День и в самом деле становился все ярче и ярче. Небо почти уже очистилось от серых клочковатых облаков. Солнце разостлало на Москве-реке серебристую дорожку, зажгло ярким блеском маленькие лужицы, разбросанные на тропинках парка.
Алексей с Таней вышли из кафе. На одной из площадок парка слесари мастерили какой-то замысловатый аттракцион. Несколько легких цилиндров, похожих на продолговатые бочки с круто обрезанными конусообразными концами, стремительно взлетали вверх, мчались по окружности и, сделав петлю, возвращались к земле. Таня зачарованно смотрела на двух парней, упоенно летавших в этих бочках. Слышались восторженные восклицания:
– Нормально, порядок, не заедает…
– Хочешь испытать эту технику? – спросил Алексей.
– А что? Было бы здорово.
Алексей подошел к мастерам и попросил:
– Может, прокатите, ребята? Поглядели мы на эту вашу штуку, и тоже захотелось покувыркаться.
Среди бригады, ладившей аттракцион, возникли разногласия. Одни говорили, что, пожалуй, прокатить можно. Другие сомневались: вдруг что-нибудь стрясется? Аттракцион комиссией не принят. Сторонники подработать на пиво возражали: комиссия ни шестерен, ни тормозов не прибавит, а инженер, что рассчитывал эту штуку, сам на ней вчера почти полдня кувыркался.
При этом они выразительно поглядывали на Алексея, давая понять – такая рьяная защита потребует гонорара.
Добрые полчаса Алексей с Таней носились в воздухе. В кабине было тесно, сидели, прижавшись друг к другу. Ветер свистел в ушах, трепал Танины волосы. Алексей смотрел на Таню. Она была во власти стремительного движения. Прищуренный взгляд, лицо, полное упрямого задора. Такой незнакомой и в то же время удивительно близкой, своей показалась она ему сейчас.
…Снова Нескучный сад. Осторожно спускаясь по скользким тропинкам, держась то за деревья, то друг за друга, вышли на набережную Москвы-реки. Здесь уже было много гуляющих. Шумливые группы молодежи не спеша ходили вдоль парапета, любуясь распускающейся зеленью, яркими бликами на глади реки. Поравнявшись с одной из групп, Алексей услышал обрывок разговора:
– Девчонка-то ничего себе…
– Хороша Маша, да не наша.
По взглядам ребят Алексей понял, что разговор идет о Тане. Через несколько минут Таню остановили двое.
– Таня, можно тебя на минутку?
– На минутку можно, – весело ответила она и подошла к ребятам.
Видимо, это были ее хорошие знакомые. Они оживленно заговорили о чем-то, Таня засмеялась, и Алексея вдруг охватила острая тревога. «Опоздаю я со своими сомнениями да раздумьями. Улетит Таня, в два счета улетит».
А раздумья и сомнения у Алексея были. Ему казалось, что чувство его односторонне. Не раз представлял он себе объяснение с Таней. Вот он говорит о своих чувствах, а в глазах ее видит снисходительное внимание или грустную боль оттого, что не может она ответить ему тем же… А то и еще хуже – жалость к нему…
Таня заметила, наконец, что Алексея уже нет рядом. Она огляделась с легкой тревогой, недоумением. Найдя Быстрова, чуть сердито позвала:
– Куда вы пропали?
Когда он подошел, укоризненно проговорила:
– Вы что это оставляете меня? Надоело сопровождать? Тогда пошли домой.
– Таня, – проговорил Алексей, – что вы такое говорите?
В его голосе прозвучала вдруг такая глубокая укоризна, что девушка пожалела о своей шутке. Этот его возглас сказал ей так много, что она внезапно почувствовала желание прильнуть к груди Алексея, провести рукой по этим суровым складкам на лбу. С трудом справившись с волнением, Таня подошла к парапету, остановилась, рассеянно глядя, как небольшие волны лижут сероватый гранит, лениво плещутся на нижних ступеньках каменных причалов.
По реке то и дело сновали лодки, катера, речные трамваи. Рябь волн почти не сходила с ее глади. Когда же река на несколько минут успокаивалась, в ней, словно в гигантском зеркале, отражался и серый гранитный парапет, и начинающие зеленеть липы, и цепочка огромных домов, выстроившихся вдоль Фрунзенской набережной. А там, дальше, в воду гляделись туго натянутые серебристые струны Крымского моста, золотые купола кремлевских соборов, громада высотного дома на Котельнической…
Таня почувствовала, что Алексей встал рядом, молча, осторожно, и ей стало так радостно и так тревожно от какого-то не совсем еще понятного ей предчувствия, что она зажмурила глаза и тихонько прислонилась к плечу Алексея.
Алексей тихо проговорил:
– Таня… я… давно хотел сказать тебе…
Таня медленно подняла голову, приложила палец к губам:
– Тихо, молчи, Алеша…
Она словно боялась, что слова разрушат то удивительное состояние, которым были полны оба и которое чувствовали только они, они двое. Маленькая горячая рука Тани сжала руку Алексея.
Долго стояли молча. Потом медленно пошли по набережной. Алексей крепко держал Таню за руку, будто опасаясь, что она вот-вот может исчезнуть и все происшедшее окажется сном.
Прощались у институтского общежития, почти ничего не говоря. Алексей мягко, осторожно гладил ее волосы. Таня чувствовала тепло и легкую дрожь его больших, грубоватых рук, и незнакомое ей чувство острой, мучительной радости наполняло ее.
Глава XXXIII. И снова в тревожную даль
Данилин молча протянул Быстрову два тонких скрепленных листка бумаги и суховато, буднично сказал:
– Приказ министра. Уже утвержден состав правительственной комиссии по приемке объектов.
Быстров бегло прочел бумагу, возвратил Данилину.
– Благодарность, премии и даже к правительственным наградам представляют, а ты вроде недоволен?
– Я рад. Очень. Но и жаль.
– Чего же?
– Ты все прочел-то? Уже новый объект химстроевцам определен. Усть-Бирюсинск. С людьми расставаться придется. Привык. Тебя вот тоже не будет хватать…
Быстров пошутил:
– А я-то думаю, чего Данилин и все его помощники какие-то потерянные ходят? Оказывается, вот в чем дело.
– Ты не смейся, Алексей. Такой уж мы народ, строители. Строим, строим, все скорее да скорее. Проходит год, два, три. Вырастает завод, ГЭС или целый район новых домов. Радостно видеть это? Очень. И в то же время немного грустно. Уже другие люди начинают хозяйничать тут, а тебе надо подниматься со всем своим скарбом и другое место приглядывать. Опять тебя ждет то ли будущий завод, то ли комбинат, то ли новый, пока лишь в чертежах представленный город.
– У каждой профессии есть что-то свое, и плюсы свои и минусы.
– Да я не жалуюсь, не пойми меня так. Я строитель до мозга костей. А настоящий строитель свое дело никогда не бросит. Пытаются некоторые – осядут, с полгода-год проработают, а потом, глядишь, опять появляются. Спрашиваешь: «Почему вернулся?» – «Не могу, – говорит, – скучно». Вот так-то, Алексей Федорович. Строители, брат ты мой, совсем особая порода людей. Не каждый к нашему делу пристрастится.
– Камешек в мой огород? – спросил Быстров.
Данилин хмуро отмахнулся:
– На комплименты напрашиваешься, парторг? Раньше за тобой этого не замечалось.
Быстров не ответил и после некоторого молчания спросил:
– Как у нас с «почтовым ящиком для потомков»?
– Через недельку закончат.
– Ты предупреди там, Владислав Николаевич, чтобы не подвели. Комсомольцы волнуются. Дело-то они задумали интересное.
…Мысль о письме потомкам – комсомольцам далеких будущих лет родилась в бригаде Кости Зайкина. Как-то ночью сидели ребята у костра, грелись: апрельские ночи в Подмосковье теплом не балуют. Бригаду опять бросили на боевое, срочное дело – сооружение погрузочно-разгрузочной площадки. Сделать ее надо было за одну декаду, и пришлось ребятам здесь дневать и ночевать. В одну из коротких передышек кто-то проговорил со вздохом:
– Штурмуем, мерзнем, друзей теряем… А потомки даже знать не будут, как мы тут им дорожки прокладывали.
Сосед парня по местечку у костра с иронией откликнулся:
– А ты, я вижу, в историю войти захотел?
– Насчет истории не знаю, а потомкам не вредно бы узнать, как «Химмаш» строили и вообще как жили…








