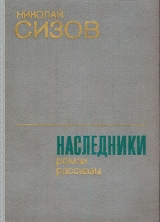
Текст книги "Наследники"
Автор книги: Николай Сизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
– Так как, Алеша, поможешь? – в который раз спросил Крутилин. Виновато, криво усмехнулся. – Хоть мы и сшибались порой лбами, но настоящие товарищи зла не помнят.
– Зачем ты дал Казакову это письмо? – спросил Быстров сухо.
Крутилин стал объяснять:
– Ну пристал человек – выручи да выручи. Дело-то не ахти какое, обычное. Такие операции мы действительно разрешаем. Я же не думал, что там что-то нечисто.
А Быстров вдруг спросил то, о чем спрашивал совсем недавно сам Крутилин у Казакова:
– И еще один вопрос. Скажи, только откровенно. Ты-то сам лично какое отношение имеешь к этой истории? Ведь раз предполагаешь, что все это может серьезно отразиться на тебе, значит, тоже замешан?
Крутилин обиженно нахмурился, откинулся на подушки.
– Ну знаешь, такого я от тебя не ожидал.
Оба замолчали. Пауза была длинной. Наконец Крутилин заговорил вновь:
– Дело ведь не только во мне. Подумай сам, разве приятно будет, если начнут склонять по такому поводу «Химстрой».
– Ну, «Химстрою» это не страшно, – небрежно отмахнулся Быстров.
Крутилин возразил:
– Так-то оно так, но лучше бы обойтись без этого. Хорошая слава лежит, а дурная бежит. Как начнут склонять да прорабатывать, куда смотрели да почему проглядели. До самых верхов может дойти. А кроме того… и тебе лично эта история удовольствия не доставит.
Быстров изумленно взглянул на Крутилина.
– Не понимаю.
– Ну как же! Все-таки Казаков-то отец Тани…
Быстров помрачнел. Уже не первый раз Алексею напоминали о Тане именно в такой связи. Это больно ранило его, Алексей сразу настораживался, замыкался в себе, круто прерывал разговор. Он оберегал их дружбу с Таней решительно и непримиримо. И сейчас тоже, встав со стула, глядя прямо в глаза Виктору, он твердо проговорил:
– Ты переоцениваешь мои возможности. Ничего существенного я тут сделать не могу.
– Ну, ну, не прибедняйся.
– Ничуть я не прибедняюсь. Ты просто плохо знаешь наши законы. Ни вы с Казаковым, ни я, ни кто-либо другой не могут помешать следствию. Это исключено.
– Зря, зря ты, Алексей, говоришь такое. Без мнения парткома не обойдутся. Твой звонок решит многое. А если еще министр включится… Да и надо-то немногое – пусть обэхээсовцы не раздувают эту историю, не порочат стройку. Вот и все.
– Я поеду. Если ты звал меня только по этому поводу, то зря тратил время. – Сказал это Быстров так твердо, что Крутилин понял – другого от Алексея он не услышит.
Крутилин лежал, полузакрыв глаза, сбивчиво дышал. Ему хотелось, очень хотелось бросить сейчас в лицо Быстрову всю свою злость, беспощадные, уничтожающие слова: «Трус, не хочешь помочь, радуешься чужой беде!» Но, с трудом пересилив и сдержав себя, Виктор проговорил хрипло:
– Что ж, спасибо и на этом…
Алексей подошел чуть ближе к кровати и, стараясь говорить мягче, произнес:
– Извини, Виктор, но я действительно ничем не смогу помочь. Пустых же обещаний давать не хочу. Кстати… если твоя вина лишь в этой бумаге, то беду ты преувеличиваешь.
Крутилин буркнул что-то в ответ и, не подав руки, закрыл глаза.
Лены в передней не было, и Алексей был рад этому. Что бы он сказал ей? Чем мог утешить? Да и трудно было бы ему скрыть досаду от этой тягостной и ненужной, в сущности, встречи.
Глава XXVII. Капитан Березин рассказывает
Капитан Березин говорил неторопливо, обстоятельно.
Перед ним лежало три довольно толстых тома в твердых синих обложках. Между страницами белели закладки, и он по ходу разговора открывал нужные ему страницы и зачитывал выдержки из протоколов допросов, заключений экспертизы или показывал акты ревизий.
Данилин не мог сидеть спокойно. Он то вставал со стула и ходил по комнате, то садился за стол рядом с Березиным, просматривая документы, то опять возвращался на свое место. Быстров сидел у стола и слушал внимательно, молча. Суровая складка над переносицей как легла в начале разговора, так и не распрямлялась до конца.
– Итак, я подхожу к концу, – все так же неторопливо объявил Березин. – Если говорить коротко, сформулировать, так сказать, основную фабулу дела, то она сводится к следующему: Казаков и Четверня решили основательно заработать. Из-за слабого контроля за их деятельностью условия для этого сложились на стройке благоприятные. Они установили контакт со Шмелем, посадили подходящих людей на некоторые склады, бетонный завод, что получил «Химстрой» в Тимкове, и кое-какие другие места. Их задача упрощалась, конечно, тем, что сами они были, как вам известно, далеко не последними людьми на строительстве. Сначала была операция с Южным портом. Немало цемента тогда не доплыло, так сказать, до стройки. Затем развернули операцию с «Северянином», самую крупную из тех, что они осуществили на «Химстрое». Мы имели кое-какие сведения, что кооператоры-дачники откуда-то слева достают цемент, но поставщика обнаружить никак не удавалось. Ваши комсомольцы дали нам в руки первое звено… Правда, причастность Казакова и Четверни к этой истории доказать было бы трудно, а может, и вообще невозможно. В контакт с дачниками они не вступали, цемент, разумеется, не возили. Кто мог предположить, что заместитель начальника стройки занимается такими делами?
– А я и сейчас… – начал было Данилин, но Березин предупредил его вопрос:
– Что, не верите?
– Не то чтобы не верю, но, понимаете, никак в голове не укладывается.
Березин молча открыл один из томов.
– Вот что говорит Четверня: «Мысль о „Северянине“ принадлежит Казакову. По его поручению я съездил в Межевое, выяснил детали. Потом в ресторане „Будапешт“ мы обсудили план действий. Был там я, он и еще Богдашкин…»
– Может быть, это оговор? Четверня заметает свои следы? – спросил Быстров.
– Нет, – спокойно объяснил Березин. – Улик и доказательств более чем достаточно. Назову одну из них. У Шмеля мы изъяли записку Казакова. Очень существенный, между прочим, документ.
– Прямо-таки как в плохом детективном романе, – усмехнулся Данилин. – Наивные преступники попались вам, капитан. Неужели у Казакова не хватило ума не создавать такой улики, а у Шмеля на то, чтобы ее уничтожить?
– Не такие уж они наивные, ваши Казаков и Четверня. Дорожка-то была длинная, пока мы до них добрались. Когда ушла из дома дочь, Казаков правильно рассчитал, что дело может выйти наружу. И он принял ряд довольно энергичных мер. Надо было прежде всего сплавить с «Химстроя» Шмеля. Дома того уже не было. Он боялся наших ребят. Четверня в это время умчался в Межевое, чтобы сориентировать кооператоров. Что же оставалось Казакову? Самому встретиться со Шмелем было бы рискованно, и так своим вечерним визитом тот подвел его. И Петр Сергеевич поручил своему шоферу найти Шмеля и передать пакет, объяснив парню, что Шмель срочно уезжает в командировку, а в пакете дополнительная документация, наряды и накладные. Координаты дал лишь приблизительные, и шофер полдня мотался, пока не обнаружил этого самого Шмеля. Правда, – Березин хитровато усмехнулся, – Казаков мог упростить дело, прибегнув к нашей помощи. Мы-то точно знали, где и по каким закоулкам петлял Матвей Шмель. – Березин снова открыл одну из страниц и предложил Данилину и Быстрову: – Полюбопытствуйте.
Это была записка Казакова Шмелю. Короткая и паническая одновременно: «Посылаю билеты. Самолет в семнадцать. Отлет не откладывай ни на час, ни на минуту. В случае чего – немее камня. Посылаю часть. Большая ждет. Записку уничтожь немедленно».
– А почему же Шмель не уничтожил столь железную улику? – спросил Данилин. – Как вы это объясняете?
– Не только не уничтожил, а зашил в самое потайное место. Благородства у такой публики отродясь не бывало. Он эту записочку пуще глаза берег. С ней-то Казаков у него полностью в руках. Попал – пусть выручает, любыми силами, любыми средствами. Не попал – опять же рычаг, да еще какой! Любые условия предъявляй – все сделает.
– У меня к вам два вопроса, товарищ Березин, – заговорил Быстров. – Расскажите подробнее о комбинации в Южном порту.
– В самом начале строительства эта группа продала сто тонн цемента рыболовсоюзу, те пансионат строили на Рыбинском море и испытывали большую нужду в цементе. Один из «рыбаков» был знаком со Шмелем. Тот с благословения Казакова все устроил. Продали цемент рыболовсоюзу, а списали как подмоченный.
– Черт побери! – с досадой выругался Данилин. – Я помню эту историю. Там же акт пароходства был, указывалось, что баржа налетела на что-то.
– Вы правы. Именно эта причина фигурирует в акте. В пароходстве и порту оказались свои Шмели.
– У вас был еще вопрос? – обратился Березин к Быстрову.
– Да. Четверня показал, что разговор о комбинации с «Северянином» шел в присутствии Богдашкина. Какова его роль во всем этом? Неужели и он…
Березин отрицательно покачал головой.
– Нет, нет. Товарищ Богдашкин был в ресторане, это верно. Но разговор об операции шел без него, когда он выходил. И вообще в этой компании он не участвовал, хотя Казаков пытался очень старательно втянуть его в свой круг. Конечно, в безобразиях с учетом материалов на стройке Богдашкин виноват. И основательно. Как и бухгалтерия, впрочем. По этому вопросу мы пришлем вам специальное представление.
Данилин мрачно согласился:
– Правильно. Кое-кому всыплем по первое число. – Затем, помолчав, добавил: – Да и самому мне министр «благодарность» преподнесет. Это уж наверняка.
Березин продолжал:
– Товарищ Богдашкин человек чистый, он нам основательно помог распутать этот узел.
– Ответьте еще на один вопрос, – попросил Быстров. – Какова во всем этом деле роль Крутилина?
– Из главка? – переспросил Березин.
– Да.
– Роль не очень активная, но и не завидная. Его прямое участие в делах Казакова и Ко не установлено. Но мешать нам через различные инстанции пытался. Видимо, обязан чем-то Казакову. Разрешение главка на обмен материалов с «Северянином» он подписал задним числом. Его мы не привлекаем, но от работы, как нам сообщили, его освобождают.
– Мы замучили вас вопросами, – проговорил Быстров, – но, понимаете, ведь дело идет о наших людях. Слышал я, что в эту казаковскую кучку они вовлекли еще кое-кого. И даже из молодежи. Так это или нет?
– Видите ли, товарищ Быстров, очень расширять свой клан они не стремились. Но кое-кого к себе приближали. Ну, например, Хомяков. Директор вашего Тимковского растворного узла. Они его туда посадили не случайно. Только он их доверия не оправдал. Буквально под носом у него Зайкин мешки-то переметил. Был у меня этот Хомяков несколько раз. Подал заявление, требует присовокупить к преступлению Шмеля нанесение оскорбления его личности путем двух ударов по левой и правой щеке…
– А он что, не успел или не захотел приобщиться к их деятельности?
– По-моему, ему просто повезло, им не хватило времени, чтобы запутать. Правда, цемент в Тимково возили при нем, но разнарядка была оформлена накануне его прихода на узел. Другой, конечно, может, и заподозрил бы неладное, но этот был занят другими делами. Новой должностью упивался. Между прочим, собирается речь держать на суде. Я его спрашиваю: за или против, обвинять или защищать собираетесь? Поддерживать Фемиду, говорит, буду. Я, слышь, покажу им, как личность оскорблять.
– А за что Шмель-то его?
– Заподозрил, что нам просигнализировал.
Данилин спросил Быстрова:
– Ты знаешь этого Хомякова?
– Немного знаю. На собраниях довольно часто речи держит. Да ты его тоже знаешь. Из ультрасовременных. Борода, куртка во все цвета радуги и брюки раструбами, все в заклепках.
– А… Этого помню. Речистый малый.
Данилин задал Березину еще один вопрос:
– Вы сказали мельком, что у Казакова были и прошлые дела. И много их было, этих дел?
Березин достал из портфеля еще одну папку, раскрыл ее:
– Это старый и довольно опытный комбинатор. Он проходил по череповецкому делу, по костромскому, по московскому обществу «Рыболов-спортсмен». Рыльце явно в пушку и в деле расхитителей со строительства Новомосковского химкомбината. Есть кое-что и другое. Но везде выходил сухим из воды. Везде выступал свидетелем, признавал свою моральную вину за учет, отчетность, за недосмотр и т. п. И разумеется, обещал принять меры.
Желчно, с презрением Данилин проговорил:
– Поразительно. Так долго слыл за честного, дельного работника.
Быстров добавил:
– Когда я спрашивал у него, откуда у него такие деньги, он даже оскорбился. Зарплата, дескать, премии, экономия… скопил.
– А что за номер он выкинул со сдачей денег? – обратился Быстров к Березину. – Говорят, что сам сдал следствию какую-то сумму?
Березин усмехнулся.
– Очень простой расчет. Учтут, мол, в случае чего. Да и следы сбить надо, чтобы остальное не искали.
– А было что искать?
– Да, и притом немало. Три тайника, и везде деньги, золотишко. Одним словом, не бедствовал. Тайники-то его найти было нелегко, – после недолгой паузы продолжал Березин. – Мы знали, что они есть, сдал-то ведь он крохи. Но следов, зацепок никаких. А он упорствует – все отдал. Дочь его Таня помогла. Чудесная, между прочим, девушка. Она тоже не знала, куда заховал свои «сбережения» папаша, но знакомых его припомнила. У кого на даче, у кого в разных других укромных местах и обнаружились казаковские запасы.
– В общем подлец, жулик, – со злостью проговорил Данилин и, обращаясь к обоим собеседникам, спросил: – Думаю, думаю и никак не могу понять таких людей. Ну нахапал Казаков эти тысячи. Что же дальше? А помните, дело Рокотова слушалось в Москве? Тот миллионами ворочал. Зачем они ему, спрашивается? Что он с этими миллионами – жрать мог в два горла, пить за троих? Психологию этих людей понять не могу. На Западе это понятно, там в золотом тельце смысл жизни, но как у нас вырастают такие уникумы?
– Мы у себя в отделе тоже нередко решаем эти шарады. Ну что можно сказать об этих типах? Обычно это себялюбцы, эгоисты. Они, видите ли, тверже и весомее себя чувствуют, когда у них нахапано побольше. Психология обывателя – побольше запасти на черный день. Но есть тузы и еще худшего плана. И Рокотов, о котором вы говорите, именно таков. Людям этой категории тесно у нас, наши нормы их связывают. И они лелеют мечту оказаться где-нибудь там, за рубежом. Для этого и запасаются. Ваш Казаков, конечно, масштабом поменьше, но тоже проходимец, каких мало. В самом деле, что ему было надо? У него же имелось все, что нужно для хорошей, более чем обеспеченной жизни. И все-таки хищения для него стали привычным и естественным делом. А то, что до сих пор все проходило безнаказанно, поощряло его преступную деятельность.
– Но почему же все-таки он так долго не попадался?
Березин задумался ненадолго, затем размеренно проговорил:
– Здесь тоже есть своя закономерность. Способность к мимикрии. Такие «деятели» обычно имеют неплохую голову на плечах. Они прекрасно предвидят последствия своих преступных действий и все свои способности направляют на маскировку.
Данилин и Быстров переглянулись. Капитан Березин явно просвещал их и был доволен, что может преподать некоторые криминалистические и психологические истины этим столь авторитетным и уважаемым товарищам. Но его собеседники не обиделись. Пусть с некоторым превосходством, с этакой чуть заметной нравоучительностью, но говорил-то парень разумные вещи.
А Березин, несколько увлекшись, продолжал:
– Четверня – тип другого характера. Такие не всегда предвидят последствия своего поведения, подчиняясь больше чувству, чем рассудку, идут за более сильными. У людей типа Четверни обычно узкий кругозор, да и вообще они туповаты. Безволие и пассивность, отсутствие единства между словом и делом – их типичные черты. И не случайно, что Казаков полностью подчинил Четверню своему влиянию.
– Порой мы как-то иронически, не очень серьезно стали говорить о пережитках в сознании людей, – в раздумье сказал Быстров. – А они есть и еще будут долго. И надо во сто крат больше заниматься их искоренением. Не простое это дело, очень не простое.
Обращаясь к Березину, он спросил:
– Ну и что же теперь?
Капитан отодвинул от себя тяжелые синие папки.
– Следствие закончено. Обвинительное заключение прокуратурой утверждено. По моему мнению, судить этих дельцов надо здесь, на стройке.
Данилин и Быстров переглянулись. Затем Быстров проговорил:
– Безусловно, здесь. Пусть люди все узнают, все услышат, острее и пристальнее будут смотреть вокруг себя.
Березин, попрощавшись, ушел. А Данилин и Быстров долго сидели молча. Тяжелый, мутный осадок был у каждого в душе. Потом Алексей, посмотрев на Данилина, спросил:
– Ну, что скажешь, Владислав Николаевич?
Данилин с брезгливой гримасой ответил:
– А что тут говорить? Пойдем лучше на участки.
Через минуту они уже шагали по направлению к стройплощадке, сияющей огнями, полной шума и грохота, полной деловитых, радующих их сердца звуков.
Глава XXVIII. Простить легче – забыть трудней
Письмо было от Риты Бутаковой, подруги Вали, Виктор сразу узнал ее смешной, какой-то скачущий почерк. Конверт он не вскрывал долго: боялся разбередить свою рану, заживавшую медленно, все еще по-прежнему ноющую.
Летом, после приезда из Песков, Виктор долго не мог обрести равновесие. Все было безразлично, все люди сделались удивительно неинтересными, события, происходящие вокруг, – мелкими. Огромным усилием воли заставлял себя выглядеть спокойным, тянуть дела в комитете.
Спасало то, что все окружающее жило бурной, напряженной жизнью. Ритм ее был настолько стремителен, что захватывал каждого.
Попробуй углубиться в свои переживания, когда в день тебе надо побывать в десятках мест – в парткоме, у начальника стройки, на двух-трех участках, в горкоме, а то и в Москве. За день встретишься не с одним десятком людей. У одного что-то не ладится с бригадиром, у другого – из дома плохое письмо пришло, у третьего претензия: когда, наконец, в Лебяжье завезут мебельные гарнитуры? А у тебя самого тоже немало вопросов к ребятам. У одного надо узнать, почему перестал ходить в техникум, у другого – проведена ли беседа на пионерском сборе. Директор школы звонил сам и напоминал. Третьего надо отругать: несерьезно к делу стал относиться, бригадир заявил, что придется отчислять. К тебе, бригадир, тоже вопрос: грубовато с ребятами себя держишь. Обижаются. В чем дело? А сколько еще вопросов к комсоргам, членам комитета, сколько за день надо начать и закончить дел! Одним словом, у комсорга стройки не очень-то много минут для личных переживаний. Только по ночам, когда утихали неугомонные любители танцев в «Прометее», уходили на покой пары-полуночники и замолкал поселок, Виктору уже трудно было отделаться от своих мыслей. Он вспоминал все, что было связано с Валей, год за годом, день за днем. Особенно ярко вставала в памяти их встреча этим летом. Трудный, натянутый разговор, и Валя – чужая, холодная, с виноватым, смятенным и в то же время независимым, даже вызывающим взглядом.
В письмах друзей, что приходили из Песков, про Валю упоминалось теперь уже совсем редко. Виктор понимал: ребята делают это не случайно, щадят его. А он все искал в их письмах хоть слово, хоть строчку о ней.
И вот письмо от Риты Бутаковой.
Странные, противоречивые мысли и чувства вызвало оно у Виктора. Сначала его охватило злорадство, он даже усмехнулся презрительно, отчужденно, словно бы говоря: «Что ж, дорогуша, пожинай плоды собственного легкомыслия и глупости».
Но тут же щемяще-беспокойное чувство наполнило все существо Виктора: Валя в беде… И если он любит ее… Любит? Ну нет… На этом Виктор оборвал себя, заставил думать о чем угодно, только не об этом. Однако через несколько минут опять, в который уже раз, стал перечитывать письмо Риты. Длинное, путаное, оно дышало лихорадочной, нескрываемой тревогой. Каждая строчка кричала: у Вали беда, у Вали плохо.
«Ты ведь знаешь, – писала Рита, – какая она доверчивая и неопытная в жизни. А выяснилось, что у него – у Санько – в Костроме есть семья. Валя узнала об этом случайно. Что она пережила – трудно рассказать. Но оказалось, что характер у нее все-таки есть.
Потребовала от Санько, чтобы убирался с глаз долой, буквально выгнала его. Оставаться в Песках она не хочет, тяжело ей. Я советовала написать тебе – не решается. Подумай, Виктор, как быть? Может, что посоветуешь? Она собирается ехать куда-нибудь на север. Я отговариваю. Куда она поедет одна, такая пичуга?»
И, перечитывая письмо, Виктор то вновь ненавидел Валю, то убеждал себя, что совершенно безразличен к происшедшему, то упрекал себя: мстить человеку в беде подло, а Вале – тем более.
Потом Виктор начинал раздумывать над обыденными, житейскими вещами: «Почему ей надо уезжать из Песков? А впрочем, правильно. Школу-то кончила, пора определяться. Да и вообще там, наверное, нелегко ей. Одна-одинешенька. При ее неопытности да застенчивости, конечно, нелегко. Народ там хотя и хороший, но, поди, нет-нет да и бросит кто-нибудь злую шутку в ее адрес. Дуреха, ей-богу, дуреха. Ехала бы к нам, что ли». Виктор представил Валю в шумной, задиристой бригаде Завьяловой. Да, эти в обиду бы ее не дали. Однако Виктор тут же оборвал себя: «О чем ты думаешь? Что ей здесь делать? С какой стати и почему она приехала бы сюда? А, собственно, почему бы и нет? Работы здесь полно, общежитие дадут. Да и я, несмотря ни на что, смог бы помочь ей. На первых порах таким, как Валька, обязательно нужна поддержка… Только почему, собственно, ты строишь эти планы? Она не докучает тебе, даже к помощи твоей не прибегла, сама устраивает свою жизнь и на тебя, кажется, не покушается. Чего же ты носишься со своими мыслями?»
…Когда весной бурно тают снега, в большие реки устремляются все ручейки и речки. Они несут с собой талые воды с полей и дорог, опавшие листья из лесных затопленных рощ, вывороченные корневища умерших деревьев, прихватывают все накопившееся за лето, осень и зиму на их берегах. Но вот схлынули полые воды, уходит в низовья, оседает на дно клубящаяся буро-желтая муть в реках, и они текут прозрачно-чистые, весело, звонко шумят среди зеленеющих полей и лесов…
Нечто подобное происходило и в душе Виктора Зарубина. Медленно, но неуклонно освобождался он от мыслей, что шли от обиды, оскорбленного самолюбия. Они, эти мысли, блекли, меньше будоражили душу. Их место занимала постоянная, все более обострявшаяся тоска по Вале.
Через неделю после получения письма Риты он послал две телеграммы – одну Вале, короткую и решительную: «Приезжай в Каменск, жду». И вторую Рите: «Уговори ехать в Каменск. Работа, жилье обеспечены. Хорошо бы и тебе к нам податься».
…Встречать Валю Виктор поехал не один, пригласил с собой Катю Завьялову. Дорогой рассказал ей историю, приключившуюся с девушкой, не скрыв, какое место она занимала в его жизни. Условились, что завьяловские девчата берут Валентину к себе в бригаду. Жить тоже устроят у себя.
Катя шутя спросила Виктора:
– Так кого же мы встречаем? Члена моей бригады или будущую жену комсорга «Химстроя»?
Виктор, вздохнув, ответил:
– Нет, Катя. Разбитое не всегда склеишь.
Катя удивленно воскликнула:
– Неужели и Виктор Зарубин из таких? Не верю. А я-то думала, ты настоящий парень. Все уши девчонкам об этом прожужжала.
Виктор серьезно, задумчиво проговорил:
– Простить-то легче, вот забыть – забыть трудней.
Поезд медленно, будто устав от долгого пути, подошел к перрону. Валя стояла на подножке и искала глазами Виктора. Встречающих было много, и она его нашла не сразу. А Виктор увидел ее тут же. Из-под черного, расцвеченного красными маками и зелеными листьями платка выбивается все та же вечно мешающая ей, спускающаяся на глаза легкая золотистая прядь. Виктор вспомнил, как Валя смешно и ловко одним выдохом водворяла ее на место.
Наконец Валя тоже заметила его. В глазах мелькнула радость, откровенная, неприкрытая. Но тут же будто кто-то взял да и погасил вспыхнувшие в глазах огоньки.
О Викторе Валя думала, в сущности, всегда. Даже те недолгие месяцы, когда была с Санько. И постоянно в ней жило чувство вины перед Виктором. Обрушившееся на нее горе толкнуло на мысль поехать в Каменск, разыскать Виктора. Она очень, очень нуждалась сейчас в нем. Но убедила себя: надежды пустые и никчемные. «Какой опорой после происшедшего может быть Виктор? Зачем ты нужна ему? И нечего прятаться за чьи-то плечи. Теперь надейся только на себя». Это стало правилом, нормой поведения. Она заставила себя начисто, как дурной сон, забыть Санько. И добилась этого, хотя только она знала, сколько ночей было проплакано. Валя решила уехать из Песков на одну из строек, но не сюда, не в Каменск. Она ведь, наконец, приучила себя – еще одна победа – не думать часто, как было раньше, о Викторе. Его телеграмма была для нее полной неожиданностью. По решительному тексту было ясно, что он узнал все. Но откуда? Валя сначала обрадовалась, а потом засомневалась: «Что я там буду делать? И с ним как? Стыдно же в глаза глянуть». Ритка ничего слышать не хотела: «Поезжай, и все тут. Лучшего ничего не придумаешь. Видишь же, пишет: работа, жилье, – все есть. Ну, а там, глядишь… Сердце-то ведь не камень. Любит он тебя. Это уж точно». Валя с досадой отмахнулась: она вовсе не думает навязывать себя кому бы то ни было. Она едет работать, и только.
Однако, когда увидела Виктора на перроне, радости сдержать не смогла. Но скоро заметила и стройную черноволосую девушку рядом с ним. Сердце похолодело: «Вдвоем встречают. Что ж, правильно. А красивая-то какая. Что ж, пара хоть куда». И чуть отчужденно проговорила, обращаясь к Виктору:
– Ты извини, что я сюда, к вам, подалась. Найдется мне что-нибудь на вашем «Химстрое»? – И тут же, чтобы все было ясно, добавила: – Обузой никому не буду.
Виктор, улыбнувшись, ответил:
– Не беспокойся. Вот представляю: один из самых наших отчаянных бригадиров, Катюша Завьялова. Прошу знакомиться. Будешь под ее крылом и жить и работать.
Катя подошла к Валентине, крепко встряхнула ее руку, деловито спросила:
– Где ваши корзинки, коробки, картонки? Забираем – и на электричку. Обсудим все по пути. Подробно, как в ООН.
…Когда шли по перрону, Валя, чтобы не потеряться в вокзальной сутолоке, крепко держалась за руку Виктора и все никак не успевала за его крупным, широким шагом. Виктор с какой-то грустной радостью вспомнил, что вот так же она семенила за ним, когда ходили в школу, да и потом, позже… И так же держалась за его руку.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
После осмотра выставки из Каменска до «Химстроя» решили идти пешком.
Осеннее солнце, хоть и не очень горячее, но все еще ласковое, наполняло все вокруг янтарно-прозрачными красками, нарядно и ярко высвечивало осеннее разноцветье окрестных рощ, с полей доносился деловитый стрекот моторов, терпко пахло дымом от разбросанных по полям костров.
Всю дорогу шел горячий, оживленный спор. Особенно бурные дебаты разгорелись между Удальцовым, Зайкиным и Хомяковым. Казалось, дело у них вот-вот дойдет до настоящей ссоры. Зарубин уж не раз останавливал их, но через минуту схватка разгоралась вновь.
Выставка, которую смотрели химстроевцы, была организована в клубе одного из научных институтов и вызвала немалый шум. В Каменск приезжали любители живописи даже из Москвы, о чем, захлебываясь от восторга, рассказывал Хомяков. Ребята из комитета, ревностно следившие за тем, чтобы химстроевцы ни в чем не отставали от жизни, тоже решили, что выставку стоит посмотреть.
Костя Зайкин в который уже раз наскакивал на своего главного оппонента Хомякова:
– Нет, ты мне все-таки скажи, для кого пишут эти молодые непризнанные гении?
– Для тех, кто хоть что-нибудь понимает в искусстве.
– Ладно, допустим, я не принадлежу к этой категории и не претендую на это. Но нас было-то, наверное, человек сто, а то и больше, а восторгов что-то не слышно.
– Уровень культурный повышать надо.
– Опять согласен. Но все-таки объясни, что означает, например, то полотно, где на фоне пейзажа – гигантская бутылка русской горькой? Или другое, помнишь – большой лист старинной грамоты с древнеславянскими письменами и по этой грамоте два следа от подошв современного ботинка? Это что такое? Современность топчет все, что было до нее? Так, что ли?
– А ведь иногда и топчет, а? Ведь факт?
– Ну так выходит, Костя правильно понял мысль художника, – заметил Зарубин.
За Хомякова ответил Удальцов:
– Даже ты упрощаешь, Виктор. А тебе-то уж следовало бы на вещи смотреть глубже.
– Как ни крути, это претензия на символ. А символ есть обобщение.
– Подожди, Виктор. Помнишь, ты как-то все носился с книжкой о художниках эпохи Возрождения?
– Ну и что?
– Так вот они к своим шедеврам шли тоже путем исканий.
– Не спорю. Когда они писали картины, возвеличивающие их общество, на заднем дворе этого самого общества шла травля людей, попирание личности и многое другое. Но звали-то художники человека к тому, чтобы он стал хорошим. Куда же зовут авторы этих картин?
Хомяков раздраженно проговорил:
– Что вы все берете частности? Говорю же вам, надо шире все это понимать.
Зарубин, не обращая внимания на его нервозность, продолжал:
– И все-таки приведу еще одну частность. Припомните еще одно полотно. Там изображена земля, пустыня и черное небо, и над всем этим взвился змий с жирным телом и маленькой головкой, которая уставилась на зрителя двумя огненными злыми глазами. Я когда посмотрел, то почувствовал горькую обиду. Неужели художники представляют себе мир как пустыню, над которой распростерся змий?
Хомяков с усмешкой проговорил:
– А вам бы все такие картины, какую я видел как-то на выставке в Москве. Тогда вышел указ: не кормить хлебом свиней. И вот появился «шедевр» огромных размеров: свиньи едят белый хлеб, рядом стоит мужик – руки в помоях – и назидательно грозит зрителю пальцем. Может, вас такие полотна устраивают?
– Ну зачем же ты нас-то в этаких чудаков превращаешь? – спокойно ответил Зарубин. – Для нас искусство вроде старого друга, которого забываешь на годы, а когда тебе тяжко, к нему приходишь. Трудно тебе – возьмешь Пушкина, Толстого, Чехова. Или в музей идешь – к Рембрандту, Репину, Левитану. Вот такого искусства, к которому в такой момент потянуло бы, сейчас у нас очень мало.
В ответ на его слова Удальцов задумчиво произнес:
– Нужно не забывать, что художник – человек, как и все, и как человек, аккумулирует в себе все явления времени. Он выражает думы эпохи. Гейне говорил, что через сердце поэта проходит трещина мира. Художники отражают жизнь, какая она есть, какой они ее видят. И если вы, дорогие друзья, не понимаете этого, то тут уж виноваты не художники.
– Вот это – не в бровь, а в глаз! – восторженно произнес Хомяков.
Но на Удальцова набросился Зайкин:
– Понятно, значит, в том, что выставка нам не понравилась, виноваты мы сами?








