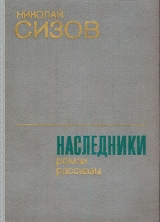
Текст книги "Наследники"
Автор книги: Николай Сизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Казаков глубоко затянулся папиросой, закашлялся. Глаза покраснели, лицо покрылось капельками пота. Кашлял долго. Надо было выиграть время, обдумать, что же сказать дочери, сказать вот сейчас, в эту минуту. Позже можно будет как-то объяснить, успокоить. А сейчас? Что сказать сейчас? Ни одной подходящей мысли в голову не приходило.
Видя, что, ничего не ответив, отец уходит в комнату, Таня сквозь слезы надрывно выкрикнула ему вслед:
– Ты не уходи, а ответь! Неужели мой отец… вор?
Петр Сергеевич круто повернулся к дочери. Таня отшатнулась. Он был бледен как полотно, глаза прищурились, побелели. В них было столько злобы, что Таня испугалась и обрадовалась одновременно. «Раз он так обозлен, значит, обижен, оскорблен и… не виноват?»
Но ей пришлось очень скоро расстаться с этой мыслью. Казаков грубо толкнул ее в свою комнату. Подойдя к серванту, лихорадочно рванул на себя крышку верхнего ящика.
Таня стояла у двери, с недоумением глядя на отца.
– Иди, иди сюда. Вор… Как у тебя язык повернулся?
Каким-то внутренним чутьем Татьяна вдруг поняла: в этом серванте, ключи от которого отец всегда держал у себя, видимо, кроется ответ на все, что произошло сегодня.
Казаков снял плотную бумагу, покрывавшую содержимое ящика, и, с прежней злостью глядя на дочь, хрипло выдавил:
– Вот смотри. Все это – тебе, все твое.
Таня боязливо подошла ближе. В ящике, тесно прижатые друг к другу, лежали пачки денег. Их было много, этих аккуратно уложенных тяжелых бумажных брусков. А Казаков открывал уже второй ящик. И в нем тоже лежали плотные, тугие пачки.
– И это тоже тебе, – Казаков достал из-под пачек сберегательную книжку и бросил на стол.
Чтобы не упасть, Таня прислонилась к стене. Теперь все было ясно. Глубокое, безграничное отчаяние, почти физическая боль во всем теле, в каждой его клетке – вот что было самым острым ощущением тех минут, запомнившихся на всю жизнь.
Чувство ненависти к отцу, омерзения к толстым пачкам охватило Таню с такой силой, что она, не помня себя, рванулась к ящикам, оттолкнула Петра Сергеевича и, выхватив несколько хрустящих новеньких связок, швырнула их к двери. Узкие коричневатые ленты оберток не выдержали, и купюры фиолетово-розовым листопадом разлетелись по комнате. Они падали на пол медленно, будто удивленные таким невиданным к ним отношением. А Таня, не помня себя, все швыряла и швыряла к двери ненавистные тугие пачки.
Казаков остолбенел. Им овладел тот слепой, неистовый гнев, в котором человек способен на убийство. Он рванулся к дочери, с силой оттолкнул ее от серванта и наотмашь ударил по лицу. Ударил еще раз. Скверно, грязно выругался и бросился подбирать деньги.
Таня с плачем выбежала из комнаты. В коридоре она остановилась, не зная, куда кинуться, что предпринять. Затем ринулась в свою комнату и, глотая слезы, стала лихорадочно бросать в чемодан вещи. Решение уйти, уйти сейчас же пришло сразу, без раздумий, как единственный выход.
Скоро в комнату вошел отец.
Увидев раскрытый чемодан с набросанными в него в беспорядке вещами, резко спросил:
– Что это такое?
Таня, не глядя на него, глухо ответила:
– Я ухожу.
– Что значит – ухожу? Куда?
Таня с такой ненавистью посмотрела на отца, что Казаков попятился и хрипло выговорил:
– Можешь катиться ко всем чертям. Но помни: обратно не пущу. – И, с силой толкнув дверь ногой, вышел из комнаты.
Наскоро набросив пальто и платок, боясь, что отец может прийти вновь, задержать ее или опять начать злобную ругань, Таня, кое-как закрыв чемодан, выбежала из квартиры. Казаков слышал, как уходила дочь, но даже не вышел в коридор. Бездумно сидел он за столом и мял, мял в руках бахрому льняной скатерти.
На улице Таня остановилась. Куда ехать? В общежитие, конечно, в общежитие к девчатам. Однако тут же вспомнила: девчат-то ведь нет. Каникулы же. Как она пожалела, что не согласилась уехать со вторым потоком в Ленинград! Ее ведь очень уговаривали. Не было бы тогда этого ужасного вечера. Но сразу же подумалось: то, о чем говорили они, есть, значит, эту страшную правду ей все равно пришлось бы узнать.
Корпус институтского общежития встретил ее темными окнами и закрытыми дверьми. Посмотрев сквозь запыленное дверное стекло, Таня увидела, что вестибюль завален досками, заставлен какими-то бочками. Институтские хозяйственники, пользуясь каникулами, затеяли ремонт, о котором так много и шумно говорилось на студенческих собраниях.
Таня долго стояла в раздумье, потом вдруг вспомнила о Зине Бутенко. И как же это она раньше о ней не подумала! Но, видимо, сегодня ей суждены были сплошные неудачи. Квартира Зины была заперта. Соседка по лестничной клетке объяснила, что Бутенки еще вчера уехали куда-то за город, кажется, к родителям Зины. Таня поблагодарила и стала медленно спускаться по лестнице. И тогда ей пришла в голову мысль, которая как-то сразу и согрела ее и взбодрила. Она вспомнила Быстрова. «Только где я сейчас его разыщу?» Посмотрела на часы. Десять. Вспомнилось, что гости отца говорили о каком-то собрании на стройке. Может, он еще там? Таня торопливо вышла на улицу. В соседнем доме почтовое отделение. На этот раз ей повезло. Каменск дали сразу. Таня с волнением ждала, пока телефонистка на коммутаторе «Химстроя» вызывала партком. И наконец раздался голос Быстрова:
– Слушаю вас, слушаю. Кто говорит?
Таня, уняв волнение, проговорила:
– Алексей Федорович, это Таня… Мне очень, очень нужно вас видеть, сегодня, сейчас. Я в Москве. Приехала к Зине, а там никого нет дома.
По взволнованному, прерывающемуся голосу Тани Быстров понял, что у нее случилось что-то очень серьезное.
– Я выезжаю. Подождите меня. Я буду скоро.
…После той первой встречи на пустынных тогда Каменских выселках Алексей все чаще и чаще думал о Тане. Всех женщин, с которыми он сталкивался, теперь как-то подсознательно сравнивал с ней. Кто-нибудь улыбнется – он думает: а Таня улыбается не так, мягче, веселее, радостнее. Услышит песню, думает: а как, интересно, поет Таня? Какие песни она любит? Какой у нее голос? Поступит кто-нибудь некрасиво, бестактно, не по-женски – Алексей обязательно скажет себе: Таня бы так, конечно, не сделала…
Быстров и раньше-то избегал легких встреч, теперь же он стал их просто чураться. Одна его давняя знакомая, убедившись в тщетности попыток затащить Алексея к себе в гости, в сердцах воскликнула:
– Да ты что, Алексей, обет святости дал или влюбился?
Быстров помолчал и, несколько виновато улыбнувшись, ответил:
– Знаешь, кажется, действительно влюбился. Как говорится, седина в голову – бес в ребро.
Алексей не знал, когда, при каких обстоятельствах он скажет Тане о своем чувстве, но был уверен, что рано или поздно это произойдет. Он придумывал множество планов, но отвергал их один за другим. Тот был слишком смел, этот робок, а третий казался нереальным или даже смешным.
К делам построечной комсомолии Алексей всегда чувствовал непреоборимое тяготение, но теперь он еще чаще стал появляться на вечерах в «Прометее», на экскурсиях по городу или в театре, и это в значительной мере объяснялось тем, что Алексей надеялся увидеть Таню. Ребята этого, конечно, не знали. Но Таня видела и понимала, что Алексей Быстров относится к ней по-особому, не раз ловила на себе его пристальный, теплый взгляд. В нем было столько молчаливого восхищения, что Таня порой отворачивалась, чтобы скрыть смущение и растерянность.
Ей тоже был симпатичен Быстров, она видела, что его чувство глубоко и искренне. Услышав в трубке голос Алексея, она впервые за сегодняшний вечер вздохнула с облегчением. На секунду ей даже показалось, что все не так уж мрачно и безысходно.
…Когда сели в машину, Алексей, взяв в свои руки холодные, подрагивающие пальцы Тани, спросил:
– Так что же случилось?
Услышав в голосе Алексея глубокую, неподдельную тревогу, Таня вдруг уткнулась ему в плечо, заплакала горячо и надрывно, не пытаясь сдержать слезы.
– Что-нибудь с Петром Сергеевичем?
С трудом подбирая слова, перескакивая с одной мысли на другую, Таня рассказала о сегодняшних гостях, их споре, о страшных словах, которые произнес незнакомый ей человек, некий Шмель, о том, как ушла из дома.
Чем больше Алексей слушал Таню, тем меньше оставалось сомнений: события, разыгравшиеся в доме Казаковых, имеют прямую связь с теми фактами, о которых рассказали на днях ему и Данилину ребята из комитета комсомола. Да, все выглядело теперь иначе, чем раньше. Подробно вспоминать, анализировать и сопоставлять факты не было сейчас времени. Рядом сидела и плакала Таня…
В доме на Старозаводской еще не спали. Наталья Федоровна, как всегда, поджидала сыновей. И хотя Алексей приезжал редко, а Сергей, видимо, вообще сегодня не вернется – ушел с ребятами в какой-то поход, – все равно она ждала обоих.
Увидев Алексея с незнакомой девушкой, Наталья Федоровна вопросительно посмотрела на сына.
– Мама, это Таня Казакова. Несчастье у нее дома.
– Кто-нибудь умер?
– Нет, нет, не то. Потом объясню.
– Ну ладно, ладно. Мало ли какие беды случаются. Вы раздевайтесь пока, к столу садитесь. Сейчас ужин соберу.
– Тане надо бы прилечь.
– Ужин не повредит, – решительно заявила Наталья Федоровна. – А потом уж и приляжет.
Скоро они сидели за столом. Алексей, боясь, что Наталья Федоровна начнет расспрашивать Таню о случившемся, сам без конца задавал вопросы: о новостях, о Сергее, о том, как она себя чувствует.
– Да что ты мне допрос учиняешь? – сердито отмахнулась Наталья Федоровна. – А о себе ни слова. Сам-то как? Целую неделю не показывался. Не стыдно мать-то мучить?
– Всё дела, мама.
Наталья Федоровна безнадежно махнула рукой и посмотрела на Таню. Девушка сидела молча, поглощенная своими мыслями. Она старалась гнать их от себя, пыталась слушать ворчливый голос Натальи Федоровны и добродушно-виноватые объяснения Алексея, но это ей удавалось плохо.
Наталья Федоровна спохватилась.
– Заболтались мы с тобой, а гостья совсем измучилась, ей и впрямь спать надо. Пойдем, милая, я тебя уложу. Отдохнешь, оно и легче на сердце-то станет.
И, обратившись к Алексею, приказала:
– Ты тоже ложись. Очень уж ты посерел, Алешка. Как старый гриб.
Алексей улыбнулся, посмотрел на Таню.
– Видите, какая у нас обстановочка. Критика невзирая на лица. Ну, спокойной ночи.
Но не получилась спокойной эта ночь в доме Быстровых. Наталью Федоровну вдруг разбудил громкий несвязный говор, доносившийся из комнаты, где спала Таня. Войдя туда, она увидела, что девушка мечется в горячечном бреду. Лицо ее пылало, волосы раскинулись по подушке, она металась, что-то выкрикивала, плакала.
Только к утру какие-то таблетки и капли, что давала ей Наталья Федоровна, кое-как успокоили Таню, и она забылась тяжелым, беспокойным сном.
Часов в восемь Алексей собрался уезжать.
– Ты, мама, поаккуратней с гостьей-то, ладно? Не докучай расспросами.
Наталья Федоровна с напускной строгостью и обидой посмотрела на сына:
– Учи, учи мать… Будто маленькая она, будто не понимает.
– И Сереге скажи, – продолжал Алексей, – пусть поможет тебе, в чем нужно, врача там вызвать или еще что…..
– Ладно, ладно. Привык на своем «Химстрое» инструкции читать. Иди, а то на работу опоздаешь. Да смотри сегодня домой обязательно приезжай.
Озабоченный, полный тревожных мыслей, Алексей уехал в Каменск. Всю дорогу он думал о Тане, о происшедшем. Неужели Казаков и впрямь замешан в каких-то темных делах? Ведь заместитель начальника стройки больше двух десятков лет в партии и в общем-то деловой, энергичный работник. Правда, прорех у него много, но это дела другого порядка, у кого их нет, прорех этих? Не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает. Но деньги, столько денег! Откуда? Конечно, работает он давно, семья маленькая, мог накопить. Мог. Но столько? Ты тоже, Быстров, работаешь давно, а много ли скопил? Алексей вспомнил, как они недавно подсчитывали свои ресурсы. Очень хочется Сергею «Яву» купить. Их «антилопа» давным-давно почивала на свалке. Но черта с два. Придется Сереге подождать. Запасы-то не очень густы.
Приехав, Быстров сразу направился к Данилину. Тот был один – нещадно ругался по телефону с кем-то из главка. Положив трубку, не остыв еще от горячего разговора, он с той же запальчивостью обратился к Быстрову:
– Представляешь, эти умники никак не удосужатся документацию по кузнечно-прессовому закончить. Металлоконструкции для перекрытий никак не можем заказать. Как люди не понимают, что каждый час дорог?! А ты, парторг, раз настоял на комплексном ведении работ, то помогай. А то скажешь потом – Данилин не обеспечил одновременную сдачу объектов; не случайно он, мол, с самого начала против был.
Но Быстров заговорил совсем о другом, огорошив Данилина весьма странным вопросом:
– Скажите, Владислав Николаевич, много у вас денег накоплено?
Данилин удивленно поднял брови, начал медленно краснеть и с недоумением переспросил:
– Ты это что, серьезно?
– Совершенно серьезно.
– Тогда позволь тебя спросить, какое тебе дело до моих ресурсов?
– Никакого дела нет. Просто интересно знать. Сначала скажите, потом объясню.
– Ну что ж, могу сказать как на духу. Было побольше – дочь замуж выдавал недавно, поиздержался. Но тысчонка на книжке осталась. Еще рублей сто вот тут, в сейфе. Это, так сказать, сугубо личный резерв. Как говорится на мужском языке, заначка от жены.
Быстров вздохнул.
– Скажите, а у Казакова большие сбережения могут быть?
– Очень больших, думаю, нет, хотя кое-какие запасы, безусловно, имеются. Живет вдвоем с дочерью, зарплата немалая, премии. Думаю, что не бедствует.
– То, что не бедствует, знаю. Но дело не в том…
Быстров передал Данилину разговор с Таней.
Владислав Николаевич слушал молча, хмуря густые, клочкастые брови.
– История, конечно, странная, – сказал он, – но и поверить, что Казаков замешан в чем-то таком, тоже трудно. Зачем это ему? Жить, что ли, не на что? Да и возраст такой, что деньги в некоторых делах не помогут.
– Все так. Но как вы объясните их спор, скандал, угрозы Шмеля? Кстати, кто это – Шмель?
– Шмель… Шмель… Кажется, у Богдашкина есть такой работник.
– Владислав Николаевич, помните, недавно комсомольцы были у вас по поводу цемента? Вы тогда хотели разобраться что к чему. Удалось?
– Интересовался. Как я и предполагал, ничего такого особенного. Расплачиваются с долгами.
– Боюсь, что вы не очень-то разобрались во всем этом.
– Возможно. Следователь из меня липовый. Я, знаете ли, привык людям верить.
– Люди-то разные бывают, Владислав Николаевич.
– Согласен. Но прошу об одном: не делайте поспешных выводов. Очернить можно любого, а вот доброе имя восстановить…
Вечером Быстров позвонил в Каменск секретарю горкома партии и, коротко рассказав о событиях, попросил поручить проверку фактов людям потолковее.
– Дело, знаете, такое… Не хотелось бы без особых причин порочить ни людей, ни стройку.
– Не беспокойтесь, – ответил секретарь горкома. – Поручим капитану Березину. Он именно такой товарищ, какого вы хотите.
Глава XXIV. Казаков приходит в партком
Быстров понимал, что разговор с Казаковым должен состояться. Думал сам пригласить его, но не мог преодолеть какого-то внутреннего сопротивления. Когда Петр Сергеевич позвонил и сказал, что хочет зайти, Алексей лаконично ответил:
– Пожалуйста. Жду вас.
И вот Казаков перед ним. Оба чувствовали себя напряженно, не могли глядеть друг другу в глаза, долго не знали, с чего начать разговор.
Быстров злился на себя: «Что это я, будто виноват перед ним? Виноватым-то он должен себя чувствовать».
Весь следующий день после ссоры с дочерью Казакова не было на стройке. Он позвонил откуда-то из города и сказал, что до вечера будет в главке. Но назавтра, как только появился в кабинете, ему позвонил Данилин:
– Что у вас произошло?
Стараясь говорить спокойно, Казаков переспросил:
– А что такое, Владислав Николаевич?
– Ну, дома, дома что случилось? Татьяна ваша где?
– Не знаю. Ушла.
– Вот то-то и оно. Ваша дочь у Быстрова.
– Разрешите, я зайду к вам?
– Сейчас я занят, товарищи из министерства приехали. Как освобожусь – позвоню.
Известие, что Таня у Быстрова, поразило Казакова как гром среди ясного неба. Почему у Быстрова? Как она попала к нему?
Петр Сергеевич вообще был недоволен знакомством дочери с Быстровым и давно подумывал о том, как расстроить их зарождающуюся дружбу. От практических шагов его удерживали лишь некоторые чисто деловые соображения. Быстров на стройке был человеком влиятельным, и пренебрегать возможностью поддержки секретаря парткома Казаков не хотел. Вот почему, кроме едких замечаний Тане по поводу ее великовозрастных поклонников и седовласых ухажеров, он пока ничего не предпринимал. Зная, как дочь прислушивается к его мнению, Петр Сергеевич полагал, что слова его не пропадут даром и недалеко время, когда Таня сама даст от ворот поворот еще одному незадачливому вздыхателю. Но сама. Он же будет в стороне.
Что, уйдя из дома, Таня побежит к Быстрову, Петр Сергеевич не мог и предположить. Это его сейчас испугало больше всего. Ведь она могла рассказать об их ссоре. Тогда беда. Острая тревога охватила Казакова. Прямо спросить у Данилина, знает ли он что-либо и, следовательно, знает ли Быстров, он не решился. Положив трубку, Казаков обтер холодный пот со лба и нервно закурил. Вошедшему секретарю махнул рукой:
– Потом, потом.
«Что делать? Что делать? Пойти к Быстрову? Да, сейчас же, немедленно». Лихорадочно, торопливо снял трубку телефона.
И вот он сидит перед ним. Одна мысль сверлит его мозг: что знает Быстров, о чем говорила ему Татьяна?
Всю ночь после ухода приятелей и дочери Казаков не спал. Тревожные, гнетущие мысли сменялись надеждой. В конце концов он ведь в делах Шмеля и его компании впрямую не участвовал. Четверня тоже мужик с головой, воробей стреляный, на мякине его не проведешь, не продаст, не выдаст. Кому, в самом деле, придет в голову связывать какого-то Шмеля с заместителем начальника строительства? Бросьте камень на середину большого пруда. До берега дойдут лишь слабые, еле заметные волны, пошелестят в прибрежной осоке – и все… Но такие утешающие мысли держались недолго.
Все сложилось так, что предугадать события было абсолютно невозможно. Пойдет ли дальше история с этими идиотами, которые попались в Тимкове? И этот совершенно неуместный приход Шмеля. Ведь было условлено, что даже в самом крайнем случае он не должен «выходить» на Казакова. Приперся. Будто не мог передать свои дурацкие просьбы и угрозы через того же Четверню. Перепугался, идиот. А так было бы очень просто: не знаю такого, и все. Теперь же, если Татьяна рассказала Быстрову… Хороша дочка… Мало того, что целую драму устроила и из дома сбежала, того гляди еще и топить отца начала.
Все эти мысли проносились в мозгу Казакова, пока он сидел в парткоме и ждал, когда Быстров закончит разговор с Москвой. Речь шла о приезде на стройку группы иностранных студентов, которые хотели в каникулы помогать «Химстрою». Разговор затянулся. Казакову это было на руку, позволило еще и еще раз перебрать в памяти происшедшие события. Он краем глаза посматривал на часы. Время тянулось удивительно медленно. Всего двенадцать. До семнадцати еще долго, очень долго. Скорее, скорее бы они наступили. Через пять часов самолет умчит Шмеля. Так решено сегодня рано утром. Куш ему дан солидный. Год-другой просуществует безбедно. А на нем ведь сходится весь узел. Если Танька не разболтала, то все должно обойтись. Кое-кого накажут за халатность, за то, что недоглядели, как жулик на стройку пробрался, и все. Лишь бы Шмель улетучился.
Казаков вдруг представил себе ласковое Черное море, нагретую солнцем гальку, белые кружева пены на ней. Вздохнул. Неплохо бы и ему сгинуть отсюда куда-нибудь подальше, проститься с мрачными думами, не дрожать от каждого звонка, от каждого похожего на намек слова.
– Слушаю вас, Петр Сергеевич, – нарушил его размышления Быстров. Казаков встрепенулся, голос Быстрова показался ему спокойным, доброжелательным.
– Я зашел посоветоваться.
– Слушаю вас.
– Сначала хочу извиниться перед вами и поблагодарить. Вам пришлось помочь Татьяне… – Петр Сергеевич тяжело вздохнул. – Малые дети – малые заботы, вырастут – и заботы большие.
Петр Сергеевич замолчал, ожидая вопросов. Быстров, однако, тоже молчал.
Тогда Казаков, подняв на него тревожные, ищущие глаза, спросил:
– Как она себя чувствует?
Алексей спокойно выдержал его взгляд и ответил:
– Обрадовать не могу. Такие встряски бесследно не проходят. Пока у нас в Заречье, мамаша ее выхаживает. Завтра или послезавтра собирается перебраться в общежитие.
Казаков думал о том, как ему вести разговор дальше. Позарез нужно было узнать, что именно рассказала Татьяна. Но прямо ведь не спросишь. Надо это уловить по тону Быстрова, по его отношению к нему, Казакову, по взглядам и вопросам. Но Быстров говорил спокойно, ровно, и составить какое-то представление о том, что особенно интересовало его, Петр Сергеевич не мог. Но поскольку Быстров говорил с ним без подчеркнутой отчужденности, он предположил, что, возможно, все еще и не так страшно. А так как Шмель скоро сядет в самолет, то…
– Меня ужасно убивает этот наш разлад, – проговорил Казаков. – Верите, всю жизнь на нее положил, и так все обернулось. Вырастил себе наследницу…
Быстров внимательно посмотрел на Казакова и ровно проговорил:
– На Таню вы зря нападаете. Хорошая у вас дочь. Хорошая. А насчет того, какая наследница… Не все наследие подходит наследникам-то. Дайте им право выбора, что взять, от чего отказаться.
– Так-то оно так, Алексей Федорович. Только вам-то ведь этого не понять. Вся жизнь в ней была. Работал как вол, ни со временем, ни с чем не считался. В лишней рюмке себе отказывал. Ну, да бог с ней. Хочет жить сама – пусть живет. Хотя сердце у меня, прямо скажу, разрывается.
– Я понимаю вас. Но Тане тоже нелегко. К вам она привязана очень. Сейчас как обнаженный клубок нервов.
– Вольно же ей было надумать такое. Шутка ли, отца бросить. И из-за чего? Из-за ерунды. Мало ли что в семьях бывает.
– Значит, причин для такого решения у Тани не было?
– А какие причины? Какие могут быть причины? Ну, поссорились мы с приятелями, пошумели, переложили малость лишнего. Что ж тут такого?
– Петр Сергеевич, а что это за история с деньгами?
Вопрос был задан просто, без какой-либо особой интонации, но Казаков похолодел. Самое страшное, чего он больше всего боялся, случилось. Значит, дочь рассказала-таки Быстрову об истинных причинах их ссоры. Как бы ему хотелось узнать, что знает этот человек? Но Быстров сидел спокойный, хмурый и молчаливо ждал, что ответит Казаков. Откашлявшись, Петр Сергеевич нехотя, нарочито безразлично проговорил:
– А какая же тут история? Распсиховалась девчонка, она в этом отношении в мать, натура взбалмошная, взвинтится порой, удержу нет. Ну есть у меня кое-какие сбережения. Не ахти какие, правда. Говорю же вам, всю жизнь горб гнул. Так она их расшвыряла по комнате, топтать начала. Я ее и так и эдак утихомиривал. Пот, говорю, отцовский топчешь. Куда там – взбесилась, как оглашенная.
Помолчав, Казаков начал пространно толковать о том, как наживал свои сбережения. Быстров, однако, прервал его:
– Товарищ Казаков, а вам не кажется, что коммунисту в партийном комитете разговор надо вести иначе?
Казаков осекся, напряженно, с тревогой спросил:
– Это как? Не понимаю.
– А очень просто. Откровенно, честно и прямо.
– Вы что же, подозреваете, что я скрываю что-то?
Казаков понял, что Быстров знает многое. Но что он мог сейчас сказать ему? Раскрыть, откуда у него деньги? Сколько их? Он хорошо представлял, чем это может кончиться. Казаков вдруг почувствовал, что в нем поднимается, подступает к горлу волна лютой ненависти и к дочери, и к этому человеку, сидевшему перед ним с хмурым, озабоченным лицом, так бесцеремонно влезшему в его личное, сугубо личное дело. Но тут же он заставил себя думать иначе. Если он знает то, что слышала Татьяна, то, конечно, никуда от него не уйдешь.
Был момент, когда Петру Сергеевичу подумалось: а может, действительно все рассказать? Снять с себя мучительно-тяжкий груз, что поминутно давил на плечи, гасил любую радость? Ведь он, Быстров, представлял ту силу, которая могла бы, пожалуй, еще спасти его. Как знать, если бы партия велела взвесить все – хорошее и плохое, что сделал Петр Казаков за свою жизнь, может, и не так бы страшен оказался перевес сомнительных и темных дел? Так, может, рассказать? Все рассказать?
Но сделать этого Казаков не мог. Это было выше его сил. И Петр Сергеевич со злостью подумал: «Исповеди ждешь? Зря ждешь, парторг. Зря. Скоро Шмель улетит, а тогда – концы в воду, ни черта вы не докопаетесь. А деньги? Ищите. Ну, найдете кое-что. Так это я и сам покажу. А остальные… Долго искать придется. Вчерашняя-то ночь, да и сегодняшний день проведены были не только в раздумьях».
Видя, что Казаков весь ушел в свои мятущиеся мысли, Быстров деловито спросил:
– Это все, что вы хотели сказать, Петр Сергеевич?
Вопрос был, в сущности, лишним. Быстров прекрасно понял, что Казаков пришел в партком не для открытого, прямого разговора, пришел прощупать почву, разузнать, что известно и что не известно ему, Быстрову.
– Да, пожалуй. Хотел поблагодарить вас за дочь, что кров ей дали, извиниться за хлопоты, что невольно вам причинил. Ну, раз вы затронули вопрос о моих так называемых капиталах, объясню вам суть дела, чтобы не подумали чего-либо. Жили мы последние пятнадцать лет только вдвоем. Я все время на больших стройках. Оклад, премии, ну и, конечно, экономия. Живу-то я очень скромно. И, между прочим, дочь к этому приучил.
Взгляд Быстрова стал холодным, колючим. Все подтверждало худшее из его предположений. Он, конечно, мог бы задать Казакову такие вопросы, которые поставили бы Петра Сергеевича в тупик, заставили бы лихорадочно искать все новые и новые объяснения. Но зачем это? Скоро и так все будет ясно…
Поведение Казакова снимало с Быстрова моральную ответственность за его судьбу. В конце концов ему виднее, как поступать. Если чист – чистым и останется. А виноват… Быстров очень хорошо знал, какое место в жизни коммунистов занимает партийная семья. И горести и радости несут сюда люди. Здесь мнениями товарищей проверяют они свои мысли и дела, суровой мерой партийной правды меряют свои поступки. У человека, пришедшего в партию по велению души и сердца, должна быть органическая потребность чувствовать плечи товарищей, должно быть непреоборимое внутреннее чувство принадлежности к этой великой семье…
– Ну что ж, Петр Сергеевич, – проговорил Быстров. – Если у вас все…
– Да вроде бы все. Я хотел, чтобы у вас не создалось какого-либо неправильного мнения. А то ну как судьба нас поближе сведет?
Алексей прекрасно понял намек. Почувствовав, как в нем поднимается злое, нехорошее чувство к Казакову, он сухо произнес:
– Судьбы у нас с вами разные.
Казаков и сам понял, что сказал лишнее. Он стал бормотать что-то невнятное, прося понять его правильно, что он, дескать, и в мыслях не держит ничего плохого.
– Скажите, – прервал его Быстров, – что у нас за работник Шмель? Он что, в отделе Богдашкина?
Казаков побледнел. Опять холодная волна щемящей тревоги сдавила сердце. Почему Быстров спрашивает о Матвее? И тут же другая мысль: «Какой я пугливый стал! Матвей-то ведь скоро будет в поднебесье». Казаков взглянул на часы. Да, черт побери, время шло все-таки страшно медленно. Всего час дня, а Казакову казалось, что сидит он здесь вечность.
– Шмель? Да, у него.
– Вы знаете его? Лично знаете?
– Не очень.
Быстров сидел молча, положив руки на холодное стекло стола. Опять Казаков говорит неправду. Опять крутится, как вьюн. Да, темная лошадка товарищ Казаков. Видимо, надеется, что гроза все-таки пронесется мимо. Не знал Казаков, что капитан Березин из городского отдела БХСС был вчера в парткоме с целой папкой материалов. Их отдел уже выяснил кое-что. И это кое-что было довольно значительным. Оперативные работники довольно крепко ухватились за нить, что вела к центру клубка. Подумав об этом, Быстров снова вспомнил Таню. Сколько ей еще предстоит пережить!
Быстров встал. Петр Сергеевич понял, что надо уходить. Усилием воли взбодрил себя, приподнял плечи и постарался пройти расстояние от стола Быстрова до двери твердой походкой уверенного в себе человека.
Глава XXV. Полет Шмеля не состоялся
То, что на горизонте собираются тучи, Матвей Шмель понял быстро, после двух-трех вопросов, заданных ему моложавым капитаном в милицейском мундире. Шмель сообразил, что здесь, в небольшой, более чем скромно обставленной комнате Каменского горотдела милиции, что-то знают. Но знают, видимо, пока мало и не совсем точно. Ходят вокруг да около. Во всяком случае, о Ярославле вопросы пока задают аккуратно. Впрочем, Шмель отвечал с достоинством. Те дела давно минувшие, он досрочно освобожден, и даже судимость снята. Так что с приветом, дорогие товарищи. Но… раз нащупывают, нет ли прошлых дел, значит, что-то выходит наружу из дел нынешних.
Чем больше думал об этом Шмель, тем более убеждался, что надо исчезать. А уезжать не хотелось, страсть как не хотелось, уж очень возможности и масштабы подходящие. Да и приятели-то вон какие подобрались. Может, действительно заглушат? Может, пронесет? Всякое бывает. Но, кажется, нет, очень уж собралось одно к одному. И еще этот Березин. Говорит тихо, уважительно, на «вы» называет, а вопросы задает один другого заковыристее.
Так думал Матвей Шмель, сидя в уютном уголке недавно отстроенного ресторана на юго-западе Москвы. Тревожное состояние не мешало ему, однако, с аппетитом выпить несколько рюмок коньяка, съесть отличную солянку; теперь он ожидал, когда принесут его любимое блюдо – шашлык по-карски.
Матвей Шмель был птицей стреляной.
С трудом осилив семилетку, он покинул родные места и начал жизнь самостоятельную. Попал на стройку под Ярославлем. Понравилось Шмелю снабженческое дело. Не тяжелое, хоть и хлопотное. Все время в разъездах, разные города и веси. Деньжонки перепадают немалые. Суточные, проездные, квартирные и прочее. Привык Матвей к сытой, вольной жизни, тянуло к тем молодцам, что входят в рестораны независимой походкой завсегдатаев, пьют и едят много и вкусно, оплачивают счета, не глядя на них, а официанты бегают вокруг них шустро. Обрел Матвей товарищей и дружков, и пошла веселая жизнь. Но требовала она денежных знаков. Два десятка грузовиков с кирпичом и керамикой было разгружено по указанию агента отдела снабжения Шмеля на складах одной ярославской артели, и вот они, денежки. Потом операция с шифером, с метлахской плиткой. Но всему, как известно, приходит конец. Загремел Шмель в места, как выражаются, не столь отдаленные. Десять лет – срок немалый. Только ведь советские законы не мстительны. Уже через пять лет Матвей Шмель стоял на одной из северных станций, раздумывая, куда направить свои стопы. И решил: в столицу или куда-то поблизости. Так оказался Шмель на «Химстрое». Документы в порядке. Шмель? Да, Шмель. Но Шмель чистый, незапятнанный.








