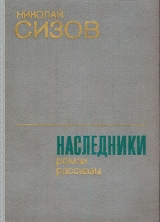
Текст книги "Наследники"
Автор книги: Николай Сизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
– Конечно, обязательно поможем.
– Спасибо, – скупо поблагодарил Ефим Тимофеевич. – И еще одна просьба. Мы там у себя английский немножко штудировали. Мудреная это штука. Но бросать все-таки не хочется. Хорошо бы заполучить педагога. Я вчера переговорил на эту тему в постройкоме. Там пока не поняли, о чем речь, – посмотрели на меня так, будто я с луны свалился.
Быстрова эта просьба удивила не меньше, чем постройкомовцев, но, не подав вида, он обещал помочь бригаде и в этом.
…Пробравшись к столу, Мишутин долго устраивался, вытащил очки, но не надел их, а положил на стол.
– Кто тут больше виноват, коммунальщики, Богдашкин или Казаков, не в том суть дела. Думаю, все они виноваты. И зря вы, товарищ Казаков, топорщитесь. Люди-то у нас понимающие, и чего нет, чего не положено или нельзя сделать, они не требуют.
– Требуют, товарищ Мишутин, да еще как требуют!..
Мишутин в том же тоне ответил ему:
– Вы говорите о единицах, а я обо всех наших строителях толкую. Понятно?
И, считая, что этим сказано все, Ефим Тимофеевич продолжал:
– Здесь наши комсомольцы ругали работников жилбыта. Поддерживаю эту критику целиком. Только сказали они не все, очень даже не все.
Лозунги и плакаты в поселке остроумные, ничего не скажешь. И улица Горького есть, и Невский проспект, и Крещатик. И «непобедимые» в палатках живут, и «аргонавты», и «романтики». Только, по-моему, плохо, совсем не так, как надо, живут-то они. «Шумел камыш…» по вечерам почти из каждой палатки слышится. Около винного ларька, а это пока единственная торговая точка в поселке, очередь всегда в три витка. Участковый инспектор рапорт по начальству подал – вытрезвитель, говорит, нужен. Есть у меня и еще кое-какие наблюдения. Некоторые девушки наши на дела девичьи как на кадриль смотрят. Потолковал я с одной. Анюта, говорю, ты к какому-нибудь одному берегу прибивайся. А то что ни вечер, то с разными кавалерами лесок в Лебяжьем обследуешь. А она в ответ: «У вас, папаша, устарелые понятия о жизни».
Решил в комитет подойти, к товарищу Снегову. Зашел. И никак не мог понять, где нахожусь. То ли в комсомольской ячейке, то ли у товарища Богдашкина на совещании. Только и слышно: лес, гвозди, цемент, битум, кабель… – Ефим Тимофеевич повернулся к Данилину: – Я бы на вашем месте зарплату снабженцам не платил. За них же комсомольцы работают.
Данилин не согласился:
– Вы зря за это упрекаете ребят. Они очень хорошо помогают.
– А я не их упрекаю. Я о нас с вами говорю, Владислав Николаевич. Конечно, может, я действительно того… отстал от жизни. Но тогда объясните мне вы, товарищ Быстров, объясните, кто должен работать с молодыми, что приехали сюда?
– А мы что, по-вашему, не работаем? – настороженно спросил Снегов.
Мишутин мягко ответил:
– Ты, Анатолий, не обижайся. Беспокоят меня некоторые твои питомцы. Потому и толкую на эти темы.
Мишутин не спеша собрал свои бумажки, надел очки и пошел на место.
Сразу же поднялся Снегов.
– В своем выступлении товарищ Мишутин, хотел он того или нет, бросил тень на нашу молодежь. Опровергнуть его обвинения очень легко… Найдите на стройке хоть один объект, участок или одну бригаду, где бы ребята подводили. Трудятся, не считаясь ни с чем. «Химстрою», товарищ Мишутин, они отдают все силы. Нам сказано: вы шефы, и вас здесь касается все. Так мы и действуем. Нужен лес – достаем лес, нужны балки – достаем балки, нет гвоздей – достаем гвозди. Если надо будет руками землю рыть – будем ее рыть, потребуется неделями не спать – выполним и это… Чем же вы недовольны, товарищ Мишутин? Человек вы уважаемый, заслуженный, но и вы не должны бросать такие обвинения тысячам ребят, которые героически, я не боюсь этого слова, да, героически борются за «Химстрой»…
Мишутин, подняв голову, озадаченно вымолвил:
– Не понял ты меня, Анатолий, совсем не понял. Я критиковал не ребят, которые, как ты правильно заметил, героически работают, а комитет, тебя критиковал. Да и себя, нас всех.
Раздался голос Быстрова:
– По-моему, ты, Анатолий, действительно зря обиделся на Ефима Тимофеевича. Он дело говорил.
Делаете вы много, слов нет, но беспокойство у Ефима Тимофеевича не без причин. – И, посмотрев на партийных активистов, Быстров продолжал: – Правильно и то, что пора нам всем задуматься над этим. Молодежи у нас много, и одним им, – он кивнул в сторону Снегова и Зарубина, – не справиться.
Теперь о Лебяжьем. Решим, видимо, так. Дадим управлению строительства и лично товарищу Казакову месячный срок на то, чтобы сделать в поселке все нужное и возможное. Месяц. И ни дня больше. Новым поселком попросим заняться более конкретно самого начальника строительства. Порядок там должен быть наведен. Думаю, двух мнений быть не может. Что касается других вопросов, возникших сегодня, что же, разберемся и в них. Коммунист всегда и во всем, в большом и в малом, должен быть предельно честным перед партией, перед товарищами. Касается ли это собственных поступков, оценки ли поступков и действий других, идет ли речь о служебном долге или личном… Без этого нет коммуниста, есть одно лишь название…
После заседания парткома, поздно вечером, в кабинет к Казакову зашел Данилин. Он молча сел в кресло напротив Петра Сергеевича и задумчиво сказал:
– Петр Сергеевич, за то, что происходит в Лебяжьем, мы несем ответственность оба. Плохо занимаемся поселком, очень плохо. И я тут виноват не меньше. Понадеялся на вас, передоверил. Но мы это поправим.
Сказано это было с такими интонациями, что Казаков понял: Данилин за поселок спуску теперь не даст никому.
А Владислав Николаевич продолжал:
– Но я хочу спросить вас о другом. Скажите, у вас в жилищно-коммунальном отделе, в снабжении и других материальных службах… все в порядке?
– Что вы имеете в виду? – насторожился Казаков.
Данилин поморщился:
– Ну, вы же понимаете… Материальные, хозяйственные дела, финансы должны быть в чистых руках.
Казаков медленно поднялся с кресла.
– Владислав Николаевич, вы что же, подозреваете наших людей? В чем? Какие для этого основания?
Данилин остановил его:
– Ну, ну, без излишних эмоций. Вы должны понять… И вам, и вашим работникам я доверяю. Но…
– Скажите, что вас беспокоит. Доложим. Внесем полную ясность.
Казаков сначала слушал Данилина стоя, не глядя на собеседника, а уперев взгляд в зеленую плоскость стола. Когда же он поднял глаза, Данилин встретил не прежний злой, гневный взгляд, а заискивающий, подчеркнуто преданный.
И если гнев Казакова как-то успокаивал Данилина (раз был так оскорблен, значит, честный человек!), то эта льстивая готовность «все выслушать и учесть» насторожила Владислава Николаевича. Он знал теперь, что будет думать об этом долго.
Вздохнув, Данилин спросил:
– А что это вы на Богдашкина тень-то навесили? Рекомендовали, если не ошибаюсь, его вы?
– Не отрицаю. Понимаю, что отвечаю за это перед вами.
– Так что же вы имели в виду, какие его грехи?
– Когда он работал в Череповце…
– О череповецкой истории я знаю. Ее все знают. За это я бы его не упрекал.
– Было и еще кое-что. В бытность его в Новомосковске, на ГРЭС, налево загнали три партии резины, что-то около восьмидесяти или девяноста скатов.
– Как же это?
– Добивались сверх фондов, не приходовали, а потом реализовывали.
– И Богдашкин?
– Участие его самого установлено не было, но за близорукость строгача по партийной линии схватил.
Данилин молча прохаживался по кабинету, не глядя на Казакова.
– Почему же вы не рассказали этого, когда рекомендовали его сюда?
– Ну, давно ведь было-то.
– Правильно. Тогда зачем решили вытащить столь давнюю историю сегодня?
Нахмурясь, Казаков ответил:
– Начинал свару не я. А когда меня бьют, я даю сдачи.
– И при этом не очень стесняетесь в средствах. Вас прутиком, а вы дубиной. В борьбе, мол, все средства хороши, так, что ли?
Казаков хотел что-то пояснить, но Данилин еще раз пристально посмотрел на него и, не скрывая досады, промолвил:
– Нехорошо у вас вышло. Нехорошо. Будто вы рот ему поспешили заткнуть.
– Возмутил он меня. Сам напутал – и в кусты.
– Но ведь цемент в Тимково он сам занарядить не мог?
– Я подписал, не отрицаю. Просмотрел. Только при чем тут честность, совесть и прочее? Кстати, я вообще не понимаю, почему все пристали к этому случаю? Хорошо, завезли в Тимково цемент. На сторону это, что ли? Завод-то наш. Почему Быстров возводит этот факт чуть ли не в политику? Вообще он, по-моему, слишком много берет на себя. Но если уж так стоит вопрос и вы тоже видите в этом что-то особенное, перебросим завтра же его обратно сюда.
– Зачем же? Слишком накладно, неразумно. Цемент в Лебяжье забросьте с центральных складов.
– Запас там у нас останется маловат. Ну да ничего, перебьемся.
Уже от двери Данилин вернулся к началу их разговора.
– Так мы условились, Петр Сергеевич, в хозяйстве у нас, вы слышите меня, все должно быть в полнейшем порядке. В полнейшем. Вы поняли меня?
– Да, да, конечно, – поспешно согласился Казаков.
Данилин уже проще, без подчеркнутой многозначительности предупредил:
– А Лебяжье приведите в порядок. По совести говоря, я удивляюсь, как вам сегодня строгача не записали. Да и мне тоже. Честное слово, было бы поделом.
Возвращаясь к себе, Данилин все продолжал думать о разговоре с Казаковым. Что-то неуловимое настораживало его, стало более явственным чувство тревоги и беспокойства.
Вспомнилась фраза Петра Сергеевича о Быстрове. За что это он так невзлюбил парторга? Быстров ведь не такой. Сегодня на парткоме он, если бы хотел, мог основательно обрушиться на нас. Нет, мужик он не мелочной.
Владислав Николаевич ничуть не кривил душой, думая так, он действительно все больше изменял свое мнение о парторге. То, что в министерстве и правительстве поддержали линию Быстрова и актива стройки на изменение сроков сдачи объектов, Данилин переживал остро и болезненно, но не долго. Первое время после приезда министра Данилин со злостью думал: «Посмотрим, что выйдет из этой затеи».
Быстров, однако, словно прочтя его мысли, сказал как-то:
– Владислав Николаевич, послушайте мой добрый совет. Вы могли спорить со мной, с партхозактивом стройки. Но признано везде и всеми, что наши соображения были правильны. И теперь это уже не просто соображения – это программа деятельности «Химстроя». И от вас самих зависит – то ли вы поведете эту линию, то ли… кто-нибудь другой.
Данилин тогда не нашелся, что возразить, и Быстров больше не возвращался к этому разговору. Владислав Николаевич тоже не начинал его. Он со злостью ушел в дела по литейке и кузнечно-прессовому, бывал там чаще, чем на главном корпусе, и отчаянно ругался за каждый час и день графика по этим объектам. А график был жестким, надо было наверстывать упущенное. Потом, месяца через полтора или два, когда фундаменты и первые этажи цехов вылезли, наконец, из земли и стали догонять главный, он подумал с иронической усмешкой: «А ведь, пожалуй, ты зря артачился, старик». И тогда же подумалось о Быстрове: «С головой и с характером, чертяка. Сумел-таки на своем настоять, да и меня из упряжки не выпустил».
Сегодняшнее заседание парткома еще больше укрепило Данилина в его мыслях о Быстрове. Ему понравилось, как парторг спокойно и деловито разбирал обострившееся дело с Лебяжьим, как умело вел его по нужному руслу, не сбиваясь на мелочи, не давая разгореться ненужным страстям и спорам. А как легко было впасть в крайности, раздать направо и налево предупреждения, строгачи и прочее… «И правильно сделал. Нам ведь еще строить да строить…»
После ухода Данилина Казаков долго еще сидел в своем кабинете. Он чувствовал какое-то отупение, слабость и безразличие ко всему на свете. Приход Четверни пришелся очень кстати, и скоро они мчались в машине по ночному шоссе в Москву.
Четверня взволнованно и нервно допытывался, почему Петр Сергеевич так навалился на Богдашкина. Какой был смысл? Ведь отлучили его теперь от себя, совсем отлучили.
– Да не канючь ты, – с досадой огрызнулся Казаков. – Не сдержался я. Понимаешь – не сдержался. Не мог спокойно слышать, как этот старый сапог рассуждает о честности и всяких материях. Уж чья бы корова мычала, а его молчала. Да еще историю с Тимковом начал было размусоливать. Надо же было как-то сбить его с этой неподходящей темы.
– Да… – в раздумье произнес Четверня. – Боюсь, теперь посложнее будет. Богдашкин-то нам ох как нужен!..
– Ничего, – сумрачно успокоил его Казаков. – Уладим. Ты скажи лучше, как с северянами-то.
– А что с северянами? Они ждут. Если затянуть отправку, неизвестно, сможем ли потом. Как дальше сложится – черт его знает.
– От Тимкова надо будет внимание отвлечь. Обязательно… – озабоченно проговорил Казаков. – Слушай-ка… – И он ближе наклонился к Четверне.
…На следующий день утром на строительство поселка было отправлено пять машин цемента, потом – вновь пять. Два цементовоза постоянно сновали теперь между центральной площадкой и Лебяжьим.
Удальцов, довольный, позвонил Быстрову и Данилину и сообщил, что баталия на парткоме уже приносит пользу. Казакову и Богдашкину он позвонил тоже, поблагодарив за помощь. Страсти вокруг Тимкова стали затихать. Операция с «Северянином», приостановленная было Казаковым и Четверней, вновь стала развертываться, как было намечено раньше.
Глава XV. Гость с Парнаса
Звонок Яши Бутенко был неожиданным, и Быстров, положив трубку, удивленно и обрадованно проворчал: «Чертяка, болтается на стройке и ничего не скажет. Ну, дам я ему взбучку».
Яша осторожно открыл дверь, так же осторожно вошел в комнату и, подслеповато щурясь, долго смотрел на Быстрова. Алексей стремительно подошел к Яше, взял его за руки и с силой тряхнул их. Щегольские очки Яши сползли на самый кончик носа.
– Ты что у нас делаешь? А? Почему не предупредил? Что за безобразие? И наши тоже хороши: представитель прессы ходит по стройке, а они хоть бы что. Сегодня же хвост накручу кому следует.
– Погоди, погоди, парторг, не спеши с крутыми мерами. Я, конечно, виноват, но ваши люди здесь ни при чем.
Уселись на диване. Яша стал объяснять причину появления на стройке.
– Заказан очерк для нашей газеты.
– Вот это правильно. Люди у нас такие, что о них хоть романы пиши или песни складывай.
– Кого конкретно рекомендуешь?
– Кого? Пожалуй, сразу-то и не ответишь. Говорю тебе, что о любом писать можно.
– А все-таки?
– Например, Зарубин, Мишутин. Бригадиры хоть куда. Или вот Удальцов, прораб. Молодой, способный, задиристый. А бригада Завьяловой?
Когда Быстров начинал рассказывать о людях «Химстроя», то неизменно увлекался. Так было и сейчас. Яша быстро заполнял толстый блокнот. Наконец Алексей спохватился:
– Да что мы все о делах? Как ты-то живешь? Что нового? Выходит, в центральную прессу прорвался? Молодец.
– Ну, не такой уж молодец. На четвертом десятке прорвался-то. Поздновато.
– Почему поздновато? Ты ведь всю жизнь этим занимаешься.
– Одно дело многотиражка, другое – центральный орган.
– Ничего, не робей. Глаза страшатся, руки делают.
– Это я часто себе в утешенье повторяю.
– Как Зина?
– Работает в исполкоме. Приемом населения заведует. Дело хлопотное, ответственное. Домой приходит усталая и отыгрывается, конечно, на мне. Все, понимаешь, за бесхозяйственность критикует. «Если бы, – говорит, – не взяла тебя в мужья, пропал бы совсем». И такой я и сякой. «Даже, – говорит, – гвоздь толком забить не умеешь». Верно, хозяйской хватки у меня нет. Так что всем верховодит она. Живу надеждой, что вот Ленька подрастет, тогда возьмем ее в ежовые рукавицы.
Быстров заметил, как, заговорив о сыне, Яша сразу преобразился.
– Всего пятый год парню, а все-все понимает, стервец! Тут на днях прихожу домой, а он, полусонный совсем, спрашивает: «Ты почему долго не приходил? Опять с музой шуры-муры крутил?» Это уж, конечно, Зинкины слова.
Быстров рассмеялся.
– А как с ними, с музами-то? Все в дружбе?
– Помаленьку, – смущенно ответил Бутенко. – Есть некоторые итоги. Скромные, правда…
И Яша достал из кармана тоненькую книжку в голубой глянцевитой обложке, посмотрел на нее влюбленно и протянул Алексею.
– Вот. Авторский экземпляр.
Быстров бережно взял книжечку, долго разглядывал ее, затем прочел вслух: «Яков Бутенко. Весенняя капель. Стихи».
Как-то удивительно тепло стало на душе у Алексея. Он ведь знал, как трепетно относится Яша к своему поэтическому труду, сколько сил и сердца вложено в эти страницы…
– Поздравляю тебя, Яша, от души поздравляю.
– Да ну, чего там…
– А как же? Тысячи тонн словесной руды единого слова ради. Так, кажется, Маяковский говорил?
– Точно, – тихо ответил Яша и потянулся, чтобы взять книжку.
– Отбираешь?
– Нет, надписать хочу.
Яша протер платком очки, торопливо надел их и стал что-то писать на титульном листе. Алексей с каким-то особым чувством вглядывался в друга. Завод, ребят, с которыми работал, Алексей вспоминал часто. А сейчас Яша будто принес с собой родные запахи «Октября». Алексею показалось на какое-то мгновенье, что он вновь там, в заводском комсомольском комитете, а Яша Бутенко пришел с макетом очередного номера заводской многотиражки.
Яша облегченно вздохнул и, сняв очки, подслеповато поглядывая на Алексея, протянул сборник.
– Вот, готово.
Алексей прочел вполголоса: «Алеше Быстрову… Другу чудесных комсомольских годов. Яков Бутенко».
– Спасибо, Яша. О, тут еще и стихи.
– Экспромт, и не из выдающихся, так что не очень придирайся, – предупредил Бутенко.
– Ладно, ладно, не скромничай, – добродушно улыбнулся Алексей.
Пройдут года, совсем мы поседеем,
Несется время, кудри серебря,
Но сердцем, сердцем мы не постареем,
Кто рос в цехах родного «Октября».
– Черт полосатый! Здорово, честное слово, здорово!
– Захвалишь ты меня. Возомню, что я действительно с Парнаса, – довольно и широко улыбнулся Яша.
…Заводские и зареченские дела Яша знал в подробностях и на рассказы не скупился. А Алексей все расспрашивал.
– Павлик Орлов? Его забрали в НИИ. Начальник производственных мастерских. Рыбехин? Глобус-то наш? Кандидат наук. Говорят, докторскую готовит. А вот где Крутилин – не знаю.
– Наше начальство – заместитель начальника главка, – ответил Быстров.
– Да что ты? Жив, значит, курилка.
– Жив, да еще как!
Яша ждал, что вот сейчас, раз уж зашел разговор о Крутилине, Алексей спросит, заговорит о Лене. Но он не спрашивал. Тогда Яша, не глядя на Алексея, тихо спросил:
– Лена с ним?
– С ним.
Алексей не спеша перелистывал Яшину книжку. Он был спокоен, совершенно спокоен, только пальцы, перебиравшие страницы, чуть заметно дрожали. Отложив книжку в сторону, поднял глаза на Яшу:
– Давно не видел ее…
– Ну, а о Громове ты, конечно, слышал?
– Да, да. Дипломатом стал. Уверен, что посол из него настоящий получился. Жалею, что мало с ним поработать пришлось. Чудесный человечище. Очень они с Луговым схожи.
– А с Семеном Михайловичем давно виделись?
– Собираюсь на завод, да все никак.
Яша опять стал рассказывать.
– На заводе-то он вроде внештатного партийного папаши. В цехах, парткоме, завкоме, дирекции – у всех к нему дела, везде только и слышно: это с Семеном Михайловичем посоветоваться, об этом давайте у Лугового спросим, тут без Семена Михайловича не обойтись…
– Седьмой десяток идет, а не сдается. Вот что значит закалка, – в раздумье проговорил Быстров. – Попадало мне от него будь здоров как. Даже сейчас я его, по совести говоря, чуток побаиваюсь. А ближе и роднее его, кажется, человека нет.
Яша посмотрел на Быстрова. Немало времени прошло. Семь лет. Перед ним сидел уже не тот Алеша Быстров, что был заводилой на молодежных вечерах, постоянно воевал с начальниками цехов за невнимание к его комсомолятам, с незадачливыми горкомовцами. Видимо, не легкими были эти годы. У Быстрова уже чуть-чуть серебрились виски, белесые пряди пестрили черную шевелюру. Но глаза были все те же – задорные, цепкие и порой с той же лукавинкой и смешинкой. Открытая и добродушная улыбка и все та же быстровская сдержанность.
– А ты трудишься все так же? И день и ночь?
– Положим, не всегда день и ночь, но дел хватает. Хозяйство беспокойное.
Алексей подошел к окну, поманил Яшу.
– Взгляни. Такое не часто увидишь.
На участках шла пересмена. Замолк надсадный рев МАЗов, замерли ненасытные экскаваторы, не слышалось уханья сваебойных копров, шелестящей воркотни транспортеров. Только прожекторы ни на минуту не закрывали свои пронзительно-слепящие глаза. Их вахта кончится лишь с рассветом. Картина даже смолкнувшей на время стройки была довольно впечатляющей.
Посмотрев на часы, Алексей заметил:
– Через двадцать минут эта тишина кончится. – Отвечая словам Яши и своим мыслям, сказал:
– Тележка нелегкая, что и говорить. Но… зато интересно. Очень.
– Но вид твой мне не нравится, парторг «Химстроя».
– Бутенко! Ты стал ворчлив, как моя мамаша.
– Как они там у тебя? Серегу я как-то видел. Вымахал будь здоров.
– Да, ростом и силенкой бог не обидел. На днях мне говорит: «Ты, браток, жениться-то думаешь? А то меня задерживаешь». Каков?
– А ты что хочешь, чтобы он по твоим стопам пошел, седых волос дожидался? – шутливо подзадорил Яша. – Между прочим, недавно я присутствовал при одном занятном разговоре о тебе.
– Это еще по какому поводу?
– Ты дочку Казакова знаешь?
– Таню? Немного знаю.
Алексей насторожился. Он никак не предполагал, что их отношения (да и можно ли назвать «отношениями» два-три коротких разговора) стали предметом чьего-либо внимания. И хотя Быстров хорошо знал Яшу, был уверен, что при нем были исключены какие бы то ни было плоские шутки и намеки, разговор этот застал его врасплох и вызвал почему-то неприятный осадок.
Яша сразу заметил это:
– Извини, может, я зря. Не будем об этом.
Алексей миролюбиво сказал:
– Ну ладно, ладно, говори, раз уж начал.
– Да ничего особенного. Они ведь с Зиной приятельницы. Были мы как-то у них. Так вот Таня настойчиво интересовалась твоей персоной.
Быстров промолчал. А Яша, хмурясь, взглянул на него и спросил:
– А как сам Казаков? Что за человек?
Быстров неопределенно пожал плечами.
– Пока сказать не берусь. Кажется, не глуп, опытен в делах. Но пуда соли я еще с ним не съел.
– Послушал бы, как он толкует со своими друзьями-приятелями. Завистливые словечки, злорадные намеки, какие-то взаимопонимающие взгляды.
– Да. Пора бы мне поближе знать его, да и не только его. Времени, времени, Яша, вот чего мне недостает.
…Когда шли к станции, разговорились опять о заводских и зареченских делах. Но вот, посмотрев на темное, все в звездах небо, Яша, как и раньше, внезапно перешел на совсем другую тему:
– На днях попалась мне занятная брошюрка по астрономии. До последнего времени величайшей из известных звезд считалась Эпсилон в созвездии Возничего. Ее диаметр в три тысячи раз больше диаметра Солнца. Оказывается, однако, что этот самый Эпсилон ничтожный карлик по сравнению со звездой Альфа в созвездии Геркулеса. Диаметр этой звезды в двести тысяч раз больше диаметра Солнца. Если бы можно было совершить путешествие вдоль экватора этой звезды на реактивном самолете, то на это потребовалось бы восемьдесят тысяч лет. Когда луч света, отражающийся сейчас в зеркалах телескопов, оставил эту звезду, на Земле была еще эпоха раннего средневековья.
– Да, солидная звездочка, ничего не скажешь, – проговорил Быстров и, посмотрев на Яшу, улыбнулся. – А ты по-прежнему копаешься в брошюрах да справочниках и выискиваешь диковинки? Работа, стихи, энциклопедии… Правильно Зина тебя честит. Леньку и того, поди, видишь только перед сном. Смотри, отобьется от рук.
Яша тронул Алексея за руку:
– Между прочим, самый древний из дошедших до нас образцов письма – это папирус Присса. Ему около шести тысяч лет. Начинается он следующими словами: «К несчастью, мир сегодня не таков, каким был раньше. Всякий хочет писать книги, а дети не слушаются родителей».
Алексей усмехнулся.
– Это, знаешь, непосредственно в твой адрес. Выходит, история иногда все-таки повторяется.
– Выходит, что так. Но почему ты на меня накинулся за мое хобби? Вот скажи, какой самый высокий водопад в мире?
Несколько замявшись, Алексей ответил:
– Кажется, Ниагарский.
– Вот-вот. По-моему, кажется… Темнота. Ангела в Венесуэле. Здесь вода падает с высоты тысячи десяти метров, а Ниагара имеет высоту падения всего пятьдесят метров. Понятно, товарищ парторг?
– Сдаюсь. Жаль, что ты не на «Химстрое». Очень пригодился бы. Когда с ребятами приходится беседовать, они порой такие вопросы подбросят, что не скоро и в Ленинке ответ сыщешь.
– А ты звони. По старой дружбе буду консультировать.
Глава XVI. Ночной разговор
Разные были натуры у Снегова и Зарубина, разные вкусы и характеры. И все же их тянуло друг к другу. Когда долго не виделись, встречались шумно, радостно, как давние друзья.
Вот и сегодня, как только Виктор вошел в комитет, Снегов торопливо положил телефонную трубку, вскочил из-за стола.
– Виктор, здорово! И давно же я тебя не видел!
– Трое суток.
– Да я только вчера вернулся.
– Ну как поездка?
– Воронеж городок неплохой. Бригада тоже подобралась дружная. Секретарь ЦК возглавлял.
– Поручение, конечно, ответственное, но можно было обойтись и без комсорга «Химстроя». Дел-то и у нас вон сколько.
– С ЦК спорить трудно, да и самому интересно было посмотреть. На двух больших стройках побывал. Ребят оттуда пригласил в гости – пусть посмотрят, опыта поднаберутся. – Взглянув на часы, Анатолий испуганно охнул. – Забыл совсем, поехали к нам. Сейчас же едем!
– Что это так вдруг?
– Сегодня у Надьки день рождения.
Зарубин заупрямился:
– Не поеду. Я же там ни с кем не знаком, да и одет вон как…
Снегов, однако, ничего не хотел слушать.
Анатолий и Виктор появились у Снеговых, когда гости уже сидели за столом, заняв все стулья, кресла, диван. Встретили их отчаянным гвалтом:
– Товарищи, муж явился! Ура супругу!
– Хорош муж: у жены день рождения, а он где-то шатается.
– И почему ты, Надя, терпишь такого типа?
Анатолий спросил у жены:
– Зачем ты этих горлопанов позвала? Собьют они тебя с пути.
– Потише, Толик, а то и впрямь приму их советы.
Анатолий, обращаясь к гостям, прикрикнул:
– Тише вы, обрадовались, что хозяина нет. Вот представляю вам Виктора Зарубина.
– О, Зарубин! Знаем, знаменитый бригадир, – зашумели за столом.
– Не только бригадир, а мой боевой заместитель, – уточнил Анатолий.
Потом подозвал жену:
– Подойди, подойди сюда, отроковица. Как старший, указую тебе любить друга моего.
Надя подошла к Виктору. На вид ей с трудом можно было дать лет восемнадцать.
– Сколько же вам стукнуло? – пожимая руку Нади, спросил Виктор.
Надя со вздохом ответила:
– Уже двадцать.
– Почтенный возраст, ничего не скажешь, – тоже со вздохом согласился Виктор.
– А почему вы у нас ни разу не были? Анатолий все твердит: Зарубин, Зарубин. А какой он, этот самый Зарубин?
Виктор пожал плечами:
– Все штурмуем, все некогда.
– Он и сегодня не хотел ехать. Еле вытащил, – сказал Анатолий.
– Я просто не знал, что у тебя такая красивая жена, – отшутился Виктор, – а то бы и без приглашения поехал.
Шутку тут же подхватили, раздались восклицания:
– Ты слышишь, Толька? Нашел друга на свою голову. Теперь гляди в оба.
…Веселье длилось долго. Только когда стихли шумы на улицах и дружно, будто заранее сговорившись, погасли уличные фонари, а последние троллейбусы сонной стаей собрались у ворот парка, гости постепенно, нехотя стали по одному, по двое расходиться.
Виктора устроили спать на диване. Проводив последних любителей «посошка», Анатолий присел рядом.
– Ну, как тебе тут?
– Полный порядок. Лучше, чем дома.
– Может, опрокинем по маленькой на сон грядущий? Там есть какое-то слабенькое.
– Нет, не хочу.
– Не буду, не хочу… Что ты какой-то квелый сегодня?
– А ты что сюда заявился? Пригласил ночевать, а спать не даешь.
– Интересно, а когда ты у себя в палатке спишь, все на цыпочках ходят?
– У нас делу время – потехе час. Даже Быстров позавидовал: до чего же у вас, говорит, здорово. Хоть самому переселяйся в Лебяжье.
– Он к вашей бригаде просто неравнодушен.
– Он со всеми такой.
– Отвечу мудростью, которую теперь часто можно слышать: «Не сотвори себе кумира».
– Да нет. Я объективно.
– Ну, а как тебе мои друзья понравились?
– Ничего. Народ любопытный.
Анатолий вздохнул:
– Завидую я им, дьяволам, смертельно завидую.
– Почему?
– Ну как же! Васька Белов – это чернявый, цыганистый такой – на днях кандидатскую защитил, а Рыжий – мы все его так зовем, хотя имя и фамилия у него довольно поэтические – Станислав Розанов, – этот уже доктор, глядишь, скоро и Государственную премию получит. Ведущий конструктор какого-то хитрого агрегата для космических кораблей. В общем, стезя у всех прямая.
– Ну, а что же тебе мешает? Кандидатский у тебя, кажется, сдан? Кропай диссертацию, и вся недолга.
– Твоими бы устами да мед пить. Диссертация – это ведь не ля-ля разводить. Попотеть ох как придется.
– А как бы ты хотел?
– Хотел бы в единое слово я слить свою грусть и печаль, – продекламировал Анатолий и потянулся за папиросами. Виктор через минуту проговорил:
– Знаешь, Надя твоя мне понравилась. Прямо молодчина.
– Надька-то? Ничего. Ну и муж у нее тоже не из последних. Как думаешь?
Не ответив на шутку, Виктор продолжал:
– Хорошо, что неизбалованная. Посмотрел я, в руках у нее все так и горит. Сноровка чувствуется.
– У своей мамаши школу прошла. Знаешь, какая строгая мадам? Когда мы к ней в гости едем, так оба как к смотру готовимся. Полный допрос учиняет: и как на работе, и как учеба, и что купили, и что читали, и где бывали. Как школяров экзаменует.
– Выдающаяся у тебя теща. Повезло. Тут как-то, когда тебя не было, разыскала меня мать одной девушки с пятого участка. Приехала посмотреть, как живет дочь. И, увидев, что та обитает в палатке, а работает в бригаде штукатуров, такой концерт мне устроила, что я не знал, как ее в норму ввести. Это что же, говорит, за безобразие? Разве я дочь свою для такой жизни растила?
Прикурив сигарету, Зарубин продолжал:
– У многих родителей мысли о детях идут по очень простой схеме. Раз мы жили неважно, пусть детки поживут в удовольствие. Этим папам и мамам и невдомек, что они портят детей, осложняют им жизнь. Ведь такие белоручки обязательно споткнутся. И обществу приходится потом тратить массу сил на то, чтобы сделать этих «мимоз» настоящими людьми. А бывает ведь, что человека из такого индивидуума сделать уже невозможно.
– Истина эта известная, только что же тут поделаешь? – зевая, проговорил Снегов.
– А я и не говорю, что открываю Америку. Но честное слово, я бы это дело превратил прямо-таки в государственный вопрос. – Сказав это, Зарубин надолго замолчал. Снегов тоже молчал, думая о чем-то своем. Потом спросил:
– Ты спишь?
– Да нет. Как же спать, когда мы с тобой в такие проблемы ударились!








