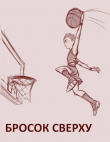Текст книги "На восходе солнца"
Автор книги: Н. Рогаль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
Мирон Сергеевич тер шею полотенцем, хмурясь, поглядывал на жену и в то же время незаметно присматривался к Савчуку. Кого это вздумал притащить с собою Захаров?
– Демьян Иванович вчера в город собирался. Не знаю, где будем теперь его ловить, – уклончиво сказал он, узнав о цели их прихода. – Ладно уж, провожу в цех. Мое ведь дело свести вас – большего не обещал.
Пелагея, прислушиваясь к разговору, очищала от кожуры дымящийся картофель. Ради экономии картофель варили с кожурой. Дети с голодным выражением глаз следили за руками матери.
Мирон Сергеевич завернул три вареные картофелины себе на обед. Одеваясь, он посоветовал жене сходить к лавочнику, занять муки в долг.
– Так вот и дадут, за твои прекрасные глаза, – отрезала Пелагея, не желая скрывать от пришедших своего недовольства. – Не пойду. Пропади вы все пропадом!
– Ну, дело твое. Получки, видно, не скоро дождемся. Говорят, в конторе денег нет, – примирительно заметил Мирон Сергеевич и взялся за шапку.
За окном зычно кричал арсенальский гудок.
– Беда с нашими недостатками, – скупо пожаловался Чагров, когда они пробирались тропинкой вдоль оврага к какой-то лазейке в заводской ограде. Идти мимо охраны по понятным причинам никому из них не хотелось. – Бьется народ как рыба об лед. Детишек, откровенно говоря, жалко.
– Мастерили бы что-нибудь для продажи. Все-таки будет поддержка, – посоветовал Захаров. Чагров усмехнулся:
– Мастерят, конечно. Зажигалки. Безобидная вещь. Так? А как я понимаю – опасная. Хотят, чтобы рабочий класс на мелочи разменивался. А нам большие дела творить – революцию. Жизнь светлой стороной повернуть к человеку. Ежели только сегодняшним днем жить, дальше вчерашнего не уйдем. Вот ссорюсь с женой – не понимает. Да разве она одна?
Отодвинув доску в заборе, прибитую только на верхний гвоздь, он пропустил Савчука и Захарова на арсенальский двор.
Чагров оставил грузчиков в литейной – мрачном, закопченном помещении, где, врываясь в разбитые окна, гулял сквозняк, – а сам куда-то скрылся. Поодаль трое рабочих готовили форму для отливки. Савчук и Захаров, которым еще не доводилось наблюдать работу литейщиков, с интересом приглядывались к ним. Они не сразу заметили появление в цехе новых лиц.
Тот, что был постарше, задержался у входа и принялся читать вывешенные на стене объявления. Молодой прямо подошел к грузчикам и приветливо сказал:
– Здравствуйте! Я – Демьянов.
Есть люди, которые сразу располагают к себе. Демьянов принадлежал к их числу. Коренастый, ладно скроенный, он, видимо, обладал незаурядной физической силой. Волевые черты лица, высокий лоб, веселые выразительные глаза под густыми бровями говорили о силе нравственной. От всей фигуры Демьянова веяло уверенностью и энергией.
– Демьян Иванович, дело у нас, так сказать, деликатного свойства. Может, не место тут говорить, – дипломатично начал Захаров, косясь на спутника Демьянова.
– А.вы не стесняйтесь. Тут люди свои, – сказал Демьянов, тоже оглядываясь и тем самым давая понять, что именно своего спутника он и имеет в виду.
– Ну, значит, нечего наводить тень на божий день! – воскликнул Савчук и коротко изложил свою просьбу.
– Право, не знаю, как быть, – замялся Демьянов. – Мы, конечно, будем иметь в виду при случае. Что там у вас – много людей в батальоне? Анархисты, кажется, есть?
«Эге, ты не так прост, как кажешься», – с удовольствием подумал Савчук и сказал:
– Людей достаточно. Было бы чем вооружить. А анархистов вытурим, можете не беспокоиться.
– Демьян Иванович, ведь это боевая сила – грузчики! – волнуясь за исход дела, поспешил вставить Захаров. – Нам оружие, так мы...
– Знаю, знаю. Мы ведь вообще не отказываем, – сказал Демьянов и опять внимательно посмотрел на Савчука.
Савчук понял, что оружия им не дадут. Видимо, Демьянов опасается, что оно может попасть в руки анархистов.
Но тут спутник Демьянова сделал едва приметный знак, и Демьянов продолжал уже сговорчивее:
– Мы не отказываемся помочь. Просто у нас сейчас создалось трудное положение. Начальство ввело строгости. Приходится по-всякому изворачиваться. Если дадим десятка полтора винтовок – вас это устроит?
– Что ж, и то ладно, – сказал Савчук. Впрочем, на больше они и не рассчитывали.
Сразу сообразив причину щедрости Демьянова, Савчук стал повнимательнее приглядываться к его спутнику – невысокому человеку в черном пальто и меховой шапке. Он был худ, на лице заострились скулы.
Захаров начал уславливаться о способах переправки оружия. Из глубины цеха донесся короткий предупреждающий свист.
– Эх, не вовремя начальство пожаловало! – с досадой сказал Демьянов. – Придется, товарищи, перейти к нам в кузнечный.
Они прошли в соседний цех и там быстро обо всем договорились.
– А это что, паровой молот? Здорово, однако, стучит, – полюбопытствовал Савчук, разглядывая непонятное сооружение.
– А вам не приходилось разве видеть молот в действии? – спросил Демьянов, гордый тем, что в свои двадцать три года он легко управляется с громоздкой и сложной машиной.
– Нет. Наша работа под открытым небом, на сходнях. Подставляй плечо да береги поясницу, – засмеялся Савчук.
Спутник Демьянова снял пальто, внимательно осмотрел готовые поковки и занял место машиниста. Демьянов ревнивым глазом следил за ним. Из нагревательной печи принесли заготовку. Повинуясь точно рассчитанным движениям мастера, молот застучал, обжимая болванку, загибая края. Снопом брызнули искры.
Демьянов, ловко изгибаясь всем телом, ворочал клещами тяжелую поковку. А молот все выбивал и выбивал ритмическую дробь. Наконец прошелся по заготовке легким поглаживанием и замер. Демьянов бросил на пол еще рдеющую поковку.
– Нет, нас рано со счета скидывать! – весело говорил спутник Демьянова, вытирая платком вспотевший лоб. Надел пальто, закашлялся. – А молот у вас все-таки жидковат. Настоящую работу тут не сделаешь.
– Приходилось работать на больших заводах? – спросил Демьянов. Сам опытный кузнец, он сразу узнал настоящего мастера.
– Начинал в Питере, на Путиловском. Последние полтора года – у Форда, в Детройте... Ну, нам, кажется, по пути. Пошли, товарищи, – сказал он Захарову и Савчуку.
Кратчайшей дорогой вывел грузчиков к лазейке в заборе. Закашлялся вновь. Горько усмехаясь, заметил:
– Вот чахотку в Америке нажил. – Помедлил чуть и спросил: – Так как все-таки будем с анархистами?
– Да выгоним их к чертовой матери, чтобы они нам репутацию не портили, – сердито буркнул Савчук. – Там анархистов этих – кот наплакал.
– У нас в батальоне только грузчики, пролетарии. Выгоним – куда пойдут? – возразил Захаров. – Это дело обдумать надо, не с плеча рубить.
– Вот именно, не с плеча, – одобрительно заметил их спутник. – Многие честные люди не разобрались по-настоящему в обстановке. Поддались на удочку красивых фраз. Тут действительно следует бережно отнестись к каждому заблудившемуся рабочему. Вы правы, – он повернул голову, глянул блестящими карими глазами на Захарова, на Савчука, шедшего с другой стороны. Дружески посоветовал: – Главарей – выгнать, а прочим разъяснить: «анархия – мать беспорядка». Дисциплину надо подтягивать, товарищи. Без организованности, без крепкой дисциплины, как учит Ленин, нам не разрешить великих задач, поставленных в порядок дня революцией.
– Дисциплину мы подтянем, – пообещал Савчук. – Но дело не только в ней, есть вещи не менее важные.
– Да? А что именно?
– Тактической подготовки в батальонах нет. Если уж готовиться всерьез...
– Только всерьез, иначе не стоило начинать!
У собеседника была подкупающая манера слушать, и Савчук сам не заметил, как выложил соображения, возникшие у него при первом знакомстве с батальоном. Пройдя фронтовую школу, он лучше других видел недостатки в военном обучении красногвардейцев. Знал и тех, с кем предстояло помериться силами.
– А знаете, Иван Павлович, ваши замечания очень существенны. Нам действительно пора обратить внимание на специально военную сторону дела, – согласился он, выслушав Савчука. – Учить людей защищать свою народную власть – задача почетная, неотложная. Тут вам, военным, все карты в руки. Нельзя терять ни одного дня. Врагов у нас более чем достаточно. Без боя они не уступят. Теперь уже всем видно, что контрреволюционеры пытаются поскорее сорганизоваться. Первый период растерянности у них прошел. Они ищут способы сохранить и упрочить свою власть. Возможно, тут имеет место заговор общероссийского масштаба. История знает примеры, когда буржуазия использовала отсталые окраины как базу для контрреволюции. Но мы эти планы сорвем! – воскликнул он и спросил: – Кстати, сколько винтовок дает Демьянов?
– Да сущие пустяки – пятнадцать штук, – пожаловался Захаров.
– Гм! Не густо. Народ у вас хороший.
– Грузчики – богатыри! – Захаров выпятил грудь, прошелся козырем. – Гвардия пролетариата!
– Что ж, попытаемся вам помочь, – сказал их спутник, немного подумав. – Тут штаб Приамурского военного округа затеял переброску оружия казакам на Амур. Вандею поднимать хотят. Но мы еще посмотрим... Между прочим, в связи с этим делом открываются некоторые возможности. Я вам сообщу. Будьте здоровы!
Он приподнял немного шапку, затем свернул на другую улицу и сразу же затерялся в толпе.
– Толковый как будто человек! Кто это? – спросил Савчук.
– Нет, каков, а? – хохотал Захаров. – Все повыспросил и ушел. Ищи теперь, свищи, был да нету. Ха-ха! – Насмеявшись вдоволь, сказал: – Из большевистского комитета товарищ. Потапов по фамилии.
3
Под вечер в Союз грузчиков забежал парнишка – посыльный Потапова. Савчуку предлагалось явиться в окружное Интендантское управление и получить наряд на винтовки. Оружие рекомендовалось незамедлительно вывезти со склада.
Оценив характер предстоящей операции, Савчук взял сопровождающими с десяток наиболее расторопных бойцов. Чуть стемнело, когда они на четырех подводах прибыли в военный городок. Предъявив свои офицерские документы, Савчук поднялся на второй этаж Интендантского управления и спросил писаря. Ему указали на лысоватого человека в очках, копавшегося в бумагах. Перед столом толпились люди в романовских полушубках и шинелях.
– Очередь. Прошу очередь, господа. Не толкайтесь, – монотонно повторял писарь, выписывая требования, сверяя их с имевшейся у него разнарядкой, ставя штампы. Все совершалось старательно и страшно медленно.
– Черт знает, как копаетесь! Вы не можете поторопиться? – кипятился черноусый человек в казачьей папахе с желтым верхом. Ростом он лишь немного уступал Савчуку, был худощав и жилист. Суровый властный взгляд, каким он окинул писаря, показывал, что человек этот привык распоряжаться и не терпел возражений.
– В самом деле. Не разводите канители, писарь, – поддержали черноусого из очереди.
Кто-то от дверей с угрозой пробасил:
– Интендантская крыса! На фронте таких вот субчиков вешали на первом суку...
Однако писарь был не из тех, кто поддается пустой угрозе. Он как ни в чем не бывало продолжал скрипеть пером. Когда же шум становился уж очень громким, клал руки на стол и, невозмутимо глядя поверх очков, укоризненным тоном произносил только одно слово: «Господа!» – и терпеливо выжидал, пока шум сам собою не затихнет.
На короткое время в канцелярии показался озабоченный Кауров. Скользнув хмурым взглядом по лицам, он сказал, жуя папиросу:
– Склад откроют через час. Пожалуйста, без гаму. Прошу.
Савчук дождался своей очереди, сказал, как было условлено:
– Я от Якова Павловича.
Писарь лениво поднял на него глаза, порылся в разнарядках. К личности Савчука он не проявил никакого интереса.
– У вас с собой сколько человек?
– Двадцать, – на всякий случай прибавил Савчук.
Писарь не спеша выписал требование, подписался, поставил штамп в одном углу, в другом пришлепнул печать.
– Следующий!
У него был вид человека, совершенно безучастного ко всему, что не входит в круг его служебных обязанностей
На складе, расположенном в дальнем конце огромного двора Интендантского управления, служившего одновременно и учебным плацем, черноусый яростно спорил с Варсонофием Тебеньковым. Последний распоряжался отпуском оружия по выписанным в управлении нарядам.
– Мерзавцы! Прохвосты! Канцеляристы проклятые! – орал в бешенстве черноусый и тыкал Тебенькову в лицо бумажкой. – Это требование или что? Так какого вы дьявола! А?
– А я вам русским языком говорю: недействительно! – так же громко кричал Тебеньков,
– Почему?
– Нужного штампа нет.
– Как? Что? Разрешите? – Черноусый выхватил у Савчука его требование, сличил. – Ну совершенно одинаковы.
Обе бумажки перешли к Тебенькову.
– А вот нет, – поглядев, со злорадным удовольствием сказал Тебеньков. – У вас штамп «получено», а у господина прапорщика – «занаряжено». И в этом все дело. Сегодня выдаем только по нарядам особого назначения – «за-на-ря-же-но». Ясно? Придете в будущий понедельник.
– Послушайте, этот проклятый писарь по ошибке...
– Ничего не знаю. Канцелярия уже закрыта. Освободите помещение.
– Ну, знаете! Я этого так не оставлю. Я командующему буду жаловаться...
– Господа, право, у нас нет резону поднимать здесь гвалт, – рассудительно заметил Савчук.
– Нет, это просто чудовищно. У меня казаки ждут, понимаете. Из-за этого специально приехали в город. – Черноусый еще раз метнул злобный взгляд на Тебенькова и круто повернулся к Савчуку. – Р-разрешите прикур-рить!
Руки у него дрожали так, что он сломал подряд несколько спичек. Закурив, жадно вдохнул в себя дым.
– Пор-рядочек... – ругнулся он, когда сжег почти всю папиросу. На Тебенькова он больше не глядел, будто того здесь и не было. – А кто этот ваш магический Яков Павлович?
– Начальник штаба, – не моргнув глазом, ответил Савчук и полюбопытствовал в свою очередь: – Из какой станицы?
– Екатерино-Никольской. Есаул Макотинский, – сказал черноусый уже довольно миролюбиво. – Вот ведь при каких обстоятельствах пришлось познакомиться. Попал я в дурацкое положение, – невесело усмехнулся он. – Думал сегодня выехать из города, ночевать в Нижне-Спасской. У меня там сослуживец, фронтовой друг. С Мазурских озер вместе уходили.
– Из самсоновской армии, значит? – Савчук не без любопытства посмотрел на есаула.
Солдаты и офицеры этой погибшей в первый месяц войны армии сражались с подлинным героизмом и попутали все планы германского верховного командования. Самсоновцев предали, бросили в наступление без поддержки, но солдатская молва говорила о них с уважением. Сражаясь в трясинах и болотах Восточной Пруссии, русские солдаты предопределили исход грандиозной битвы, развернувшейся в это же время далеко на западе, на полях Франции. Позднее это было названо «чудом на Марне».
– Да, были приданы 2-й армии, – подтвердил есаул и чуть наклонил голову. – Мы бы расколотили тогда фон Притвица вдребезги, если бы не этот копуша – фон Ренненкампф. Сукин сын, подвел под монастырь. Из моей сотни вернулись два офицера да шестеро казаков. Представляете, в какой переплет попали?
– Ну, один «фон» против другого не пойдет, узнали мы их достаточно, – заметил Савчук.
– В этом вы, пожалуй, правы, – согласился есаул. – Впрочем, коварства немцев по-настоящему мы еще не знаем. Да, да! Не знаем, – вновь загорячился он. – Вы помните историю с Троянским конем? Вот нам этого коня и подбросили. Взорвали Россию изнутри, подлецы.
«Эге! Видно, дрались мы с тобой четыре года на одном фронте, а теперь будем на разных. Разошлись наши пути-дороги», – подумал Савчук без тени симпатии к есаулу.
– Вот что, прапорщик. Дайте еще спичку, – попросил Макотинский. Закурил. Вернул Савчуку полупустой коробок и любезно предложил: – Доведется когда попасть в нашу станицу, прошу быть гостем.
– Спасибо. Представится случай, буду рад, – сказал Савчук, посматривая одним глазом на своих грузчиков. Под присмотром Захарова они с присущей им ловкостью таскали ящики.
Савчук курил, небрежно пуская кольца дыма.
Тебенькову понравилась сноровка людей Савчука. «Вот это солдаты!» – думал он. И еще хотелось досадить черноусому, показать, что он, хорунжий Тебеньков, властен распорядиться тут и без всяких бумажек.
– Гранат ящик не возьмете? – предложил он Савчуку, когда все ящики с упакованными в них винтовками были вынесены и уложены в сани. – Могу также добавить патронов.
– Что ж, не откажусь, – равнодушно ответил Савчук. – Распорядитесь, пожалуйста.
Есаул Макотинский скрипнул зубами и зло посмотрел на Тебенькова. Швырнув под ноги окурок, он зашагал к выходу.
Сани нагрузили так, что пришлось помогать лошадям тронуть их с места.
На улице Захаров, посмеиваясь, говорил Савчуку: – Там еще железнодорожники стояли, знакомые ребята. Ловко, а? – И, вспоминая писаря, долго еще качал головой, поражался: – Ну, дока! Этот им канцелярию разведет – черт ногу сломит.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
В воскресенье Мавлютин проснулся не в духе. Мутный зимний рассвет заползал в окна. Было тихо. Но вот в соседней комнате скрипнули половицы, послышалось сердитое кряхтенье хозяина. И будто этого только все ждали – в доме зашевелились, загомонили.
Невольно подчиняясь общему движению, Мавлютин тоже встал с постели. Открыв форточку, он тщательно проделал гимнастические упражнения по известной системе Мюллера. Сон был прогнан, но дурное настроение осталось. Мавлютин долго не мог придумать, чем ему заняться: сел бриться – порезался, взял книгу – показалась скучной.
В голове у него был какой-то сумбур. Далекие происшествия перемежались самым странным образом с событиями последних дней. Всплывали в памяти хитрые прищуренные глазки Чукина и его маслянистый, липкий взгляд; и затаенная холодная ярость Бурмина, скрытая под тонкой оболочкой снобизма; смешные претенциозные манеры Русанова – этого калифа на час, цепляющегося за призрачную, ускользающую из его рук власть над обширным краем. Припомнились составленные в штабе округа списки кадровых офицеров царской армии, устремившихся сюда, к границе, пробирающихся в поездах под чужой личиной, как сам Мавлютин, рассеянных теперь по городам и станицам, но готовых с оружием в руках пройти обратно через всю страну, как шли карательные экспедиции баронов Ренненкампфа и Меллер-Закомельского... А над всем этим было ощущение какой-то неотвратимо надвигающейся на него беды.
Припомнил Мавлютин и сцену ухода жены. Ее последние гневные слова, оскорбительные и хлесткие, как пощечина. Развал семьи в некотором роде развязал ему руки: в такое время легче было заботиться о самом себе. Но, с другой стороны, он не мог совсем отрешиться от дум о жене и ребенке. Были ли это остатки прежнего чувства к жене или заговорило в нем уязвленное самолюбие мужчины, покинутого женщиной, но мысли о ней были ему неприятны и сладостны в то же время. Мавлютину казалось, что его незаслуженно обидели и обделили.
Мысли роились, мелькали, как в калейдоскопе. Где-то в глубине сознания все время вертелась неотвязная, тревожащая дума о чем-то крайне неприятном и близком. В конце концов от этого у Мавлютина разболелась голова.
Тогда он вытащил из-под кровати чемодан и достал спрятанный в нем портфель. В портфеле хранилось все то, что Мавлютину удалось спасти из своего довольно значительного состояния: деньги в иностранной валюте и акции торгово-промышленных обществ, акционером которых он состоял. Придвинув к себе лист бумаги, он погрузился в какие-то сложные расчеты.
Алексей Никитич Левченко, после того как встал сын, тоже заперся в кабинете. Он сидел в прочном дубовом кресле и мрачно ерошил пятерней жесткие, непослушные волосы. Огромный стол был завален бумагами. Алексей Никитич к ним не прикасался. Его взор задержался на карте под стеклом. Синие жилки рек расползались на ней по зеленым долинам, стиснутым со всех сторон коричневыми хребтами. Редкие кружочки селений жались поближе к железной дороге. Дальше шли сплошные болота и лес. Лишь за водораздельным хребтом затерялся одинокий кружочек – прииск Незаметный. На нем была установлена электрическая драга, работало сот пять постоянных рабочих и примерно столько же старателей.
В сейфе, что стоял в углу кабинета, хранилась детальная карта прииска. Изломанная красная линия обегала на ней заштрихованные золотоносные участки, замыкая их в круг. Все, что лежало внутри круга, принадлежало золотопромышленному обществу, главной владелицей которого считалась Юлия Борисовна Парицкая, а директором-распорядителем был Алексей Никитич Левченко – горный инженер, чье имя знавали и в Петрограде. Все, что лежало вне круга, со временем тоже могло попасть в него: разведки на золото велись непрерывно.
Летом к прииску почти невозможно было добраться. Годовой запас продовольствия и все необходимое снаряжение забрасывались на Незаметный зимой, когда замерзали болота и реки и устанавливался санный путь. Каждый третий воз обычно был гружен прессованным сеном или овсом. Все это уходило на корм лошадям в пути. Обратив внимание на большой расход кормов, Алексей Никитич минувшим летом распорядился поставить вдоль зимней трассы десятки стогов сена. Для этого нанимали косарей и посылали их в тайгу.
Теперь дорога была пробита. На столе лежала телеграмма чернинского станичного атамана Архипа Мартыновича Тебенькова, извещавшего об этом. Тебеньков из года в год брал у Левченко подряд на доставку грузов на прииск. В окрестных деревнях он нанимал крестьян-возчиков. Его амбары служили компании вместо перевалочных складов. Тебеньков недурно зарабатывал на выгодном подряде, а Левченко таким образом освобождался от излишних хлопот. Оба они были довольны друг другом. Прижимистый и расчетливый атаман без зазрения совести обирал своих возчиков, выплачивая им едва ли больше трети той суммы, которую сам получал по контракту от общества. Алексей Никитич знал об этом, возчики не раз жаловались ему, предлагали работать артелью, но он предпочел иметь дело с Тебеньковым. В конце концов каждый зарабатывает как может. И в этом году он намеревался возобновить контракт с Архипом Мартыновичем. Тот ждал ответа на телеграмму, чтобы сразу приступить к найму возчиков. Завтра сын Архипа Мартыновича – Варсонофий, хорунжий Уссурийского казачьего полка, придет к Левченко за ответом. Но что сказать ему? Какое решение принять? Завозить грузы на Незаметный или нет? Над этим Левченко и ломал голову. Что касается госпожи Парицкой, то ее интересовал только дивидент. Алексей Никитич и не подумал даже сообщить ей о возникших затруднениях.
Годовой запас стоил немалых денег. Время же было тревожное. Еще после провала корниловского наступления на Петроград Алексей Никитич перевел наличные капиталы общества в харбинское отделение Русско-Азиатского банка. Брать сейчас оттуда сотню тысяч рублей, необходимую для закупки снаряжения и продовольствия, казалось ему рискованным: а вдруг большевики реквизируют эти запасы или национализируют прииск.
С Незаметного тоже приходили неутешительные вести. Среди рабочих велась агитация. На одном из собраний, резолюцию которого на днях доставили в главную контору общества, были выдвинуты неслыханные до этого в золотой промышленности требования: введение с началом сезона восьмичасового рабочего дня, снабжение прииска доброкачественными продуктами и по нормальным ценам, установление рабочего контроля над деятельностью администрации. Последний пункт особенно сильно задел Алексея Никитича, привыкшего распоряжаться единовластно, ни с кем не считаясь. Он скомкал в кулаке резолюцию и, будто обжегшись, швырнул ее в мусорную корзину. Но мысль о неблагополучии на припеке не покидала его, словно ее гвоздем вбили в голову. «Никаких поблажек, никаких переговоров со смутьянами», – решил Левченко, когда несколько успокоился и обдумал положение. Тогда-то у него и возникла мысль: а не отказаться ли в этом году вовсе от завоза на Незаметный?
Но, с другой стороны, Алексей Никитич много труда вложил в прииск. Первый раз он прибыл туда с экспедицией, когда на сотни верст вокруг не было ни одного жилья. Это был громадный участок совершенно девственной тайги, «белое пятно» на географической карте. Немало разведочных шурфов было заложено там по его личным указаниям. Вместе с рабочими он рыл землю, спал с ними в шалаше и вместе радовался, если шурф оказывался удачным, и угощал всех водкой. А сколько изобретательности и труда понадобилось, чтобы доставить туда, к черту на кулички, разобранную на части, но все же невероятно громоздкую драгу, локомобиль, паровые котлы. Трех рабочих задавило насмерть при перевалке грузов через водораздельный хребет. По оплошности десятника, не измерившего заранее толщину льда, несколько ящиков с ценным оборудованием утопили в горной реке, и Алексей Никитич в лютый крещенский мороз заставил рабочих нырять посменно в ледяную воду, пока не были закреплены веревки и ящики не вытащили на берег. Кажется, после купания кто-то умер от воспаления легких. Что ж, человеку не повезло. Левченко платил щедро, знал, что зазря люди рисковать не станут. Рабочий люд со всех сторон шел к нему. И прииск обстраивался. По соседству появились поселки старателей. Зазвучал над тайгою гудок первой в этих местах паровой машины. Все это Алексей Никитич ставил себе в заслугу. Он считал себя основателем прииска.
Отказаться теперь от завоза продовольствия – значило закрыть прииск. Гонимые угрозой голода, разбредутся кто куда рабочие. Опустеют дома. Многих жителей Незаметного Алексей Никитич знал лично, по-своему ценил и уважал. Он не отказывался, если кто из приискателей приглашал его на крестины или свадьбу, дарил молодоженам подарки, был у многих из них кумом. Их судьба не была для него совсем безразличной. На таких людей можно надеяться, они не подведут. А без них – прииск мертв. Ржавчина станет постепенно разъедать механизмы, домовый грибок источит стены строений. Во дворах и на отвалочных площадках пробьется из-под земли молодая зеленая поросль и скроет от глаз человека дело его рук. Попробуйте тогда возродить прииск. Какие усилия понадобятся, какие расходы. А убыток от прекращения добычи? Сколько драгоценного металла лежит там под неглубокими торфами? Собственно, Незаметный только начал вступать в пору своего расцвета. Уж Алексей Никитич знает это лучше других. Незаметный – настоящее «золотое дно». Закрыть такой прииск?! Левченко не мог без большой внутренней борьбы решиться на это. Но сколько он ни думал, выхода не видел.
Саша об этих тревогах отца и понятия не имел. Едва одевшись, он побежал во двор. Обошел все закоулки, заглянул во все углы.
Дом, где жила семья Левченко, – просторный двухэтажный каменный особняк с видом на Амур – принадлежал Парицкой. Сама владелица занимала верхний этаж, а нижний сдавала внаем Алексею Никитичу. Каждый этаж имел отдельный ход. Но существовала также и внутренняя лестница, по которой Левченко всегда мог пройти наверх к Парицкой. Обе семьи имели свои дворы с надворными постройками, и только небольшой сад с беседкой под двумя липами, расположенный на обращенной к реке стороне участка, был в совместном пользовании.
Саша открыл калитку и, увязая по колени в снегу, побрел к беседке. Тропинки теперь не было: зимой в сад никто не ходил. Когда была жива мать, дворник всегда расчищал дорожку. Врачи предписывали ей как можно больше бывать на воздухе. Саша рукавицей смахнул снег со скамьи.
Вот здесь часто сидела она и, наверно, думала о нем. Мать была существом тихим, почти незаметным в доме, где все подчинялось железной воле Алексея Никитича. Но она одна умела придать дому настоящий уют, была неизменно ласкова и внимательна к детям и влияла на их воспитание больше, чем отец – вечно занятый, суровый и недоступный. Саша любил мать, хотя много раз, как и все дети, огорчал ее своими шалостями и необдуманными поступками. Пожалуй, весть о смерти матери, пришедшая в час, когда он рисовал себе радостную встречу с ней, оказалась самым большим и тяжким горем в его жизни. Он и сейчас находился под впечатлением этого известия.
Все-таки ужасная вещь – смерть. Саша видел ее на войне. Но только здесь смерть предстала перед ним во всей своей трагической конкретности.
Во дворе конюх Василий прогуливал Нерона – статного гнедого жеребца с развитой грудью и точеными ногами. Жеребец отличался неукротимо злым нравом, за что и получил имя римского императора. Его бока и круп лоснились. Ходил он, насторожив уши и всхрапывая. И все ловчился ухватить конюха зубами за локоть.
– Н-но, балуй! – прикрикивал Василий, дергая повод.
Нерон высоко вскидывал голову и пятился.
– Норовист? – спросил Саша, подходя и здороваясь с Василием.
Василий Ташлыков служил у Левченко с десяток лет и помнил Сашу еще мальчиком. До Сашиного побега на фронт отношения у них были самыми приятельскими. Маленькому Саше конюх казался человеком почти сказочной биографии. Василий и в самом деле многое испытал, бродя по свету в поисках лучшей доли. Рассказывал он о своих приключениях неохотно и скупо, но живое Сашино воображение само дорисовывало остальное. Василий был первым из взрослых, кто отнесся к Саше всерьез: он говорил с ним, как равный с равным, приучал его к посильному труду, зло высмеивал барчуков, которые сами ничего не умеют делать. Не раз украдкой от матери Саша пробирался на конюшню к Василию, чистил скребком лошадь, задавал ей корм. Запах сена и полумрак конюшни казались ему более привлекательными, чем его теплая, хорошо проветренная солнечная комната. Саша без труда мог запрячь коня в сани, растопить печь или сложить костер, и сколько раз потом, на фронте, он с благодарностью вспоминал Василия, преподавшего ему эти трудовые уроки.
Василий приветливо улыбнулся Саше, сказал, кивком показывая на коня:
– Беда! Зверь.
– Ездока надо.
– Надо, – согласился Ташлыков. – Папаша-то твой отяжелел. Прежде, бывало, прямо с земли – и в седло. Вскочит – и полетел. Уж у него кони всегда звери. Себе под стать подбирал.
– Да, он коней любит.
– Любит, – с горечью сказал Василий. – Известно, конь – бессловесная тварь. Нешто к человеку так относятся?
«Не любят отца, – подумал Саша. – Не любят, а боятся».
Они два раза молча обошли двор. Саша попросил:
– Дай-ка повод я повожу.
– Гляди, сомнет.
Жеребец покорно поплелся за Сашей, подбирая на ходу клочки сена, разбросанные по двору.
– Вот видишь, идет, – торжествующе говорил Саша.
– Значит, кровь чует, – заключил Василий.
Саше было приятно слышать это.
Но радовался он преждевременно. Жеребец неожиданно рванул повод, вздыбился, опрокинул Сашу грудью и поскакал к воротам.
– Держи-и! – заорал Василий, спеша наперерез.
Жеребец ловко увернулся от него и побежал в обратном направлении. Саша, прихрамывая, поплелся за ним.
– К забору, к забору прижимай! – командовал Василий, тревожно оглядываясь на окна.
Откуда-то выскочили собаки и с лаем устремились за жеребцом. Поднялся шум, гвалт.