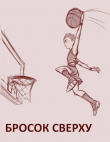Текст книги "На восходе солнца"
Автор книги: Н. Рогаль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
– Будто у вас нет богатых и бедных, – горячо возражал Алеша. – Небось и у вас рабочие живут скверно. Возьмут и не станут мириться.
– У нас это не привьется, – заметил Джекобс.
«За буржуев стоит. Факт, – подумал Алеша, но виду не подал. – Пусть смотрит, нам прятать нечего. Раз соврет, два соврет, а на третий, может, и правду скажет».
Будучи сам человеком большой душевной чистоты и порядочности, Алеша и в других людях прежде всего хотел видеть хорошее. Он и в мыслях не допускал, что могут быть люди, которые лгут во всем, лгут злостно и преднамеренно, лгут всегда. Ему казалось, что достаточно только убедить такого человека, раскрыть ему правду, как он откажется от заблуждений.
Проехав рысью по улице поселка, Алеша свернул влево. Дорога поднималась в гору, и лошадь пошла шагом. Еще поворот, и сани остановились перед закрытыми воротами лагеря, возле которых не было никакой охраны.
Алеша сам распахнул ворота, широким жестом указал на невысокие кирпичные строения, окружавшие двор.
– Прошу смотреть. Беседовать можете с кем угодно. Переводчик нужен? – спросил он, останавливая сани среди двора, и приветственно помахал рукой группе солдат, пиливших неподалеку дрова.
– Я немного болтаю по-немецки, – сказал Джекобс, выбираясь из саней и разминая ноги.
Осмотревшись, он пересек двор и подошел к солдатам. Здесь были одни немцы, хотя в лагере преобладали австрийцы и мадьяры. Военнопленные использовались на работах по возведению новых зданий и заготовке дров.
Солдаты охотно разобрали у Джекобса сигареты, но к сообщению, что перед ними находится американский журналист, отнеслись с обидным равнодушием. Длинный верзила артиллерист, не глядя на Джекобса, спросил:
– За каким чертом американцы ввязались в войну?
– Очень жаль, что мы не можем как следует накостылять им! – вставил бойкий чернявый пехотинец. Остальные одобрительно засмеялись.
Джекобс сделал вид, что не понял их слов, и стал расспрашивать о принятом в лагере распорядке дня. Строгая ли охрана и не обижают ли пленных русские?
Отвечали ему сперва не очень охотно. Порядками в лагере пленные в общем были довольны. В конце концов здесь не санаторий. Жаловались лишь на то, что редко получают письма из дому.
Когда Джекобс пустил по рукам еще одну пачку сигарет, солдаты стали более разговорчивы. Журналист счел, что настала подходящая минута для выяснения единственно интересовавшего его вопроса.
– Ребята, а оружие у вас в лагере имеется? – спросил он тихо.
– О, конечно! – ответило сразу несколько голосов.
Джекобс опасливо оглянулся на Алешу Дронова, но тот в другом конце двора разговаривал с группой мадьяр.
– Пулеметы? – торопливо допытывался Джекобс.
– Нет, герр журналист, только винтовки.
– Винтовки – это тоже хорошо! – Джекобс подмигнул солдатам. – Сколько?
– Двенадцать штук, хоть не трудитесь считать.
– А где они хранятся у вас, ребята? – понизив голос, спросил журналист. Он походил на гончую, напавшую на верный след.
– Да в казарме... у русской охраны, – громко ответил чернявый пехотинец.
Лицо у Джекобса вытянулось. Немцы дружно захохотали.
Алеша услышал взрыв смеха и тоже подошел сюда.
– Вчера тут, оказывается, был митинг военнопленных, – сообщил он Джекобсу. – Они опровергают слухи, будто кто-то собирается их вооружать. Воевать больше не хотят, требуют мира. Я принес для вас резолюцию. Вот, – и он протянул бумагу журналисту.
Джекобс расспросил солдат о митинге. Они подтвердили сказанное Алешей.
– Мы приветствуем русскую революцию, – сказал высокий артиллерист. – Дело теперь за немецкими и австрийскими рабочими.
– Мадьяры не хотят власти Габсбургов, – заявил один из подошедших венгерских пехотинцев.
– Чехи поддержат русских братьев! – крикнул солдат в синей австрийской шинели.
Настроение солдат не вызывало сомнений. «Да они тут все большевики», – подумал Джекобс.
Затем его свели с офицерами. Помещались они в отдельной казарме, в работах не участвовали и время проводили как кто хотел. Запрещалось им только отлучаться из лагеря.
Офицеры были настроены враждебно к революции. Тем не менее и они заверили Джекобса, что нет оснований для распространившихся в европейской печати слухов. Худощавый рыжеусый майор – типичный пруссак – обратил внимание журналиста на то, что среди солдат ведется большевистская пропаганда. Джекобс пожал плечами.
– Что же вы хотите? – сказал он.
Алеша водил Джекобса по помещениям лагеря, открывал перед ним настежь двери, кладовые, предложил слазить на чердак.
– Я вижу: тут хорошо подготовились к нашему посещению, – сказал Джекобс с кислой улыбкой и от дальнейшего осмотра лагеря отказался.
– Вот это вы зря... Никто не готовился, – обиделся Алеша.
– О, я удовлетворен! Я верю... – примирительно сказал Джекобс. – Вы не обижайтесь, молодой человек. Журналист должен быть немножко... немножко недоверчив. Профессия...
– Ладно. Вы теперь знаете, как обстоит дело. Можете дать информацию, – заметил Алеша, провожая Джекобса в канцелярию лагеря.
– Просто сообщить информацию! Бог мой! – возразил журналист. – Я же творческая личность. Собственно, я все время стою на почве фактов, – продолжал он рассуждать, пока они шли по двору. – Событие дает толчок моему уму. Я соображаю, как его поинтереснее подать, как повернуть. Здесь действует моя интуиция, мой интеллект. В конце концов даже фотограф выбирает определенный ракурс для снимка.
«Мудрит он что-то», – подумал Алеша, первым взбежал на ступеньки крыльца и открыл дверь.
...Когда они уезжали, день клонился к вечеру, работы в лагере были закончены. Возле кладовой за хлебом выстроилась очередь военнопленных. Немецкие солдаты, увидев Джекобса, опять загомонили и принялись хохотать.
Джекобс вынул из футляра фотоаппарат и запечатлел их смеющиеся, веселые лица.
– Теперь-то вы убедились, что никакого оружия у пленных нет? – спросил Алеша.
– А я в этом никогда не сомневался, – ответил Джекобс.
Сани пошли под раскат, и он поспешно ухватился за противоположный отвод, чтобы не вылететь в сугроб.
– Держись, американец, я покажу вам русскую езду! – сверкнув по-озорному глазами, крикнул Алеша.
Концом вожжей он хлестнул лошадь, гикнул... И они понеслись под гору так стремительно, что только ветер засвистал навстречу да снежная пыль взвилась позади.
Сани бешено кидало из одной стороны в другую, что-то скрипело, потрескивало. Комья твердого слежавшегося снега летели из-под копыт прямо в лицо Джекобсу.
Журналист, привстав на коленях, обнял Алешу за плечи и тоже что-то кричал, весело скаля зубы.
«Да он совсем компанейский парень. Тоже, поди, не сладко мотаться по чужим странам», – подумал Алеша и ободряюще крикнул:
– Ничего, брат! Давай шевели своих буржуев... Во как жить будем!
– О'кей!.. Революшен... – в совершенном восторге от быстрой езды и Алешиной наивности заорал Джекобс.
...Отправляя в редакцию отчет о посещении лагеря военнопленных, Джекобс вспомнил слова Алеши Дронова, усмехнулся и размашистым почерком написал внизу снимка: «Взгляните на эти довольные лица немцев. Они стоят в очереди за оружием».
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
К марту признаки наступающей весны становятся общезримыми и торопят даже тех, кто до сих пор спокойно дремал. Два месяца, оставшихся до навигации, – небольшой срок. Так уж повелось, что в эту пору на флотилии начиналась самая горячка: унтер-офицеры и боцманы каждый по своей части прикидывали, что еще не пригнано, не перебрано; командиры соображали, где и как достать необходимый материал: поршневые кольца, запасные лопасти для винтов, электропровод; интенданты затевали особо интенсивную переписку; в вышестоящих штабах готовились к проверке.
Нечто подобное происходило в последние дни февраля 1918 года. Из Владивостока Центральный комитет Сибирской флотилии затребовал сведения о ходе судоремонта и основные данные по механической и всем прочим частям. Чего только не следовало описать: «Система главных машин и их мощность. Завод и год постройки. Наибольшие: давление пара, число оборотов и скорость судна. Диаметры цилиндра и ход поршня. Система золотников и их размерение. Пусковой привод и его элементы...» Далее с такой же детализацией перечислялись воздушные насосы, помпы, холодильники, рулевые и шпилевые машины, динамо-машины, котлы, питательные средства и устройства к ним. Авторы запроса интересовались вместимостью грузовых трюмов, запасами угля, масел, расходованием их при разных скоростях хода. Требовались копии актов, диаграмм, машинные формуляторы...
Кому-то, видно, хотелось занять людей ненужной перепиской, осложнить и без того трудную работу по возрождению боевых кораблей.
Над затоном свирепствовали ветры. Снег, как погребальный саван, ложился на палубы и надстройки разоруженных мертвых кораблей.
Днем маленькие фигурки людей копошились возле двух башенных лодок и стоявшей поодаль канонерки.
Кормовая часть «Шквала» выморожена из воды; вырубленная во льду траншея открывала доступ к поврежденной части донной обшивки. Измятые при посадке на камень стальные листы решили править при помощи домкратов.
С того момента, как приступили к работам, мастер Спаре и старший помощник «Шквала» не покидали отсека. Предоставив действовать механику, старпом ни во что не вмешивался. Спаре сосал погасшую трубку. Оба глядели на обнаженное днище с заметной выпучиной между шпангоутами, на установленные в отсеке опорные брусья.
За стеной басовито гудела форсунка нефтяной лампы, бушевало пламя. На черном металлическом листе появился светящийся розоватый кружок.
– Внимание! Начнем! – Механик подал знак, и гидравлический домкрат пришел в действие.
Под давлением поверхность металла стала как бы шелушиться: отстал слой краски и ржавчины.
– Пошло. Будет порядок. – Спаре облегченно вздохнул.
– Пусть там получше смотрят за лампой. Не пережгли бы лист, – сказал старпом.
– Есть! – Ботинки прогрохотали по трапу.
После бегства Лисанчанского латышу Спаре пришлось принять мастерские порта. На этот пост мастера выдвинули сами рабочие.
Уравновешенный, неторопливый, с неизменной трубкой в зубах, он поспевал всюду. Подойдет незаметно, послушает перебранку и скажет:
«Зачем шум?.. Дело надо делать. Язык рукам не всегда помощник».
Не раз приходилось мигать глазами корабельным специалистам, когда начальник мастерских уличал кого-нибудь в намерении втереть очки. Он умел быстро прикинуть необходимые затраты труда и материалов. Черкнет два-три раза карандашом и скажет, тая усмешку в умных серых глазах:
«С запасцем посчитали. Половины за глаза хватит».
«Ян Эрнестович!» – взмолится седоусый служака.
«Больше ни грамма. Точка».
Спорить с ним бесполезно. Потом обнаруживалось, что материалов действительно не хватало. Но самую малость. Всегда находилась возможность покрыть недостачу за счет корабельных ресурсов. Спаре, видно, на это и рассчитывал. Зная, как трудно теперь с материалами, он был скуп до крайности.
Надо было удивляться, как в условиях общей разрухи, ужасающей нехватки материалов и недостатка квалифицированных рабочих мастерские ухитрялись выполнять заказы.
Логунов уважал этого спокойного, рассудительного человека. Спаре в свою очередь видел в энергичном и развитом матросе представителя того нового поколения революционеров, которому суждено завершить дело, начатое ими. Мало-помалу между ними возникла настоящая дружба.
Логунов, днем занятый службой, вечерами – проверкой патрулей, облавами, захваченный горячими спорами на митингах и собраниях, редко виделся с Дашей. Обстановка в доме Ельневых не понравилась ему. Но его все же тянуло туда, и нужно было усилие воли, чтобы не уступить. С каждой встречей его влечение к девушке возрастало; он сам пугался этого, смеялся над собой. Выкраивался, однако, свободный вечер, и он, ругая себя, одевался, приглаживал у зеркала непокорные вихры и топал за двенадцать верст в город в тайной надежде встретиться с Дашей.
Ему нравился открытый взгляд ее глаз и задумчивое, мечтательное выражение лица, чуть пухлые, еще детские губы. Как-то он заметил, что при встрече с ним Даша опускает глаза. Когда их взгляды встречались, щеки у нее заливались румянцем. Логунов не знал, как это истолковать.
Разве он для нее подходящая пара? А почему бы и нет? Если бы удалось совершить такое, чтобы молва о нем, как о герое, докатилась до ушей Даши! Как все могло бы перемениться!
Олимпиада Клавдиевна, кажется, заметила новое в отношениях Даши и Логунова и отнеслась неодобрительно. Логунов вообще недолюбливал ворчливую тетушку. Если бы не Вера Павловна, которая относилась к нему с неизменной симпатией, и не Даша, – ноги его не было бы больше в доме Ельневых, Что Олимпиада Клавдиевна добрый, в сущности, человек, он только начинал догадываться.
2
Будь Логунов менее предубежден, оп заметил бы, конечно, что сама Олимпиада Клавдиевна переменилась. Революционные события заставили и ее над многим призадуматься.
Не без удивления внимала она политическим спорам. Эсеры, меньшевики, какие-то интернационалисты... Олимпиада Клавдиевна не понимала горячности противников. Ну что стоит хорошим людям по-хорошему договориться?
Заблуждаясь сама во многом, она, однако, восприняла предметный урок, преподанный ей Анфисой Петровной, – стала более критически относиться к призывам заправил городского Союза учителей. Тем более что назвать «невеждой» молодого способного учителя Сергея Щепетнова, назначенного краевым комиссаром народного просвещения, она никак не могла. Раз уж такие люди пришли к большевикам, то дело, видно, не только в немецком золоте.
Было много предметов, мимо которых не могла пройти Олимпиада Клавдиевна; эта сердобольная женщина умела душевно и просто откликнуться на любое горе, чужую беду, и уж в равнодушии к человеку ее упрекать не приходилось.
Она видела общую тягу к знаниям, пробудившуюся в народе. Жадное любопытство солдат и рабочих больше не удивляло ее. Если эти люди порою не знали, кто такой Модест Петрович Мусоргский, то это, право, нисколько не мешало им наслаждаться ариями из «Бориса Годунова». Точно так же незнание теоретических основ мелодии, ритма, темпа, полифонии не препятствовало восприятию ими сложных музыкальных образов – стоило лишь посмотреть на лица, на гамму чувств, выраженных на них.
Из всех композиторов «Могучей кучки» Мусоргский казался Олимпиаде Клавдиевне наиболее созвучным наступившей революционной эпохе. Музыкальные образы «Хованщины», народные сцены «Бориса Годунова» чем-то напоминали ей волнующуюся, бурлящую толпу демонстрантов.
В памяти всплывали собственные гимназические годы, молодежные вечеринки, тихие тоскующие песни:
Медленно движется время,
Веруй, надейся и жди...
Зрей, наше юное племя!
Путь твой широк впереди.
Молнии нас осветили,
Мы на распутье стоим...
Мертвые в мире почили,
Дело настало живым.
Ее поколение действительно стояло на распутье. Но избавило ли это их от выбора пути сейчас?.. Она все чаще задумывалась над этим.
Думы ее, о которых не знали ни Даша, ни Вера Павловна, исподволь и подготовили тот поступок, каким она вскоре удивила и племянниц своих и знакомых.
Олимпиада Клавдиевна узнала от Веры Павловны о преступлении Сташевского – передаче им приютских денег японскому консулу. Двести пятьдесят тысяч рублей... шутка сказать!
Будь это какие-нибудь другие средства, Олимпиада Клавдиевна, может быть, и не спешила бы осудить своего родственника. Но взять деньги у детишек!.. Это не укладывалось в ее голове.
Никому ничего не сказав, она оделась и пошла к Сташевскому.
– Батенька мой, Станислав Робертович, что же вы натворили с приютскими деньгами?.. Вы были хорошим человеком, – сказала она, когда Сташевский провел ее в свой домашний кабинет и закрыл дверь. – Конечно, вы уладите это неприятное дело.
– Я?.. Но в чем я виноват? Помилуй бог, не знаю! – Сташевский наигранно улыбнулся и развел руками. Затем спокойно принялся объяснять ей мотивы своего поступка.
– Ах, вот как! – пробормотала Олимпиада Клавдиевна и с изумлением уставилась на него. – Однако вы меня удивляете, Станислав Робертович. Я вас считала порядочным человеком. Это, простите меня, гнусно. Гнусно и подло, – сказала она.
– Олимпиада Клавдиевна! – Лицо Сташевского приняло обиженное выражение. – Я поступил сообразно моим политическим убеждениям. Вы не должны...
– Сударь! Ну какая же это политика... просто мелкое жульничество. Вы отняли хлеб у детей. И не оправдывайтесь, ради бога, – перебила Олимпиада Клавдиевна, с живостью оборачиваясь к нему. – Верните деньги, Станислав Робертович.
Сташевский покачал головой:
– Это невозможно. Мой долг...
– Странное же у вас понятие о долге. Ну, я вижу, нам больше не о чем разговаривать. Прощайте! – холодно сказала Олимпиада Клавдиевна и не подала ему руки.
Сташевский кисло улыбнулся, попытался все обернуть в шутку.
– Надеюсь, вы не пойдете по моему пути, – с нехорошим смешком заметил он.
– Вы имеете в виду ценности, которые оставили на сохранение у меня? – остановившись в дверях, спокойным голосом спросила Ельнева. – Так вы их не получите.
– Шутить изволите, матушка?..
– Не по-лу-чи-те, – повторила она весьма решительно. – Я ваше золото отнесу в Совет. Да что вы такое вообразили о своей персоне, сударь? Законов для вас нет? – закричала она, давая выход своему гневу.
Если уж Олимпиада Клавдиевна разойдется, она переставала считаться с тем, что скажут или подумают другие. Она могла быть резкой и язвительной.
Сташевский не думал, что дело может так обернуться. Вид у него был жалкий и растерянный.
– Надеюсь, ноги вашей больше не будет у меня в доме... – Олимпиада Клавдиевна посмотрела на него с уничтожающим презрением. – И я когда-то уважала этого человека! – воскликнула она, выйдя на улицу.
Все в ней кипело и клокотало.
Зайдя домой, она забрала чемоданчик Сташевского и снесла в милицию.
Лишь после того, как по всей форме был составлен протокол и Демьянов пожал ей руку, Олимпиада Клавдиевна сообразила, что она наделала сгоряча. Теперь ее имя начнут склонять на всех перекрестках. Ну и пусть!
На следующий день было воскресенье.
Олимпиада Клавдиевна жаловалась на головную боль, кряхтела и дольше обычного не вставала с постели.
– Да лежите вы, ради бога, тетя. Мы с Дашей сами все сделаем, – пыталась уговорить ее Вера Павловна.
– Вот еще. Буду я валяться до полудня, – возразила тетушка и решительно спустила босые ноги на пол.
Даша подала ей халат и теплые туфли.
Вера Павловна любила эти поздние завтраки в воскресные дни. Можно было подольше поваляться в постели. А в столовой уже шумел самовар, расставлялись стаканы в серебряных подстаканниках, подавалась большая ваза с домашним печеньем.
Работа в приюте отнимала уйму времени. Даже в воскресенье Вера Павловна не могла совсем отделаться от приютских забот – просматривала тетрадки, готовилась к занятиям.
Даша возилась с малышом. В ней неожиданно проявился интерес ко всему, что было связано с уходом за детьми.
– Будут свои – еще наплачешься, – заметила как-то Олимпиада Клавдиевна.
Даша смутилась, густо покраснела.
Тогда тетушка с подозрением уставилась на нее.
– Ну, милочка, я-то уж вижу, кто тебе нравится! Меня не проведешь... Но ты еще ребенок. Тебе экзамены сдавать...
Часа через два, когда Даша, отложив учебники, собралась идти на улицу, тетушка была уже в другом настроении.
– Ленту на шляпе нужно сменить, – решительно сказала она, критически оглядев Дашин головной убор. – Темно-синяя лента лучше оттенит твои глаза. Как можно не обращать внимания на такие вещи!
Даша удивленно подняла брови, посмотрела на нее и рассмеялась. Что ни говорите, а у тетушки покладистый характер.
Даша теперь дружила с Соней Левченко. Они сходили в кинематограф, с трудом высидели сеанс в душном, переполненном зале и затем долго бродили по улице.
Соня рассказывала о Саше и его приключениях. Была в ее словах гордость за брата и легкая грусть.
Потом девушек догнал Разгонов. Ходил он теперь с высоко поднятой головой. Был щегольски одет: новенькая шинель, хрустящей свежести ремни, глянец на сапогах. Он подхватил их обеих под руки и принялся с важным видом рассказывать новости.
Разгонов считал себя знатоком в мировых вопросах и охотно распространялся об этом, правда в самых общих выражениях. Говорил он по-особому внушительно, веско, эрудированно, так, что, слушая его впервые, каждый думал: «Экий умница!»
Девушек, однако, мировые проблемы не очень увлекали. Даже Разгонов в конце концов заметил это.
– Знаете, разговор принял скучный оборот, – сказал он, – Но не судите меня строго, пожалуйста. Все это меня волнует, я живу этим... – Он еще долго продолжал рисоваться перед ними.
Вернувшись вечером домой, Даша поужинала, ушла в свою комнату и стала думать о Логунове. Только вчера он был у них. Вера Павловна поила его чаем. Даша сперва дичилась, а затем тоже вступила в разговор.
В пристальном взгляде Логунова было что-то совершенно незнакомое ей, то, что пугало ее и в то же время делало безмерно счастливой.
– Сегодня хороший день, хочется, чтобы все были счастливы. Особенно – вы! – сказал Логунов.
Лицо у Даши посветлело. Если бы Логунов попристальнее взглянул на нее, радостный блеск ее глаз сказал бы ему многое.
Но тут как раз вошла Олимпиада Клавдиевна...
Когда Логунов ушел, Даша смотрела вслед ему из окна. И невдомек было обоим, что одно и то же чувство заставило сильнее биться их сердца.
Припомнив до мелочей все, что было вчера, Даша взяла со стола маленькое овальное зеркальце и долго при свете лампы рассматривала в нем свое лицо; сама себе она не понравилась, вздохнула, погасила лампу.
Уличный фонарь за окном бросал лучи через замерзшее стекло; рассеянные полосы света ложились на потолок. От ветра фонарь на улице раскачивался, и световые блики на потолке тоже двигались, меняли очертания. Даша лежала с открытыми глазами, смотрела на эти колеблющиеся, неверные, исчезающие временами световые пятна.
3
Отношение тетушки к Логунову в известной мере затрудняло их встречи. Логунов не знал, как Даша отнесется к его признанию. Ему жаль было бы разрушить крепко завязавшуюся между ними дружбу. А что, если она его не любит?
«Что же это со мной такое? Я люблю его, – неожиданно заключила она, и сердце у нее забилось радостно и тревожно. – Да, я люблю. Но любит ли он меня?»
И вот все решилось в один день. Решилось просто, совершенно необычно, даже без слов. О главном они действительно ничего не сказали друг другу, не успели сказать. Но все стало ясно, и не осталось ничего недоговоренного.
Центральный комитет флотилии решил командировать Логунова в Благовещенск. На Главной базе меньше всего знали о том, что делается в Астрахановском затоне. И «Орочанин» и «Пика», зазимовавшие там, были в числе кораблей, которым с открытием навигации предстояло нести вахту на Амуре.
Получение инструкций и документов заняло много времени. Поезд отходил вечером. Логунов уже отказался от мысли проститься с Дашей. Но тут ему неожиданно повезло: председатель Центрального комитета флотилии ехал на заседание в Совет; в санях нашлось место и для Логунова. Он сэкономил таким образом целый час. Оставив свой сундучок у военного коменданта станции, Логунов поспешил к Ельневым.
Дашу он застал одетой, у калитки. Она торопилась куда-то со двора. Всю оживленность с него как рукой сняло. «Ну вот... поговорили. Вечно так», – с досадой подумал он.
– Знаете, я уезжаю, – сообщил он безразличным тоном, глядя на ее высокие зашнурованные ботинки.
– Уезжаете? – брови Даши взметнулись, как два крыла. Выражение испуга появилось в ее широко раскрытых глазах.
– В Благовещенск. По делам службы.
Она не шепнула, выдохнула:
– Надолго, Федор Петрович?
– Не знаю. На месяц, наверно.
Не признаваясь себе в том, он хотел, чтобы Даша проводила его на вокзал. Логунов нарисовал уже в своем воображении картину, как это будет: что скажет он, как она поглядит на него и как они потом поцелуются. Даша будет стоять на перроне и махать платочком вслед поезду. Но с самого начала все, кажется, пошло наперекос.
– Да вам-то что! – воскликнул он вдруг с каким-то лихим отчаянием. – Плакать не будете.
– Зачем же вы меня обижаете? – со слезами спросила Даша.
Ей стало холодно, и она потеплее запахнула шубку, спрятала подбородок в воротник.
Логунов замолчал. «Что я, в самом деле, на нее набросился?» – подумал он.
– Думайте, что хотите, но мне будет скучно, если вы уедете! Я буду ждать вас, Федор Петрович, – сказала Даша очень серьезно.
Он стоял спиной к калитке и смотрел на ее лицо, в ее большие глаза, выражение которых ему трудно было разгадать, но оно очень волновало его. Поколебавшись немного, Логунов осмелился взять Дашу под руку. Она не отстранилась, только щеки и даже шея у нее вдруг сделались пунцовыми.
– Вы когда уезжаете? – робко спросила Даша, когда они немного отошли от дома, и заглянула сбоку ему в лицо.
– Наверно, через полчаса. Если не опоздаю на поезд, – сказал Логунов, чуточку сильнее прижимая к себе ее локоть.
– Так надо бежать! Или извозчика, извозчика возьмем, – заторопилась Даша, мигом позабыв, куда она шла и зачем.
Извозчика они не стали брать, а побежали к вокзалу ближним путем, через «барахолку». Логунов старался несколько умерить шаг, а Даша все забегала вперед и торопила его.
– А вы ничего не забыли, Федор Петрович? Где ваши вещи? – спрашивала она, оглядываясь на него.
Так они добрались до вокзала минут за пять до отхода поезда. Логунов только успел забрать свой сундучок, как дали второй звонок. Отставшие пассажиры бежали по перрону к вагонам.
Даша в эти последние минуты избегала встречаться с ним глазами, словно боялась, что он прочтет в них все невысказанное. Логунов мял шапку в руках и тоже не смел поднять на нее глаз. Потом он неожиданно коснулся ее руки. Даша посмотрела на него. В это время раздался третий звонок, оглушительно загудел паровоз. И вдруг, будто кто-то подтолкнул их навстречу друг другу, счастливо улыбаясь, они взялись за руки.
Последнее, что запомнил Логунов, было крепкое пожатие руки и Дашины глаза, полные любви. Затем он во всю прыть помчался вслед за поездом и сел в один из последних вагонов, рискуя очутиться под колесами.
Было темно, и на небе одна за другой загорались звезды, когда Даша вернулась с вокзала домой. Просунув руку в узкую щель, она нащупала и сняла крючок, толкнула калитку, но, не переступая порожка, остановилась. Грудь ее высоко вздымалась, смятенные мысли мчались одна за другой.
Любовь! Хотя ни одного слова об этом не было сказано между ними, Логунов стал для Даши самым близким и дорогим человеком. В девичьих своих грезах Даша прежде не раз спрашивала себя, каков же он будет – ее суженый. А теперь она просто сказала себе: «Он». И с этим повернулась и пошла от калитки в глубь двора такой плавной, легкой походкой, точно боялась расплескать то, что сразу до краев наполнило грудь и составило ее, Дашино, счастье.
Логунов тоже понял, что отныне его судьба неразрывно связана с Дашиной судьбой. При одной мысли о ней он чувствовал себя способным своротить горы. Он вспоминал ее лицо, взгляд, который так много открыл ему, ее слова. Все время стоял перед глазами милый его сердцу образ девушки.
Высмотрев на верхней полке свободное место, он укрылся шинелью и долго лежал, устремив свой взгляд в темный потолок, предаваясь мечтам.
Когда начало светать, сквозь замерзшее окно Логунов увидел горы, придвинувшиеся вплотную к железной дороге, снег, черные стволы деревьев, рыжие пятна глины и серьге камни на крутых склонах. «Должно быть, к Облучью подъезжаем», – подумал он. Но тут поезд влетел в длинный туннель; в вагоне сразу наступила кромешная тьма, и Логунов сообразил, что та станция, на которой они недавно стояли, и была Облучье.
Он подумал о цели своей поездки, повернулся на бок и уснул крепко, уверенный, что все обойдется как надо.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Верстах в семи от Благовещенска, в деревне Астрахановка, расположилась Зейская база военной флотилии. В небольшом затончике стояли зазимовавшие здесь канонерская лодка «Орочанин» и посыльное судно «Пика». Команды обоих кораблей жили на берегу в одноэтажной казарме. Рядом находилась мастерская затона – так громко называлось похожее на длинный сарай строение, в одном конце которого разместилась закопченная дочерна кузница на два горна с ручными мехами, а в другом помещении чуть попросторнее, с окнами, стояли токарный и сверлильный станочки и слесарные тиски. Под потолком устроена хитроумная система блоков, позволявших перемещать с одного места на другое громоздкие машинные части. В пристройке имелся еще так называемый столярный цех, в нем выполнялись и такелажные работы.
База выглядела бедно, и если бы не золотые руки корабельных специалистов, вряд ли тут возможен был серьезный ремонт. Но такой ремонт производился из года в год. Шел он и в зиму 1918 года, может быть одну из самых трудных зим для нашего флота.
Дела в Астрахановке оказались в лучшем положении, чем думали на Главной базе. Команды обоих кораблей не теряли зря времени. Душою маленького гарнизона были матрос-комендор Марк Варягин и артиллерийский кондуктор Макаров. Один – веселый, порывистый и горячий, другой – несколько медлительный, осторожный. Они прекрасно дополняли друг друга.
Посыльное судно «Пика», вымороженное изо льда, стояло с зияющей дырой в носовой части, окруженное со всех сторон подпорками. Осенью по мелководью «Пика» поцарапала днище на каменной банке. Сейчас на корабле меняли поврежденные листы обшивки. Работой руководил пожилой мастер-клепальщик из Министерского затона в Благовещенске. Рядом стоял небольшой переносный горн; матросы в рабочих робах ловко выхватывали раскаленные докрасна заклепки и подавали клепальщикам. Стучали кувалды. Работа продвигалась споро, и дыра в днище на глазах у Логунова закрылась последним листом.
«Орочанин» стоял дальше от берега, прочно вмерзнув в гладкий лед. Снег, постоянно сметаемый с палубы, неровным валиком лежал вокруг борта; от этого осадка канонерки казалась более низкой, чем была на самом деле. Впрочем, надводная часть речных судов вообще невысока. Орудия «Орочанина» были зачехлены, но они придавали кораблю боевой вид.
– Который раз запрашивают, а вы помалкиваете. Непорядок это, – выговаривал Логунов, когда астрахановские товарищи рассказали ему о положении дел и познакомились с привезенными им вопросниками.
Макаров почесал голову, придал своему лицу простоватое выражение.
– Понимаешь, Федор, покурили ребята бумагу. Писать не на чем.
– Так я вам и поверил, – засмеялся Логунов.
– Ну верь не верь, а писать нам некогда. Нету такой способности.
– Вот свалился ты на нашу голову, – с неудовольствием заметил Варягин. На бумажных полях вопросников предвиделось столько подводных мелей и рифов, что он предпочел сразу отвернуть в сторону. – Давай так: бумаги побоку. Я сейчас еду на завод Чепурина продвигать заказ. Подброшу тебя до города. Посмотришь, чем тут дышат. Зайдешь в Совет – к Федору Никаноровичу.