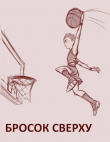Текст книги "На восходе солнца"
Автор книги: Н. Рогаль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
Сташевский попытался отстранить его и пройти в дверь, но часовой с решительным видом загородил вход винтовкой.
– Не прикасайтесь ко мне... Как вы смеете! Я начальник конторы! Или вы ослепли? – визгливо закричал Сташевский.
– Ты не шуми. – Матрос нахмурился и недобро взглянул на него. – Часовому начальник один – караульный. По воинскому уставу, понял? И отойди на дистанцию. – Он взял винтовку на руку.
Сташевский отпрянул с неожиданным для такого толстяка проворством. Рысцой он догнал Сашу.
– Вы слышали! Какой нахал, а!.. Я – постороннее лицо... – Он обиженно заморгал глазами и громко посморкался в пестрый клетчатый платок.
2
Неожиданно среди зимы наступила оттепель. Закапало с крыш, над карнизами повисли ледяные сосульки. Дни стояли солнечные, яркие. Во дворе на утоптанном грязном снегу прыгали воробьи.
Саша сидел у окна и смотрел на их веселую возню. Снова и снова обдумывал он свое положение.
Наконец у него открылись глаза: он увидел, что за люди окружают его в доме отца, понял их лицемерие, лживость, тупость, эгоизм. Саша теперь не испытывал к ним никаких других чувств, кроме презрения.
В конце концов Саша пришел к единственно возможному выводу: оставаться дольше в доме нельзя. Но как сказать об этом Соне? Как объяснить ей причины? Его привязанность к сестре была по-настоящему глубокой и сильной. Уж он-то понимал, насколько она одинока. А нанести ей еще удар, причинить боль – было выше его сил. И Саша все оттягивал решающий разговор с отцом.
В последние дни Саша стал особенно внимателен к сестре. В разговорах он избегал таких тем, которые могли бы напомнить о близящемся разрыве. Он уже не убегал из дому при первой возможности, а терпеливо дожидался, пока Соня освободится от хлопот по хозяйству. Вместе они бродили дотемна по улицам. Саша смешил сестру меткими замечаниями, острил по поводу общих знакомых: он был неистощимо весел. Соня подстраивалась под его настроение; она смеялась еще звонче, еще заразительнее. «Вот счастливая и беззаботная пара!» – сказал бы любой, глядя на них со стороны.
Но Саша ошибался, думая, что он хоть на время избавил сестру от тревог. На Соню он продолжал смотреть глазами старшего брата, всегда знавшего ее сообразительной, умной, но все-таки девчонкой; перед ним же была взрослая девушка, которой жизнь уже преподала первые суровые уроки. Соня нисколько не обманывалась относительно намерений брата; напротив, перемена в его отношении к ней явилась для нее новым подтверждением близости часа разлуки. Однако Соня была искренне благодарна брату за его попытку как-то скрасить последние дни. Ни разу при нем тень огорчения не мелькнула на ее лице: она научилась владеть своими чувствами.
И все же развязка наступила скорее, чем они думали.
Саша в той же позе сидел у окна, когда Соня с радостным возгласом ворвалась к нему в комнату.
– Вот я и управилась! День сегодня чудный. Пойдем в кинематограф!
Саша медленно повернул голову, посмотрел на сестру отсутствующим взглядом; сердце у Сони сжалось.
– Ты не болен, Саша? – спросила она с тревогой.
– Я? – он сухо рассмеялся. – Ничего ты не понимаешь, сестренка. А жаль... Во всяком случае, дело идет к концу. Я вижу это и очень рад.
– Вот чего я боялась, – тихо сказала Соня и опустилась на стул.
Саша с удивлением взглянул на нее. За простыми словами сестры скрывалось столько скрытой сердечной муки, что это пристыдило его. Она сидела перед ним, слегка закинув голову назад; ее волнистые, отливающие золотом волосы спадали на плечи, глаза с мольбою были устремлены на него. На ресницах у нее трепетали слезинки.
– Я боюсь за тебя и за отца боюсь. Боюсь за нашу семью, которая рушится у всех на глазах, – продолжала Соня. Голос ее выдавал глубокое волнение, как она ни старалась скрыть это.
– Ну, не только тот свет, что в окошке.
Саша понимал, что было бы лучше прекратить разговор, но теперь уже не мог: все, что он пережил и передумал за это время, все с новой силой поднялось в нем.
– А если и меня затянет проклятая тина, – ты не боишься?.. Сижу вот у окна, как птица в клетке. И дверь отворена настежь, а взмахнуть крылом – решимости нет. Разве не досадно, не горько это сознавать?
Саша не желал обострять отношения с сестрой, но ее безответная покорность и уступчивость отцу не на шутку раздражали его. Помимо воли у него сорвалось с языка несколько резких замечаний. Соня обиженно посмотрела на брата, покраснела и вдруг рассердилась.
– Перестань, пожалуйста, – с досадой, резко сказала она. – Я бы, может, тоже ушла, да куда?.. И характера у меня нет. Отца оставить я не могу и не оставлю... Ты меня до слез довел этими глупыми попреками.
Ее слова отрезвляюще подействовали на Сашу. «Ее-то я зачем обижаю?» – со смущением подумал он.
– Ты звала в кинематограф. Что ж, пойдем, – сказал он.
На улице гомонила толпа.
Было воскресенье.
Саша не без труда достал билеты, и они прошли в партер. Зал был полон, но сеанс почему-то не начинали. Наконец появился администратор.
– Уважаемая публика, приношу тысячу извинений! – сказал он. – Неисправен аппарат. Мы вызвали второго механика. Может, угодно пока послушать информацию о текущем моменте?
Двое билетеров внесли столик. Поставили графин с водой. Пододвинули к столу стулья.
Из первого ряда поднялись и прошли к столу Сташевский, адвокат Кондомиров и худенькая женщина с целой копной рыжих волос.
Сташевский театральным жестом простер руку.
– Поскольку у нас имеется время, не угодно ли продискутировать вопрос о войне и мире? М-м... существуют разные точки зрения. Но мы будем руководствоваться священными интересами родины. Нет возражений?
– Есть! – крикнули с галерки, но в партере зашикали.
– Мы терпеливо выслушаем всех, – добродушно пообещал Сташевский и успокоительно помахал пухлой рукой.
Кондомиров вышел вперед, отвесил общий полупоклон.
– А все-таки, будет мир или нет? – опережая его, спросили с галерки.
– Не в этом вопрос, – адвокат привычным движением заложил руку за борт пиджака. – Вопрос в том – хотим мы похабного мира с немцами или нет? Большевики в Бресте...
Оратор призывал продолжать войну до победного конца, грозил России гибелью, если в Бресте будет подписан мир на условиях, выдвинутых немцами. Говорил он ровным, журчащим голосом.
– Нас обвиняют в разжигании страстей и чуть ли не в людоедстве. Что может быть превратнее такого истолкования призыва к патриотизму граждан? Это проявление естественного защитного рефлекса народа перед лицом опасности. – Кондомиров простер обе руки вперед, как бы взывая к справедливости. Потом он вытер вспотевший лоб батистовым платком, спрятал его в карман, вздохнул и уже другим, успокоенным тоном заметил: – К счастью, времена каннибализма и человеческих жертвоприношений давно прошли.
– Совершенно верно, – громко подтвердил бас из середины зала. – В наше время индивидуальные человеческие жертвоприношения бессмысленны, теперь сразу миллионы людей посылают в механизированную бойню. Это и есть война, куда нас зовут ради прибылей господ капиталистов. Позор! И вы еще смеете именовать себя социалистами?..
Кондомиров не удостоил его ни ответом, ни взглядом.
– Я предлагаю... мы должны, – запальчиво крикнул он, и голос его сорвался. – Да, должны! Должны осудить переговоры в Бресте...
– Самого тебя судить надо, барин! – сердито возразила просто одетая женщина в третьем ряду.
– Решит-тельно осудить! – Адвокат воинственно рубанул рукой воздух перед собой. – Мы покажем, что есть еще люди, готовые честно исполнять свой долг. Есть! – Он всем корпусом качнулся вперед, будто его толкнули в спину, пожевал губами и закончил без всякого подъема, будничным голосом: – Предлагаю открыть запись добровольцев, готовых сражаться с тевтонами.
Медноволосая женщина пододвинула к себе листок бумаги и уставилась в зал округлыми, совиными глазами. Сташевский, забыв о своем обещании выслушать всех, деловито, как на аукционе, сказал:
– Итак, открыта запись добровольцев. Кто первый? – он поискал кого-то глазами в зале, не нашел, досадливо поморщился и спросил: – Неужели здесь нет патриотов?
Зал выжидательно молчал.
– Есть! Запишите меня, – вдруг крикнул с места Саша и, прежде чем Соня успела остановить его, пошел по проходу, провожаемый удивленными взглядами. Сташевский заулыбался навстречу. Кто-то зааплодировал, недружные хлопки покрыл пронзительный свист галерки.
– Ах, душка-а! Какой хра-абрый... – восхищенно сказала шикарно одетая дама.
– Дурак, а дураки, как известно, ничего не боятся, – под общий смех ответил бас.
Саша отчетливо расслышал реплику и покраснел.
– Я был на фронте. Ранен. Отравлен газами, – волнуясь, заговорил он. – Думал, что с меня хватит. Но я готов воевать, раз нужно. Вот я ставлю подпись. – Он лихо расчеркнулся на пустом листе бумаги, выпрямился, намеренно не замечая протянутой ему руки Сташевского. – Кто же следующий? Может, вы, господин Кондомиров? – и Саша с любезной улыбкой обернулся к адвокату. – Прошу вас, сударь...
– Я?.. Но почему я?.. У меня здесь неотложные дела, – Кондомиров недоумевающе пожал плечами.
– В самом деле, почему вы? – громко и с издевкой спросил Саша, обращаясь уже не к адвокату, а в зал. – Нам можно, а ему, видите ли, мама не велит. Его функция болтать, а нам – умирать.
– Вот подде-ел! – в восторге закричали на галерке и бурно захлопали, затопали ногами. – Крой их, дружище! Валяй!
Саша со злорадным удовольствием читал растерянность и злобу на лицах тех, у кого он только что видел поощрение и поддержку.
– Итак, запись продолжается! Прошу, господа. Вот вы, я к вам обращаюсь, уважаемый председатель, – войдя в роль, звонким и чистым голосом объявил Саша, вызывающе поглядев на растерявшегося Сташевского. – Мы на все готовы ради, блага отчизны и собственного благополучия, конечно.
Галерка дружно смеялась.
– Ай да спектакль!
– Неужели здесь один я оказался простаком? – не без сарказма спросил Саша.
– Александр Алексеевич, одумайтесь! Неприлично так шутить, – сдавленным полушепотом проговорил Сташевский.
– Ага, шутить? – Саша окинул Сташевского негодующим взглядом. – Так это всего милая шутка? Вы слышите? – Продолжал он, обращаясь к людям на галерке. – Отчего же шутя не поиграть еще миллионом человеческих жизней? Этим господам дай волю, они мать родную продадут ради выгоды. – Саша рукой откинул назад спустившуюся прядь волос, бросил в притихший зал страстные, выстраданные слова: – Нет, не надо войны! Дайте нам мир, которого требует Ленин!.. Здесь, наверно, есть фронтовики. Есть солдатские вдовы и сироты. А ну-ка спросите их: нужна им война за интересы международных банкиров или нет? Пусть поднимут руки, кто не хочет войны.
Саша увидел множество взметнувшихся кверху рун, множество смеющихся милых человеческих лиц. Он испытал в эту минуту такой душевный подъем, такую радость, какой давно не переживал.
– Отлично вы сказали. В самую точку, – проговорил подошедший к столу Потапов. Предупрежденный по телефону об эсеровском митинге в кинотеатре, он поспешил сюда. – Разве это не показательно, что здесь не нашлось ни одного человека, желающего поддержать оборонцев? – продолжал он, обернувшись лицом к залу, не давая Сташевскому возможности вмешаться. – Одним война не нужна. Некоторые хотят, чтобы за них воевали другие. Вот гак и получается. Вы говорите о патриотизме, – глянул он на Сташевского. – Ложь! Настоящий патриотизм в современных условиях в том, чтобы воспрепятствовать буржуазии убивать сотни тысяч людей ради прибылей ничтожной кучки капиталистов. Для этого рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки. И они не позволят увлечь себя обманными лозунгами. Вам эта война нужна? – показал он пальцем на сидевшего перед ним высокого, болезненного с виду мужчину. – Вам?.. Вам тоже нет? Так чего здесь людям головы морочат? – спросил он под общий смех всего зала. – Почему так хлопочут эти господа? Хотят втравить нас в непосильную нам сегодня войну с кайзеровской Германией. Штыками немецких солдат намереваются покончить с Советами в России. Ведь вы этого добиваетесь, да? – спросил Потапов, оборачиваясь к Сташевскому.
В эту минуту в зале погас свет.
Кто-то в темноте довольно грубо толкнул Сашу, над самым ухом прозвучал раздраженный голос администратора:
– Не стойте в проходе. Демонстрация картины началась.
Саша ощупью побрел к своему месту; как в тумане, слышал он голоса, реплики:
– Хоро-ош сынок у Алексея Никитича!
– А что, молодец!
Соня за руку потянула Сашу на свой ряд и, когда он уселся на стул, зашептала:
– Ты с ума сошел!..
– Наоборот, сестренка, – за ум взялся! – серьезно ответил Саша и нежно, успокаивающе погладил ее руку.
Вернулись они домой в обеденный час. В гостиной собрались завсегдатаи. Было нетрудно догадаться, что сегодня главной темой разговора являлся Сашин поступок: при появлении Саша все вдруг замолчали.
Алексея Никитича не было в гостиной, не было и Сташевского, хотя его пальто висело на вешалке в прихожей. Саша саркастически усмехнулся и, не здороваясь ни с кем, прошел к себе.
Соня накрывала стол, глотая слезы; лицо ее горело. Через растворенную дверь она слышала разговор в гостиной; все с поразительным единодушием осуждали ее брата. Там, в кино, она тоже не одобряла его выходки, но сейчас в ней заговорил дух протеста: Саша в тысячу раз лучше и честнее всех этих никчемных людей. По какому праву они смеют судить его? Кто сами они такие? Впервые в своем сознании она отделила брата от окружающих ее моралистов. Не стыд за Сашу, а нечто похожее на гордость шевельнулось в ее груди.
Саша читал или делал вид, что читает, когда Соня вошла в комнату. Никаких следов раскаяния или сожаления не увидела она на спокойном, задумчивом лице брата. Соня деликатно и мягко спросила:
– Тебе, может, неудобно быть сегодня в столовой? Я поставлю обеденный прибор в твоей комнате.
– Неудобно? – Саша с неожиданной для нее веселостью рассмеялся. – Правду говорить всегда удобно, сестренка. А на мнение этой публики мне в высшей степени наплевать.
Алексей Никитич вопрошающе уставился на сына; возможно, он ждал, что тот извинится перед Сташевским. Но Саша и бровью не повел – взял нож и вилку и занялся едой. Происшедшее нисколько не отразилось на его аппетите.
А Соня ждала, что гроза разразится с минуты на минуту.
К ее удивлению, обед благополучно дошел до конца. Гости вели себя благопристойно, хозяин отмалчивался. Разговор касался самых невинных предметов – погоды, охоты.
Соня подала чай с коньяком; языки наконец развязались.
– Ну и номер вы откололи, молодой человек! Ай-я-яй! – с легким укором заметил Судаков, обращаясь к Саше и рассчитывая разрядить обстановку. – Занятный получился анекдот!
Саша повернулся к нему спиной. Судаков обиженно хрюкнул, заговорил о высокой политике, – в этой сфере он чувствовал себя гораздо увереннее.
«Нет, подальше... подальше от этих людей!» – думал Саша. Занятый своими мыслями, он почти не следил за общим разговором. Но вот до его сознания дошли слова Сташевского:
– Ярость толпы слепа, безрассудна, жестока. Она смирится только перед жестокостью силы. Нужен жандарм, господа!
Саша круто повернулся вместе со стулом.
– Почему же об этом вы не говорите открыто, на собраниях? – запальчиво и резко спросил он.
– Видите ли, – Сташевский замялся, покосился глазом на Алексея Никитича, – в политике приходится считаться с тем, что меры, направленные в конечном счете для народного блага, могут быть дурно истолкованы. Простым, неискушенным людям они покажутся... э-э... слишком узкими, эгоистичными. – Он покрутил пальцами в воздухе, будто сучил веревочку для повешения инакомыслящих. – Народ темен. Он легко поддается, если апеллируют не к его разуму, а к желудку. Мы своей агитацией должны парализовать грубые стороны человеческой природы. Нарисовать, так сказать, грядущие перспективы...
– То есть подсластить пилюлю. Вы это хотите сказать?
– Если угодно – да. Такова обязанность врача. Что делать, если больной отказывается от лекарства именно потому, что оно горькое.
– Это вы искренне?
– Вполне, – охотно подтвердил Сташевский и улыбнулся какой-то особенной, гадкой, подленькой улыбочкой.
– Значит, вы говорите не то, что думаете? Сознательно делаете это?
Лицо Саши от волнения покрылось красными пятнами; он сидел прямо на стуле и упорно глядел через стол на Сташевского.
– Ничего не попишешь, молодой человек, – лениво и равнодушно ответил тот, не замечая Сашиного состояния. Отпив из рюмки, он договорил: – Иначе что о нас люди скажут?
– Люди? – спросил Саша и медленно поднялся, комкая зажатый в руке край скатерти, не замечая, что посуда посыпалась на пол.
За столом мгновенно установилась тишина. Саша, однако, овладел собой, продолжал с уничтожающим сарказмом:
– Послушать вас – все вы прекрасные граждане, превосходные, замечательные люди. Я не согласен! Вы – никому не нужные, никчемные болтуны. Вы все ненавидите, презираете! Что вам высокие понятия, о которых вы так охотно говорите? Звук пустой! Вы даже друг друга стараетесь обмануть, надуть хотя бы в мелочах. Улыбаясь, вы прячете зависть и злобу. Считаете себя солью земли русской, тонким слоем носителей культуры. А сами – мертвы! Вы – грязная пена и мусор, носящиеся по воле ветра и волн, но воображаете себя деятелями истории. Ха-ха-ха! Какое самомнение! Эх вы, лакейские душонки! Подлость – единственное, на что вы еще способны.
– Послушайте, молодой человек, – перебил его Судаков. – Я уверен все же, что вы согласитесь со мной в одном и очень важном пункте.
– Нет, я с вами не соглашусь ни в чем, – резко оборвал Саша.
– Но я хотел бы... на правах знакомого.
– Я жалею, что знаком с вами!
– Ты замолчишь? Мальчишка! – сказал Левченко, угрожающе поднимаясь со стула.
– Прощайте! – Саша повернулся и быстрыми, твердыми шагами вышел из комнаты.
Алексей Никитич с треском отодвинул стул, ни на кого не глядя, пошел вслед за сыном.
– Александр, ты, конечно, понимаешь, что я больше не намерен терпеть это в своем доме? – суровым голосом сказал он.
– Ну конечно, – Саша горько улыбнулся. – Что ж, не буду больше обременять тебя. Я решил уйти, – это лучший для всех нас выход из положения.
Что-то дрогнуло в лице Алексея Никитича. Соня, стоявшая в дверях, в отчаянии заломила руки. Саша посмотрел на отца смело и с вызовом.
– Вот ты как – уходишь? – помолчав, с недоброй усмешкой сказал Левченко.
Спокойный тон сына и раздражал и одновременно действовал отрезвляюще на Алексея Никитича. Он почувствовал себя обиженным. Раздражение и обида взяли верх.
– Я тебя не гоню. Но если ты уйдешь, ноги твоей тут больше быть не должно! – твердым, решительным тоном заявил Алексей Никитич и повернулся к сыну спиной.
– Хорошо, – коротко ответил Саша и стал собираться.
Соня не посмела вступиться за брата. На что мог бы отважиться человек с сильным характером, то было недоступно ей. Нерешительность и мягкосердечие мешали ей заявить твердо о своем мнении. Она не стала в чем-либо упрекать Сашу, сама помогла собрать вещи. Саша успокаивал сестру, как мог. Соня слушала его с поникшей головой; отныне она останется в доме одна. Но разве не ее долг заботиться об отце? Об этом ее просила умирающая мать. Нужно безропотно исполнять свои обязанности. Каждый дом держится на женщине.
Саша застегнул шинель, подтянул ремень потуже; привычно, одной рукой прикинул вес солдатского ранца (брать чемодан он наотрез отказался). Обнял сестру, поцеловал ее в обе щеки.
– Не горюй, Соня! Живы будем – не помрем. Если мне что-нибудь понадобится, я дам тебе знать! – У порога он обернулся, скользнул взглядом по комнате, ободряюще помахал сестре рукой.
Соня прильнула к стеклу, следила за ним, пока он ровным, неторопливым шагом шел через двор. Потом она бросилась на кровать, уткнула лицо в подушки и разрыдалась, громко всхлипывая.
За окном не скоро догорела вечерняя заря. Сгустились сумерки, черная тьма заполнила комнату, а Соня все лежала.
Окна се комнаты выходили в сад; сквозь черные голые ветви деревьев смотрели с вышины вечерние звезды.
За стеной слышались шаги Алексея Никитича.
3
Саша вышел за ворота отцовского дома и остановился. Как-то сложится теперь его жизнь? Ну что ж, он сам сжег за собой все мосты. Он тряхнул головой, как бы отгоняя прочь тревожащие его мысли, и бодро зашагал по улице, еще сам толком не зная, куда идти.
Не прошел Саша и полквартала, как кто-то быстрыми шагами догнал его, чья-то рука дружески опустилась на его плечо, и знакомый голос Савчука сказал:
– Здорово, Саша! Куда спешишь? – Иван Павлович умерил шаг и пошел в ногу с Сашей. – Да ты, брат, чем-то расстроен! Что случилось? С отцом не поладил?
Савчук оказал Саше важную услугу: он свел его с Демьяновым и посоветовал вступить в формировавшийся как раз отряд конной пограничной стражи. Они вместе прошли в здание милиции.
– Очень рад. Люди нам нужны, – сказал Демьянов, подходя к Саше и протягивая ему руку. – Раз Иван Павлович ручается, больше ничего не нужно. Вы в кавалерии служили? В пехоте? Но беда! Казаки вон природные конники, да половина из них контрабандисты. А в пограничной страже – это наихудший грех. Обращению с конем вас подучит Василий Ташлыков. Он мастак по этой части.
– Василия Максимовича я знаю, – сказал Саша.
– Тем лучше. Кстати, вы можете поместиться в комнате Ташлыкова – там свободная кровать, – заключил разговор Демьянов.
Василия Саша разыскал без труда, тот был дневальным. Трудно было признать в нем бывшего левченковского конюха: в фигуре его появились осанка, степенность; бороду он сбрил, оставив лишь густые усы, приобрел благодаря этому молодцеватость и казался моложе своих лет. Встретились они дружески. У Саши полегчало немного на душе.
Сменившись с дежурства, Ташлыков повел Сашу к себе на квартиру. Он прихватил котелок с едой. Дома у него был начатый полуштоф. Василий всячески показывал Саше, что рад ему, но в глубине души сам был смущен тем обстоятельством, что должен оказывать гостеприимство сыну своего бывшего хозяина. «Вот ведь как бывает на свете. И не подумаешь даже. Во сне не пригрезится», – рассуждал про себя Василий, отпирая дверь и пропуская Сашу вперед. Сбросив шинель, он сбегал за дровами, растопил печурку. Ладонью смахнул крошки со стола.
Саша присел на кровать и принялся разглядывать комнату. Колеблющийся свет свечного огарка еле озарял стены; было невозможно сейчас определить их цвет. Единственное окно пялилось в темноту. Стол качался, кровать поскрипывала, железные ребра сломанных пружин выпирали из-под тощего тюфяка. Впрочем, когда от печки пошло тепло, на конфорке запел чайник, а свеча, с которой Василий пальцами снял нагар, стала гореть ровнее и ярче, – новое жилище показалось Саше не таким уж плохим. Василий поровну разделил оставшееся вино. Они чокнулись и выпили за новую жизнь (обедать Саша отказался). Пока молодой Левченко предавался грустным размышлениям, Василий сидел против него за столом и с большим аппетитом ел сухую пшенную кашу, полученную на двоих. Изредка он посматривал на Сашу с одобряющей усмешкой.
– Папаша небось по-прежнему лютует?
– Да нет, меньше. Замкнулся в себе.
– Трудно Лексей Никитичу ломать свой характер, крутой он мужик. Ой, крутой! – без злобы сказал Василий и налил в кружку чаю. – А Софья Лексевна как, здорова?
– Здорова. Я бы из дому давно ушел, кабы не она. Жалко сестру. Хорошая она, добрая, – в голосе Саши зазвучала грустная нотка.
– Н-да... – раздумчиво протянул Василий, посмотрел на него и отставил кружку. Затем принялся рассказывать о преимуществах службы в корчемной страже.
– Дюже выгодное место было. Корчемные чины особняки себе в городе ставили. Самые завидные женихи считались. Да только теперь всех их по шапке, и нас на пост определили. Так-то, мил друг! Все меняется... – Он кочергой поворошил почерневшие угли в печке, прикрыл заслонку, докурил папиросу и сказал: – Ну, пора на боковую. Завтра рано вставать.
Но Саша еще долго ворочался с боку на бок: густой храп Ташлыкова мешал заснуть.
Со следующего дня жизнь Саши пошла таким стремительным ходом, что некогда стало грустить.
Хотя большая часть бойцов размещалась на частных квартирах, в отряде властвовал строгий военный распорядок. К семи утра всем полагалось быть в казарме. После завтрака шло распределение людей в наряды; с оставшимися командиры взводов проводили строевые занятия на прилегающем к казарме пустыре. Обедали в две смены, так как помещение столовой едва вмещало половину бойцов. Затем полагался часовой отдых – и занятия возобновлялись. В послеобеденные часы обычно проводились беседы по тактике борьбы с контрабандой, методике следствия или же на свободные общеобразовательные и политические темы. Лишь после вечерней поверки живущие вне казармы могли идти домой.
Саша втянулся в привычную лямку солдатской жизни. Ранний подъем, когда еще не брезжит рассвет, жесткие рамки дисциплины, постоянная забота об оружии, коне, которого он получил на третий день вступления в отряд, жизнь впроголодь, скрашенная соленой солдатской шуткой, – ему ли к этому привыкать! Больше всего хлопот доставлял Саше конь – серый рослый мерин, спокойный, но притом достаточно резвый. Коня ему порекомендовал Василий, сам ездивший на бывшем левченковском Нероне, возбуждавшем постоянную зависть у пограничников.
Как потом узнал Саша, их взводный хотел сперва забрать Нерона себе. Больно приглянулся ему конь с первого взгляда. Пользуясь командирской властью, он отвел все возражения Василия, но так и не сумел справиться с конем, не пожелавшим признать над собою волю чужого, незнакомого седока. Вылетев за какой-нибудь час дважды из седла, чертыхаясь, но и восхищаясь одновременно конем, взводный хмуро сказал Василию: «Экий черт!.. Стар я, видно. Ну, так и быть – владей!»
Нерон стоял в станке отдельно от остальных лошадей; он косил злым карим глазом на проходивших мимо дневальных и никого не подпускал к себе, кроме Ташлыкова. К лошадям он тоже относился с непонятной ревностью. Василию из-за него было много лишних хлопот, но он ни за что не променял бы Нерона на другого коня.
– Вот увидишь, – блестя помолодевшими глазами, говорил он Саше. – Нерон еще себя покажет. Такому коню цены нет.
Отобранного для Саши мерина Василий собственноручно перековал на все четыре ноги; попутно он объяснил молодому другу, как следует зачищать копыта коню, чтобы на них не образовалось трещин, и как надо вгонять ухнали. Работал он быстро, со сноровкой, не тревожил зря животное и умел подчинить его себе больше лаской, чем строгим окриком. Саша даже позавидовал Василию. А тот, угадав его мысли, сказал:
– Невелика мудрость. Научишься. Конь, брат, твою заботу видит и ценит, да только сказать не может – языка ему не дано.
Подковав мерина, Василий поставил его рядом со станком Нерона. И странное дело – оба коня сразу потянулись друг к другу, фыркнули негромко, обнюхались и морда к морде принялись теребить один и тот же клок сена.
– Ну, будут ходить в паре, ясное дело, – с облегчением сказал Василий и засмеялся. – Я же говорил тебе, конь все понимает, что его разумения касается. Все! – повторил он с убеждением.
Саша добродушно усмехнулся, но спорить не стал.
Отношения у них сложились так, что оба были довольны друг другом. Ташлыков больше не испытывал того чувства неловкости и связанности, которое было у него в первые дни. Саша повел себя так просто, искренне и дружелюбно, он был проникнут таким глубоким отвращением к жизни тех, от кого ушел, что Василий не мог не оценить этого. «Вот ведь как бывает», – сказал он себе, как в первый вечер, но уже с другим значением.
Василий знал жизнь не только с ее показной, поверхностной стороны, – знал и ее подоплеку. По складу ума он был склонен к философствованию и не раз поражал Сашу верностью и меткостью своих суждений. Саше было приятно, что такой положительный, бывалый человек стал его другом. В свою очередь Василий относился к Саше с той сердечной теплотой, какой пожилые одинокие люди редко кого одаривают.
Ташлыков был скуп на слова. Но иногда его будто прорывало, и тогда в темноте над его кроватью долго сновал красноватый огонек цигарки.
– Люди жить хотят, жить по-человечески, а тут их уговаривают: потерпите, мол, еще... Да до каких пор терпеть? Через то и отвернулся народ от эсеров, – говорил он своим глуховатым густым голосом. – Нагляделся я в доме вашего папаши на них вдосталь. Словами сыпят, как шелухой, и цена им та же – ломаный грош. А я вот не хочу дольше терпеть. Не хочу, и баста! Когда тебя сожмут, так норовишь расправиться, повести свободно плечом. Я себя теперь так понимаю, будто вывели меня на широкую, прямую дорогу. Иди, брат, говорят. Шагай навстречу заре прекрасной!
Саша лежал с открытыми глазами, глядел в потолок, думал, как, в сущности, схожи мысли Василия с его собственными. В такие минуты весь русский народ представлялся ему богатырем, порвавшим свои оковы. Ощущение было почти зримым, и сердце у Саши замирало от восторга. Он тоже чувствовал себя сильным и смелым.
– Раз человек стал думать, то до правды докопается. Быть иначе не может, – продолжал Василий.
«Да-да-а, – мысленно вторил Саша. – Вот и я ошибался. Но все-таки нашел свое место. Очень верно Василий это выразил. Ему бы образование. А сколько в народе скрытых талантов? Сколько?» – Глаза у Саши слипались, но он усилием воли прогнал сон, приподнялся, опершись на локоть.
– Учиться вам надо, Василий Максимович, – сказал он не совсем впопад, однако искренне.
– А кто о том прежде думал, чтобы нас учить?.. – помедлив, ответил Василий. – Прошло, парень, мое время.
– Нет, нет. Что вы! – горячо возразил Саша. – Да я вам помогу! – продолжал он, обрадованный тем, что может сделать нечто полезное для Василия. – Через месяц вы будете читать.
– Хотя бы через три, – Василий усмехнулся, не веря ни в серьезность Сашиного намерения, ни тем более в свою способность быстро овладеть грамотой.
– Вот увидите, через месяц! – убежденно настаивал Саша.
Он действительно с рвением принялся за дело. Обучать пришлось не только Василия: в отряде неграмотных оказалось человек десять. Занятия сблизили Сашу с бойцами. Нехватка педагогического опыта у него с лихвой окупалась редкостным прилежанием слушателей. Почти все они были люди пожилые, грамота давалась им нелегко. Надо было видеть, как они вырисовывали буквы негнущимися, заскорузлыми пальцами. Но все-таки продвигались вперед и вскоре начали читать по слогам.
Как-то ночью, когда Саша был дежурным, в казарму зашел Демьянов. Саша отдал рапорт. Демьянов посмотрел на длинный ряд коек. Бойцы спали. В дальнем углу кто-то звучно храпел.
– Подъем? – спросил Саша, перехватив взгляд Демьянова.