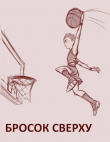Текст книги "На восходе солнца"
Автор книги: Н. Рогаль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
Последние кули сгружали прямо в сани.
– Пошла амурская пшеничка. Ах, хороша, – довольно гудел Захаров, помогая укладывать тугие мешки. – Завтра, должно быть, поступит зерно из Бочкарево. Подойдут вагоны с КВЖД. Ничего, выкрутимся... будет что жевать, – продолжал он, ссужая грузчиков табаком из своего кисета. – Поеду сейчас на мельницу, Иван Павлович.
Грузчики молча и жадно курили, провожая взглядом подводы. Кладовщик уже закрывал склад на замок.
– Поди к вагонам, закрой двери. Наметет еще снегу, – сказал Игнатов, обращаясь к молодому пареньку в ватнике. Тот щурясь поглядел на поднявшееся чуть повыше забора солнце и недовольно возразил:
– И пусть, нам-то что.
– Беги, да пойдем по домам. Сегодня среда – значит, у нас военные занятия, – напомнил Игнатов. Паренек вскочил и побежал к вагонам.
Игнатов жил недалеко от товарного депо. Он снимал комнату в доме знакомого железнодорожника.
– Ты не был у меня, Иван Павлович? Пошли, чаю попьем, – предложил он Савчуку, когда они поравнялись с калиткой.
Квартирка у Прохора Денисовича маленькая – одна комнатушка и кухня, зато с отдельным входом. В комнате полутемно, потолки низкие, окна крохотные, тусклые, выходили они не на улицу, а в глухую кирпичную стену соседнего дома. Солнце лишь ненадолго заглядывало сюда.
– Живу, как король. Сарайчик свой имеется. Держу кур пяток и кабанчика. В нашем хозяйстве это подспорье. Вот с кормами плохо теперь, – рассказывал Прохор Денисович, поливая из кружки на руки Савчуку. – Детишек, как видишь, четверо. Жена болеет. Давно уже. Как ты чувствуешь себя сегодня, Маша? – спросил он, и нотки ласковой нежности зазвучали в его грубоватом, немного простуженном голосе.
– С вечера знобило. А кашель унялся, так поспала, – тихо сказала женщина, лежавшая под одеялом.
Савчук не сразу заметил ее. Потом он увидел изможденное, худое, но все еще прекрасное лицо с яркими большими глазами.
– Дуняшка дров принесла, печь растопила. Старшая дочь у меня – помо-ощница, – продолжала она, посмотрев с печальной улыбкой на Савчука. – Проша, ты подай человеку полотенце.
За окнами пронзительно свистел маневровый паровоз, слышались сигналы рожков, лязгало и грохотало железо.
– Беспокойно у нас. Да мы привыкли, – сказала женщина, угадав мысли Савчука.
Худенькая девочка лет двенадцати деловито хлопотала возле стола. Достала с полки эмалированные кружки, две вилки, нож. Принесла тарелку с куском заветревшего с боков сала и краюху ржаного хлеба.
Прохор Денисович резал сало тонкими ломтями, накладывал его на куски хлеба и потчевал детишек.
Высокий, широкоплечий, с шапкой курчавых каштановых волос и курчавой, аккуратно подстриженной бородкой, с голубыми смеющимися глазами и вечной добродушной улыбкой – он был олицетворением силы и красоты.
Савчук познакомился с Прохором Денисовичем вскоре после того, как принял батальон. Он искал людей, умеющих обращаться с пулеметом, и ему указали на этого голубоглазого богатыря. Выяснилось, что Игнатов бывалый солдат; пулеметчиком он стал еще в русско-японскую войну. На все вопросы Савчука он отвечал обдуманно и точно.
«За первого номера ходил? Значит, будешь начальником пулеметной команды, – заключил Савчук. – Вот только пулемета у нас нет».
Но вскоре нашелся и пулемет.
Каждую среду и субботу красногвардейцы-грузчики занимались военным делом. Савчук следил за тем, чтобы не было пропусков. Он сумел установить дисциплину в батальоне.
– Как пулеметчики настроены сегодня? – спросил Савчук, беря кружку с чаем.
– Да пулемет ребята знают. Неплохо знают, – сказал Игнатов и оглянулся на жену.
Она тяжко, надрывно кашляла. Лицо ее казалось вылепленным из воска.
«Не доживет до весны», – подумал Игнатов. Мысль эта была мучительной для него. Сделав вид, что ему нужно взять что-то на полке, Прохор Денисович встал и зашагал взад-вперед по комнате. Ступал он осторожно, стараясь не скрипеть половицами.
На нем были высокие охотничьи сапоги, подвязанные под коленями ремешками. От сапог пахло дегтем, каблуки были сильно стоптаны.
– Косолап я, видно. Таким уж уродился, – сказал Игнатов, заметив взгляд Савчука. – Меня в армию не хотели брать из-за этого. Вот поднять бы на ноги ребят, – продолжал он без всякой паузы. И громко вздохнул.
– Похоронишь меня, Проша... женись, – сказала больная. – Легче тебе будет...
– Да что ты, Маша! Ты еще меня переживешь, – с деланой веселостью возразил Прохор Денисович. Он и не подозревал, как близок был на этот раз к истине.
«Да-а, королевское житье...» – подумал Савчук, присматриваясь к обстановке в доме.
Батальон грузчиков проходил ускоренный курс военного обучения. Изучали русскую трехлинейную винтовку. Савчук требовал, чтобы каждый красногвардеец умел разобрать и собрать винтовку с завязанными глазами.
– Ты, ее, как скрипку, по звуку должен чувствовать, – говорил он, демонстрируя такую сборку на ощупь. – Не садись за стол, пока оружие не вычищено. Винтовка – твоя верная подруга в бою. Ухаживай, люби ее – никогда не изменит.
Грузчики старательно затверживали названия частей: ствольная коробка, винт упора, ударник...
Савчук знакомил бойцов с гранатой, приемами штыкового боя, элементарными основами тактики пехоты. Красногвардейцы его батальона основательно попотели, бегая по буграм и оврагам.
В прошлую субботу батальон ходил на стрельбище. Было разрешено израсходовать по пять патронов на брата.
– За спуск не дергай, – говорил Савчук, наблюдая за действиями ближнего бойца. – Придержи дыхание и ровно нажимай, чтобы выстрел произошел неожиданно.
Результаты стрельбы первого взвода оказались ниже того, на что он рассчитывал. Дул боковой ветер, а многие бойцы не приняли во внимание снос. Взводный тоже забыл предупредить об этом.
– Послали пули за молоком. Молодцы! – ядовито похвалил Савчук и тут же разъяснил ошибку.
Другие взводы стреляли лучше. Домой возвращались с песней:
В день девятый января
Шли проведать мы царя...
Дела красногвардейского батальона занимали, пожалуй, главное место в теперешней жизни Савчука.
Посматривая с сочувствием на Прохора Денисовича, на его больную жену, он одновременно думал о предстоящем сегодня выходе в поле.
– Прохор Денисович, раз у тебя такое положение – бери освобождение недели на две, – предложил Савчук, когда хозяин без шапки вышел проводить его.
– Э-э, все равно! Я дров наколю, воды натаскаю. С остальным Дуняшка управится не хуже меня, – сказал Игнатов.
...Второй раз в этот день они встретились на левом берегу Амура среди занесенных снегом кустов тальника.
Савчук шагал напрямик к месту, где, по его предположению, должен был находиться батальон. Перед самым выходом в поле Ивана Павловича вызвали в краевой военный комиссариат. Пришлось ждать, пока окончится совещание и освободится нужный товарищ. Затем выяснилось, что Савчука звали совсем в другой отдел. Иван Павлович помчался в противоположный конец коридора, чтобы зря толкнуться в запертую дверь. После долгого ожидания он предстал наконец перед Разгоновым. Оказалось, что каптенармус батальона забыл подтвердить какую-то заявку,
– Вам что, делать нечего? Просили, значит, надо, – сказал Савчук и часто задышал.
Разгонов смерил его начальственным взглядом.
– Во-первых, делаю вам замечание. Вы не должны вступать в пререкания. Ясно? – заметил он тоном строгого выговора. – Во-вторых, я...
– А катись ты знаешь куда?! – вспылил Иван Павлович, задетый и этим тоном и еще больше заносчивым видом сидевшего перед ним чистенького и приглаженного штабного канцеляриста.
– То-ва-рищ Савчу-ук, без анархических выходок, пожалуйста!
Разгонов побледнел, поднялся из-за стола. В сущности, он не знал, что ему теперь предпринять. Он не ожидал, что Савчук столь бурно отреагирует на его замечание.
– Ладно. Можно без выходок... для первого знакомства, – с мрачной иронией согласился Савчук. Он тоже понимал, что здесь не место для спора. – Давайте я подпишу бумагу.
– В другой раз постараемся обойтись без недоразумений, – с обезоруживающей улыбкой заметил Разгонов. Он успел сообразить, что лучше не ссориться.
Негодуя на порядки в комиссариате, на хлыщей, которые пролезают всюду, чтобы портить настроение людям и губить живое дело, Савчук широкими шагами мерил снежную целину.
На снегу петли свежих заячьих следов. Савчук равнодушно посматривал на них, но сразу оживился, когда заметил рядом следы трех человек, прошедших срединой луга, где снег был не так глубок. Видно, они только что покинули открытое пространство.
«Ага, разведка. Прошли, а старицы не осмотрели...» – подумал Савчук и, изменив немного направление, зашагал к видневшимся невдалеке кустам.
Снег возле кустов был глубоким и рыхлым. Савчук двинулся в обход и тут неожиданно натолкнулся на искусно замаскировавшихся красногвардейцев. Они наблюдали за лугом.
Оказывается, Игнатов использовал эту неглубокую старицу с кустами ивняка по краям для засады. Савчуку достаточно было беглого взгляда, чтобы оценить все преимущества позиции.
Подав знак дозорным, чтобы они не докладывали о нем, Иван Павлович, придерживаясь рукой за куст, спрыгнул вниз.
Возле пулемета, присев на корточки, сидел красногвардеец в синем ватнике и шапке-ушанке. Савчук узнал китайца Ван Вэнь-шаня, недавно принятого в батальон. Игнатов что-то терпеливо объяснял ему, китаец кивал головой и восхищенно щелкал языком. Видно, стреляющая машина произвела на него сильное впечатление.
– Что, Ваня, пулемет изучить хочешь, а? – незаметно подойдя сзади, спросил Савчук.
– Просится, Иван Павлович. Уж очень просится, – сказал Игнатов.
Китаец при первых словах Савчука вскочил, сдернул с головы шапку.
– Моя не Ваня – Василий! Здравствуй, капитана! – сказал он и просительно улыбнулся. – Моя пулемета надо. Ладно. Шибко скоро его стреляй. Ши-ибко хорошо.
– А зачем тебе это нужно? Да ты покройся, шапку надень, – дружелюбно сказал Савчук.
– Моя Красная гвардия, – с достоинством ответил китаец, напяливая шапку и становясь во фронт. В мгновение ока вид его изменился: уже не покорный проситель стоял перед Савчуком, а подтянутый, внутренне собранный боец. – Работай вместе, воюй тоже вместе. Правильно!.. Потом моя обратно Китай ходи. Даешь Советская власть! – Глаза китайца блеснули. Затем он серьезным, ожидающим взглядом уставился на Савчука.
– Молодец! Убедил. – Савчук почувствовал не просто симпатию, а глубокое уважение к этому человеку, который так просто и бесхитростно изложил перед ним программу своей жизни. – Вот что, Прохор Денисович, – Савчук повернулся к Игнатову. – Зачислишь Василия в свой расчет сверх комплекта. И чтобы он за первого номера у тебя работал. Понял?
– Спасибо! Моя хорошо работай, – благодарно сказал китаец.
– Давай, давай! Будем с тобой, Василий, мировую революцию двигать. Разведка тут не проходила, не видел? – спросил затем Савчук у Игнатова.
– Да уж не мне их было окликать, – засмеялся Прохор Денисович. – Вот вся рота подтянется, так я их с фланга чесану... Будь здоров!
– Н-да... – Савчук похлопал прутиком по голенищу. – Вороны эти разведчики, черт бы их побрал!
Выбираясь из старицы, он оглянулся: китаец опять присел на корточки возле пулемета.
2
Дарья сидела у стола, подперев щеку рукой. На ее полных, припухлых губах бродила неясная улыбка. И весело и грустно было ей в этот вечер.
Последнее время Дарью мучила мысль о неустройстве ее жизни. Мужа она никогда не любила, а теперь и презирала его, как человека, который катится под гору да еще радуется этому. Если раньше Дарья была равнодушна к поступкам Петрова, то сейчас она судила его, как самый строгий судья. Все в нем было противно ей и чуждо, – следовало лишь порвать последние нити, формально связывавшие их.
Может быть, ее решение окончательно разорвать с Петровым и не созрело бы так скоро, если бы не приезд Савчука. Савчук приглянулся Дарье давно, еще до призыва в армию. Его равнодушие задевало ее, вызывало желание расшевелить парня, понравиться ему. Разумеется, это не было тем сильным, горячим чувством, которое вспыхнуло в ней в ночь пожара. Но теперь Дарье казалось, что ее любовь к Савчуку началась еще с тех пор, как они поселились в одном бараке.
Не сказав еще ничего о своем чувстве, не зная, как он отнесется к такому признанию со стороны замужней женщины, боясь показаться назойливой или смешной, Дарья вечерами терпеливо дожидалась возвращения Савчука. Она прислушивалась к его шагам, старалась как бы невзначай встретиться с ним в коридорчике, разделявшем их комнаты.
Дома ли Иван Павлович? Окна у них, когда Дарья проходила мимо, были темны. А где же Федосья Карповна? Надо узнать, когда он вернется.
Она недолго боролась с собой. Найдя первый благовидный предлог, Дарья вышла в холодный коридор и с сильно бьющимся сердцем робко, чуть слышно два раза стукнула в соседнюю дверь. Тотчас же она хотела повернуть обратно, но из-за двери голос Савчука спросил:
– Кто там? Входите.
Дарья толкнула дверь и шагнула через порог.
– Одну секунду. Я свет зажгу. – Савчук шарил в темноте по столу, ища коробок спичек.
– Мне Федосью Карповну надо, я на минуту только. Здравствуйте, – будто не своим голосом сказала Дарья, каждое слово ей приходилось выталкивать сплои из мгновенно пересохшего горла. – Хотела квашню ставить, а дрожжи у меня кончились.
– Мать скоро вернется. Садитесь, Дарья Тимофеевна. Вот сюда, – и Савчук предложил ей стул. – Я набегался сегодня, да ночью еще работал. Хорошо, что вы меня разбудили. А дрожжи?.. Не знаю, есть ли они в доме или нет. Должно быть, имеются. Мать у меня человек запасливый. Поискать, а? – говоря это, Савчук с улыбкой смотрел на Дарью.
– Вы сегодня рано, Иван Павлович. Всегда приходите поздно, а сегодня – рано, – заметила Дарья, чтобы сказать что-нибудь.
– В дорогу надо собираться. Завтра еду.
– В дорогу? А я не слышала... Куда едете, Иван Павлович? – Сердце у Дарьи сразу упало.
– Тут недалеко, в волость. Посылают недели на две. – Савчук потянулся за пачкой папирос, но раздумал курить. Выражение лица Дарьи поразило его: на нем были и растерянность, и тревога, и любовь.
«Две недели!.. Бог знает, что может произойти за это время», – думала она, комкая пальцами край шерстяного платка, накинутого на плечи.
– Знаете, Дарья Тимофеевна, давно я хотел с вами поговорить.
– Ну?.. – Дарья так и подалась вся к нему.
– Нет, после когда-нибудь, – сказал Савчук и взял папиросу. – Сейчас мать придет...
– Боишься? – спросила Дарья, прищуривая глаза. – А я вот не боюсь, пришла... Я про любовь свою сама скажу. Милый мой, хороший! – Она встала, шагнула к нему. – Ну зачем нам таиться? Я ведь вижу, сердцем почувствовала, как ты ко мне тянешься. Ох, радость моя или горе! – и Дарья первая обняла Савчука и поцеловала в губы.
...Вернувшись вечером домой, Савчук не стал зажигать свет и прилег на кровать. Едва он смежил веки, как сон навалился на него. Но через полчаса он проснулся. И первой мыслью была мысль о Дарье. Он лежал с закрытыми глазами и думал о ней.
Когда Дарья вышла в коридор, Савчук каким-то внутренним чутьем догадался, что она постучит к ним. Стук был еле слышный. И он поторопился сказать «входите», боясь, что Дарья передумает и вернется к себе. Разыскивая в темноте спички, он имел достаточно времени, чтобы справиться со смущением. Но как не нужны оказались эти его ухищрения!
– Знаешь, Ваня, – она впервые так назвала его и повторила, вслушиваясь в каждый звук его имени: – Ваня, шел бы лучше ко мне! Дрожжи ведь мне не нужны... Совестно было, вот и соврала.
Дарья поправила волосы и пошла к двери.
– Ты кушать хочешь? Наверно, не ужинал? – спросила она у себя в комнате, сразу входя в роль хозяйки.
– Да, признаться не ужинал, – сказал Савчук.
Она пододвинула ему хлеб, бобовое масло, налитое в блюдце, вареный картофель, солонку с солью, чай в большой эмалированной кружке. Он с удовольствием ел это незатейливое угощение, пил чай, весело посматривал на Дарью.
Дарья мелкими глотками допила свой стакан, поглядела на Савчука, чуть откинув назад голову.
Савчук привлек ее к себе, и они опять поцеловались.
– Довольно. Знаю, что любишь, – сказала Дарья, поправила на плечах платок и, отойдя в другой конец комнаты, спокойно закончила: – А мужу я сегодня все расскажу. Я обманывать не стану.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
В доме Левченко власть отца – главы семьи – всегда была непререкаемой. Не вмешиваясь в мелочи и не стесняя особенно свободу подраставших детей, Алексей Никитич сумел дать почувствовать каждому свою тяжелую руку. Он терпеть не мог, если кто-либо из домашних начинал противоречить ему. До сих пор Алексею Никитичу сравнительно легко удавалось держать дом в руках. Все – и дети, и прислуга, и даже посторонние люди, попадавшие в дом, – волей или неволей подчинялись раз установленному порядку. Все домашние в одно и то же время сходились в столовую завтракать, в один час обедали, ложились спать не позже полуночи.
Но теперь даже и это внешнее проявление дисциплины не соблюдалось. Было просто удивительно, как быстро распался, казалось, прочно слаженный семейный быт. Алексей Никитич на все махнул рукой. После недавней стычки с Сашей он закрылся у себя в кабинете и редко выходил оттуда. Он больше ни на кого не кричал, не повышал голоса, держался так, будто в доме осталась лишь его безгласная тень, и только мрачный взгляд исподлобья, которым Алексей Никитич вдруг окидывал собравшихся за столом домочадцев, выдавал его мысли и чувства. От этого взгляда присутствующим становилось не по себе.
Саша нарочно задерживался вне дома, чтобы опоздать к обеду и не встречаться с отцом. В нем боролись два противоположных чувства: ожесточение и жалость – жалость к отцу, который, как он догадывался, становился все более и более одиноким. Было просто невыносимо сознавать, что они так быстро начали отдаляться друг от друга. Несмотря на то, что Саша шел наперекор воле отца, в нем жила сыновья привязанность и уважение к нему. Ему страстно хотелось найти убедительные, горячие слова, способные растопить лед в их отношениях. Не раз он готов был сделать шаг к примирению, но, повстречав холодный, испытующий взгляд отца, терялся и отступал. Он понимал, что мир мог быть восстановлен только ценою его отказа от сочувственного отношения к революционным переменам. А на это Саша пойти не мог. Он чаще стал задумываться над собственной жизнью, начал доискиваться причин людских несчастий. И чем дольше он размышлял, тем более справедливыми и необходимыми казались ему происходящие сейчас перемены. Грандиозность совершающихся событий захватывала, увлекала, радовала его. Это оказалось сильнее, чем родственные чувства и привязанности. Если внешне Саша еще вел прежний образ жизни, если он, уходя из дому, когда невыносимой становилась душная его обстановка, все-таки возвращался обратно, то было бы ошибочно заключить из этого, что он остался прежним мальчишкой-гимназистом, далеким от политики. Ему сейчас недоставало лишь хорошего толчка, чтобы решительно и бесповоротно порвать со старой жизнью. Внутренне к этому он был уже подготовлен.
Алексей Никитич, видимо, понимал душевное состояние сына. Сдержав себя однажды, подавив усилием воли вспышку безудержного гнева, он теперь избегал всего, что могло бы еще больше обострить отношения между ними. Трудно было ему ломать свой характер. Невозможно было самому сделать первый шаг навстречу. Но страх порвать последнюю нить, соединявшую их, останавливал его всякий раз, когда на язык просились гневные, оскорбительные для сына слова. И это было несомненным проявлением отцовской любви, скрытной, суровой, но крепкой. Заметив отсутствие сына за столом, Алексей Никитич в первый раз промолчал, во второй – сказал Соне, чтобы та впредь подавала ему обед в кабинет, а сама обедала бы с Александром (теперь Алексей Никитич уже не звал сына Сашей).
Соня, разумеется, догадалась, что отец боится окончательного разрыва с Сашей. Это и обрадовало и испугало ее; испугало потому, что она знала, насколько безудержен бывает в гневе отец. Нельзя без конца испытывать его терпение. И Соня теперь пользовалась каждым случаем, чтобы уговорить Сашу примириться с отцом. «Я не ссорился с ним», – отвечал Саша. «Он страдает, ты должен это понять», – настаивала она. «Мне тоже нелегко. Почему ты обо мне не хочешь подумать?» – сердясь, спрашивал брат. Кончались обычно такие разговоры слезами. Соня, уткнувшись лицом в подушку, плакала. Взволнованный и раздосадованный тягостной сценой, Саша сидел как на иголках и молчал, не зная, что сказать, чувствуя, что он-то меньше всего виноват. Эти постоянные стычки с сестрой удручали Сашу больше, чем его натянутые отношения с отцом.
Все складывалось так, что только вне родного дома Саша чувствовал себя вполне свободным и независимым. Его отлучки из дому становились все более продолжительными.
Не раз теперь в лыжных прогулках Сашу сопровождала мисс Хатчисон. Саша попривык к ее экстравагантности и обнаружил, что молодая американка, в сущности, довольно занятный человек. У нее был свой взгляд на события, на людей. Сашу поражали ее крайний практицизм и эгоистичность. Он не соглашался с нею, спорил. Она с улыбкой отвергала его доводы. В критический момент она умела ловко повернуть направление беседы, с серьезным видом высказывала какую-нибудь благоглупость, и Саша принимался весело хохотать. А мисс Хатчисон в это время так лукаво посматривала на него, что Левченко в конце концов начинал чувствовать себя одураченным. Однако трудно сердиться, когда плутовские глазки обстреливают тебя, а острый язычок колет и колет. Успевай отбиваться. И Саша охотно отдавался этой словесной игре.
Посторонние долго не замечали разлада в семье Левченко. В доме Алексея Никитича почти каждый день собирались люди, слетевшиеся со всей России, обиженные революцией; они проклинали, грозили и, где-то в глубине души сознавая свое бессилие, стремились урвать от жизни побольше, пока можно. У всех у них были общие интересы, общая ненависть к новому государственному и социальному строю, одни и те же надежды на реставрацию власти буржуазии. Они тянулись друг к другу, хотя между ними и не было каких-либо глубоких человеческих привязанностей.
Занятые своими делишками, своими расчетами, гости Алексея Никитича с комфортом располагались в его просторной гостиной, не всегда замечали отсутствие среди них хозяина. Соня неукоснительно исполняла обязанности хозяйки: во время подавала чай, варила черный кофе, а если был подходящий час – ставила и крепкие напитки. Впрочем, Алексей Никитич, заслышав гул голосов, иногда тоже выходил в гостиную, здоровался с гостями и с мрачным удовольствием внимал прогнозам о скором падении Советской власти. Иногда кто-либо из гостей сам вламывался к нему в кабинет и там занимал его пустыми разговорами до тех пор, пока терпение хозяина не истощалось и он многозначительно не показывал надоевшему гостю на часы. Алексей Никитич в таких случаях не церемонился.
Чаще других наведывались к Левченко Судаков и Сташевский. Случалось, что они забегали по два раза в день; приходили порознь, но уходили всегда вместе, – вероятно, не успевали вдосталь наговориться. Из всех гостей, бывавших в доме, Саша особенно невзлюбил именно этих двух. Он и не скрывал своего неприязненного отношения к ним. Но Судаков и Сташевский его неприязни попросту не замечали. А Саша из-за этого злился на них еще больше.
Некоторое время его внимание привлекал адвокат Кондомиров. Он умел облекать свои мысли в такую неожиданно нарядную форму, что на первых порах это показалось очень любопытным. Создавалось впечатление, что имеешь дело с умным и оригинально мыслящим человеком. Но потом Саша понял, что Кондомиров такой же мелкий в суждениях, завистливый и озлобленный человек, как и прочие их знакомые.
Однажды, застав Сашу одного в гостиной, Кондомиров с улыбочкой на жирном лице спросил его:
– Ну-с, молодой человек, скажите откровенно, не надоели вам наши словопрения о свободе, правах человека и прочем, что нынче в чести и моде?
– Словопрения – да, надоели, – откровенно признался Саша.
– Гм!.. – Кондомиров искоса посмотрел на него, наклонил голову влево и чуть прижмурил правый глаз. – Однако вы, кажется, человек действия. Одобряю. Пора кончать со всей этой мерехлюндией. Нам нужен человек с ружьем, умеющий стрелять и убивать. Беда в том, что сейчас в толпе утрачено чувство страха. Страх – основа порядка. Я – адвокат, по профессии своей знаю это, не раз наблюдал эмоции преступников перед судом.
– Но вы же сами ратуете за равенство! – воскликнул озадаченный Саша.
Адвокат расхаживал по комнате, выставив вперед бородку, громко и внушительно говорил:
– Равенство перед законом я принимаю, это прогрессивный принцип. Но равенство социальное – нет, ни за что! Это тысяча шагов назад к варварству.
– Но почему? Почему? – допытывался Саша.
– Как же, помилуйте! – Плечи Кондомирова поднялись, а жирный затылок почти спрятался между ними. – Два десятка лет я ношу диплом Петербургского университета. Меня считают здесь лучшим юристом. Знаете, год назад американская фирма Маккормик предлагала мне должность юрисконсульта. Я отказался. Но это, согласитесь, – признание. Таков субъект номер один. А вот вам – субъект номер два. Вез меня сюда извозчик Иван, бородища – помело, ручищи – грабли. «А что, спрашивает, барин, правду бают, что земля вертится?» Это в двадцатом-то веке. Ну-с, поравняйте нас! До какой же степени я должен опуститься!
– А если поднять Ивана до вас? Ведь это можно сделать.
– До меня? Ха-ха-ха! – Кондомиров расхохотался; живот его колыхался от смеха, и золотая цепочка часов, спрятанных в жилетном кармане, тоже тихо покачивалась. – Ой, молодость, молодость! Все вам нипочем, все трын-трава! Легкость необычайная... Но это, извините, от недостатка ума! Да-с. Цивилизация, конечно, диффундирует и проникает в толщу народных масс... но медленно, черт возьми! Медленно... А все должно идти своим естественным порядком. Когда-нибудь, лет через триста, наступит благословенный век. Да нас-то с вами не будет. Так зачем, спрашиваю, хлопотать? Помните, прекрасно сказано у Горация: «День текущий лови, меньше всего веря в грядущий день...» Античность, молодой человек! Мудрость! Пример нам, грешным... А, между прочим, где ваша сестрица? Я бы выпил стакан горячего чаю с ромом.
Но прежде чем появилась Соня, в гостиную ворвались Судаков и Сташевский, страшно возбужденные, растрепанные и в одежде своей и в мыслях. Судаков сразу плюхнулся на диван, поднял руку и сказал прерывающимся голосом:
– Господа, случилось страшное и непоправимое!.. Они разогнали Учредительное собрание.
Кондомиров ухватился рукой за свою бороду.
– Да, господа, с юридической точки зрения – акт безусловно неправомерный и будет иметь последствия самые значительные. Самые значительные, – повторил он. – Это будет воспринято как сигнал.
На следующий день Судаков и Сташевский принесли весть о готовящейся в городе демонстрации протеста. Меньшевистская газета «Призыв» и эсеровская «Воля народа» уверяли, что на улицу выйдут тысячи людей. Говорилось о брожении в воинских частях, каких-то беспорядках в Арсенале. Совет государственных и общественных служащих Хабаровска вновь создал стачечный комитет. Члены его развили бурную деятельность, бегали по учреждениям, призывали к политической стачке. Распространялись листовки.
Судаков, выступая на митингах, надорвал голос, охрип. Он верил, что в назначенный час встанут горожане и двинутся за ним на улицу. Во всяком случае, Юлия Борисовна Парицкая заявила, что они с Катей примут участие в народной демонстрации, и велела к этому часу подать ей лошадь в санках. Один Чукин остался скептиком и циником к тому же.
– Не сумели оседлать, так некуда и скакать. А впрочем, валяйте, – сказал он. – Дай вам бог удачи, а мне – придачи.
Скептицизм Чукина имел основание. Буржуазная по своему составу городская дума первой выразила протест против роспуска Учредительного собрания. Хабаровский Совет ответил на это исключением из думы всех ее буржуазных членов и утвердил новый список гласных. Места бывших «отцов города» – купцов и домовладельцев – заняли представители профсоюзов.
Саша знал, что рабочие и солдаты встретили весть о роспуске Учредительного собрания с полным одобрением. Всюду шли митинги. На них принимались большевистские резолюции. На улицах же вообще мало говорили об этом событии. Имелись, видно, у людей другие, более им близкие и понятные интересы.
В день демонстрации с Амура подул свежий ветерок, подхватил сорванную кем-то с забора афишу, извещавшую демонстрантов о часе и месте сбора, и погнал ее колесом вдоль улицы, пока из какого-то двора с криком не налетели на нее мальчишки и тут же не разодрали афишу в клочья. Может, по этой причине в назначенный срок на указанном месте никого не оказалось. Лишь стороною по тротуару прошмыгнули человек двадцать организаторов, уткнувших носы в воротники, покачали сокрушенно головами и разбрелись.
Что касается Юлии Борисовны, то она действительно собиралась на демонстрацию и даже спросила конюха, пришедшего сказать, что лошади заложены: «Холодно ли на улице?» – «Стало быть, ветер поднялся. Так что морозно», – отвечал тот, похлопывая залатанными рукавицами. «Ну, тогда распрягай», – сказала хозяйка, повернулась и ушла обратно в спальню. Конюх пожал плечами: «Заводют же канитель. А для чего, спрашивается? Тьфу!»
Политическая стачка служащих все-таки началась. Прекратили работу банк, казначейство, Амурская казенная палата, Акцизное управление, Продовольственная управа. Бастовали главным образом высшие служащие. Но нормальная деятельность городских учреждений снова была нарушена.
Сташевский, пользуясь своим положением начальника почтово-телеграфной конторы, выдал служащим жалованье за три месяца вперед.
– Мы готовы бастовать до полной победы, – хвастливо говорил он Алексею Никитичу и довольно потирал руки. – Пришлось использовать деньги, поступившие для выплаты пенсий солдаткам. Не беда, почта теперь все равно не функционирует. Пусть бегут жаловаться в свой совдеп. Через неделю там взвоют, вот увидите.
Но к вечеру на телеграфных аппаратах работали моряки, вызванные с базы Амурской флотилии. Сташевского, прибежавшего заявить протест, не пустили в помещение. Саша, случайно оказавшийся в это время возле телеграфа, видел, как Сташевский, застегнутый на все пуговицы своей черной с серым отливом шинели, строгий и официальный, подходил сюда торопливой, чуть вихляющей походкой. У входа в здание его остановил матрос с винтовкой.
– Посторонних лиц на телеграф пускать не велено. Разобраться надо, чего тут саботажники натворили, – Спокойно объяснил часовой, покосившись на незнакомые знаки различия.