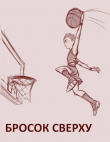Текст книги "На восходе солнца"
Автор книги: Н. Рогаль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)
После непродолжительной оттепели снова наступили холода. Подслеповатое низкое окошко заросло льдом и снежным инеем. Ветер дул прямо в дверь и выстуживал комнату.
Николенька, метавшийся в бреду, часто сбрасывал с себя одеяло. Пелагея боялась, что он еще больше застудится, закрывала ему плечи. Она не отходила от него всю ночь и готова была свалиться от усталости.
– Ма-а-ма, корочку-у, – тянул шестилетний Павлик.
– Да чтоб вас разорвало! Чтоб вы лопнули! – закричала Пелагея.
Холодное отчаяние начало охватывать ее. За что же такие мучения? Но она не могла опускать руки. Кто тогда поставит малышей на ноги... Мирон?.. Пелагея горько улыбнулась. Ее Мирона будто подменили. Как началась революция, он и про дом забыл. И то сказать, взял на свои плечи обузу. Небось другие не поступали так. Пелагея, однако, в другое время не стала бы осуждать мужа. Но появись он вот в эту минуту, много горьких упреков высказала бы она ему.
Николенька бредил. Его открытые глаза смотрели на мать и не узнавали. Пот мелким бисером выступил у мальчика на лице.
Пелагея положила руку на его влажный лоб и ощутила сильный жар. Она с тревогой подумала, что мальчик может и умереть. Эта мысль поразила ее в самое сердце. Снова подумала она о Мироне Сергеевиче. Николенька был его любимцем. Что скажет он, если она не сбережет мальчишку.
В Арсенальской слободке не часто обращались к врачам. Какие там врачи – не по средствам. Здесь и рождались и умирали без вмешательства медицины. «Бог дал, бог и взял», – говорили в таких случаях. Но как могла Пелагея быть пассивной в такую минуту? «Надо позвать доктора, – решила она. Все ее мысли сосредоточились на этом. – Малышей отведу к соседям. Николеньку закрою на ключ, – думала она. – А если ему станет хуже? Если...» – она заколебалась, вся похолодела, не смея додумать мысль до конца.
– Мирон, Мирон! Где же ты ходишь? – стоном вырвалось у нее.
В эту минуту мучительных колебаний к ней и заглянул председатель завкома Алиференко. Он вошел вместе с клубом ворвавшегося морозного пара и не сразу разглядел, что происходит в доме.
– Здравствуйте! Давненько я не был у вас, – весело сказал он, снимая шапку и отряхивая у порога снег. – Живы-здоровы?..
Пелагея взглядом указала на кровать. Ее измученное лицо сказало ему больше, чем слова.
– Что же вы не послали сказать? Да и я хорош. Эх, какая неприятность! – воскликнул Алиференко, посмотрев сочувственно на нее и на Николеньку. – Давно парнишка заболел?
– Третьего дня.
– Врач был?
Пелагея покачала головой.
– Я только собралась. Одна. От них шагу отойти нельзя, – стала оправдываться она.
– Врача сейчас вызовем, – сказал председатель завкома. – Пошлем подводу в город. Что еще нужно?.. Продукты имеются? Может, младших пока к соседям определить, а? Что за болезнь у него? Карантин не потребуется?..
– Кашель. Кашлем он мается, – сказала Пелагея, прикрывая плечи Николеньки одеялом. – Вот так и мечется в жару. Так и следи.
– Ладно. С ребятишками решим после того, как побудет врач. Это нам проще устроить, – сказал Алиференко. – Кстати, на днях должен приехать Мирон Сергеевич. Я, собственно, и забежал сказать. Вы уж держитесь, Пелагея Степановна.
Он взглянул еще раз на Николеньку и надел шапку.
– Дрова у меня кончились, – сказала Пелагея. – Мирон хотел выписать, да вот – уехал.
– Будут и дрова, – пообещал Алиференко. Пелагея уж так была ему благодарна.
Алиференко же прикрыл дверь и ругнул себя: «Эх, я – скотина!» Он чувствовал себя кругом виноватым. Пока Мирон Сергеевич был дома, Алиференко чуть ли не каждый день заходил к нему. Сколько вечеров они просидели вдвоем, покуривая по очереди у порога и обсуждая заводские дела. А уехал Чагров – и он ни разу не справился о его семье. Закрутился.
Дела в Арсенале как будто стали налаживаться. Были подписаны контракты с железной дорогой и пароходством. В Арсенале обтачивали вагонные скаты, отливали шестеренки для конных молотилок и жнеек; кузнецы ковали лемехи для плугов, изготовляли костыли и накладки к ним; в деревообделочном цехе делали мебель и бочки под рыбу. Местные заказы позволили занять рабочих и избежать сокращения персонала.
Полковник Поморцев, восстановленный по его просьбе в правах начальника Арсенала, держался вполне лояльно. Он не перечил больше воле рабочего коллектива и довольно охотно брался за проведение в жизнь предложений завкома. Глядя на него, подтянулись и остальные чины заводской администрации. Но недоверие к ним у рабочих осталось. Часто на этой почве происходили стычки. Алиференко приходилось вмешиваться во все эти дела: обещать поддержку одним, усовещать и стыдить других. Каждый день у него был заполнен до отказа. Дела, дела... конца и краю не видно.
Занятый с утра до ночи, Алиференко с нетерпением ожидал приезда Чагрова. Мирон Сергеевич со своей спокойной рассудительностью был просто незаменимым человеком. Немало было и других арсенальцев, которым пришлось браться за незнакомое им вовсе дело. Было просто удивительно, как быстро втягивались рядовые рабочие в совершенно новую для них сферу деятельности и какое поразительное умение и сметку они обнаруживали при этом. «Великая сила – рабочий класс!» – эти вычитанные однажды слова Алиференко любил повторять при всяком удобном случае.
– Какой же ты к черту рабочий класс – мундштук с зажигалкой, – корил он какого-нибудь лодыря.
– Вот это ухнули... Ай да рабочий класс! – хвалил отличившихся в другом цехе.
Алиференко – человек среднего роста, склонный к полноте, но достаточно подвижный, чтобы эта полнота не бросалась в глаза. У него русые мягкие волосы с начинающейся залысиной и белая кожа с еле заметными веснушками. В больших серых, широко расставленных глазах светился ум. Он был лукав и добродушен, проницателен и доверчив в то же время.
Хороший токарь, довольно начитанный, грамотный, Алиференко как нельзя лучше подходил к той роли, какую ему сейчас приходилось играть. Он был настоящей душой заводского коллектива. В слободке он знал чуть ли не всех жителей поименно, знал, сколько у кого детей, когда в каком доме будут крестины, свадьба.
Личная жизнь у него сложилась неудачно: жена рано умерла, детей не было. Жил он бобылем. Всю свою неизрасходованную привязанность и жажду деятельности, всю великую любовь к людям Алиференко бескорыстно отдал жителям Арсенальской слободки. Ради них он был взыскательным, строгим и даже жестоким, если встречался с вором или разгильдяем. Мог стать и беспощадным.
Выйдя от Пелагеи, он помчался на конный двор, чтобы отправить подводу за доктором. Но, как назло, все лошади оказались в разгоне, кроме выездной начальника Арсенала. Тот сам собирался ехать в город.
– Когда подавать велел? – спросил Алиференко у конюха.
– Да минут через двадцать.
– Запрягай сейчас. Под мою ответственность.
Минут через пять Алиференко объяснял начальнику Арсенала положение дел.
Сложными были отношения между ними. Алиференко понимал, куда тянется душой Поморцев, и делал вид, что не замечает этого; был простоват в обращении, не шумел, не грозил, а всегда как бы советовался с ним. Поморцев знал, что председатель завкома не так прост, как кажется, считал его хитрецом и побаивался его проницательности. С ним он был корректен и сговорчив, но собственного достоинства не ронял.
В душе Поморцев очень удивлялся тому, что рабочие сумели обеспечить Арсенал заказами и проявляют столько усердия в делах. Он привык представлять себе рабочего существом забитым и равнодушным ко всему, что не касается прямо его заработков. Как же он был поражен, когда увидел хозяйскую заботу этих же самых людей, их стремление получше наладить производство. Поражала и готовность рабочих нести тяготы и лишения во имя проблематичного лучшего будущего. Поморцев объяснял это исключительно личным примером и влиянием таких незаурядных личностей, как Алиференко, Демьянов или Чагров – арсенальских большевиков. Не будь их, что значила бы вся эта пестрая, неоднородная толпа? Чтобы рабочие и крестьяне сами стали управлять государством? Бог мой! Когда это было? Где?..
Слушая Алиференко, начальник Арсенала не сразу понял, что тот от него хочет на этот раз. Больной ребенок? А при чем здесь он, Поморцев? Уж это, кажется, не входит в круг его обязанностей. Слава богу, хватает забот и без голопузых мальчишек.
– Гм... Случай действительно... – недовольно морщась, протянул он. – Чей ребенок, Чагрова?.. Так, так. – Он хотел сказать, чтобы взяли извозчика, но не решился. – Какого надо врача?
– Хорошего, – сказал Алиференко. – Самого лучшего, какого вы знаете...
– Н-да... Что же, мне самому за ним заехать? – спросил он, обескураженный тем, что приходится заботиться о каком-то неизвестном мальчишке.
– Я очень прошу вас. А лошадь мы сразу пришлем обратно. Вас не задержим.
– Ну хорошо. Хорошо. – Поморцев надел шинель.
Часа через полтора кучер начальника Арсенала привез доктора Твердякова. Он рысью промчал его по кривым улочкам слободки и осадил перед оврагом.
Когда Алиференко пришел к Чагровым – он сам привез дрова, – осмотр больного был закончен. Доктор мыл руки над тазом, а Пелагея из кружки поливала ему.
– Тесно живете, – говорил Марк Осипович, критически оглядывая помещение. – Детишкам необходим воздух. Как можно больше воздуха.
– Тесно. Тесно, – подтвердила Пелагея. – И то слава богу. Другие совсем без своего угла.
– Что с мальчиком? Болезнь опасная? – спросил Алиференко.
– А знаете, кризис миновал. Дела теперь пойдут на поправку, – сказал Твердяков, вытирая полотенцем руки. – Мое вмешательство не сыграет особенной роли. Но лекарства вы ему давайте, как я сказал. И не застудите снова парнишку. Одевайте получше, когда будете пускать гулять, – повернулся он к Пелагее.
Алиференко в словах доктора почудился упрек.
– Тогда извините. Оторвали вас от других больных, – глухо сказал он, глядя на то, как Марк Осипович прятал стетоскоп в дорожный чемоданчик.
– Другие тоже на поправку идут, – весело отозвался Твердяков. Он нисколько не был огорчен дальней поездкой. Случай был несложный, но наводил на некоторые интересные мысли. В отличие от Поморцева, доктор был склонен делать из своих наблюдений определенные выводы. – Да, батенька мой, повышается ценность человека – вот первый результат революции, – продолжал он, обращаясь к Алиференко. – «Кто был ничем, тот станет всем». Вот и прекрасно!
2
Дня через три после посещения доктора Николенька встал. За дни болезни он похудел, вытянулся. Пелагея так была рада, так довольна, что не знала, чем его и потчевать, Сбегала к соседке за мукой и затеяла печь оладьи.
Соловей, мой соловей,
Сизокрылый, молодой.
Чернобровый, веселой!
Ты не вей, не вей гнезда
Край дорожки, край пути,
На ракитовом кусту,
На малиновом листу... —
негромко, приятным голосом пела она, стоя у плиты, вся раскрасневшаяся от жары.
Николенька с понимающей улыбкой глядел на мать. Миша и Павлик сидели у него на кровати и жадно вдыхали шедший от плиты запах разогретого масла. Оба плутовскими глазенками посматривали друг на друга и на Николеньку.
Пелагея подбросила в плиту дров, передвинула кастрюли и продолжала выводить тоскующим голосом:
Ах, кто бы мне, ах, мому горюшку
Да помог,
Кто бы мне, ах, со дороженьки
Дружка да воротил!
Воротися, мой дружочек миленький,
Да назад...
– А вот и я воротился! Здравствуйте, – сказал Мирон Сергеевич, открывая неожиданно дверь и пропуская вперед себя незнакомца в хорошем пальто заграничного покроя.
– Good morning! How are you, missis?[7]7
Доброе утро! Как вы поживаете, миссис? (англ.).
[Закрыть] – приветливо произнес тот и одним быстрым взглядом осмотрел помещение.
– Принимай гостя, Пелагея. Из Америки, – продолжал Мирон Сергеевич таким тоном, будто это было для него самым заурядным делом. – Пальто сюда можете повесить, – обратился он затем к гостю и показал на гвоздь.
– Thank you, – сказал тот, поставил чемодан возле дверей и озябшими руками стал расстегивать пуговицы. – It is very cold today[8]8
Благодарю вас. Очень холодно сегодня (англ.).
[Закрыть], – пожаловался он, но Мирон Сергеевич его не понял.
– Сюда, сюда… – вот на этот гвоздь, – сказал он и хотел принять пальто.
Американец улыбнулся и жестом показал, что он и сам прекрасно справится.
Это был жизнерадостный человек лет тридцати пяти с худощавым продолговатым лицом и светлыми вьющимися волосами. Зубы у него ровные, белые. Глаза – голубые, взгляд открытый.
На нем был серый костюм, умело подобранный в тон галстук, коричневые ботинки.
Пелагея и дети смотрели на него, как на явление из другого мира. Уж очень необычно выглядел незнакомец на фоне убогой обстановки их комнатушки.
– Подай человеку стул. Что же ты, – напомнил Мирон Сергеевич, снимая с плеч котомку и ставя ее на скамью возле кадушки с водой.
Пелагея, раздосадованная тем, что муж не предупредил ее, и смущенная ералашем в квартире (она только собиралась взяться за уборку), кинулась освобождать стул.
– Садитесь. Садитесь, пожалуйста, – говорила она, вспомнив об обязанностях гостеприимства.
– Thank you! – еще раз сказал американец. Держался ой просто. Видно, что ему бедность была не в диковинку. Пока Пелагея пекла оладьи и рассказывала мужу о болезни Николеньки, гость опытным взглядом подметил все. Похудевшее лицо мальчика, аптечные склянки у изголовья, запах лекарств, – что еще требовалось, чтобы прочесть историю последних дней? Этим людям нечего скрывать, независимо от того, застигнуты они врасплох или нет. Зато и добрые чувства у них неподдельные, настоящие.
– Ставь-ка самовар, Пелагея. Попьем чайку, побеседуем, – предложил Мирон Сергеевич. – Я привез сала и яиц, можешь яичницу сготовить. И оладьи кстати. А вам, ребята, – гостинец. Лущите орехи, – продолжал он, доставая из котомки пахнущие смолой кедровые шишки. – Только ты, Мишутка, сперва сбегай к дяде Алиференко. Знаешь, где живет?
– У бабушки Степаниды, – пропел Мишутка. – Возле колодца.
– Правильно. Скажешь бабушке, как он придет, – пусть к нам поторопится. Алиференко заходил? – спросил он у Пелагеи.
– Был, спасибо ему. – Пелагея достала из сундука праздничную скатерть. Движением бровей показала на сидящего американца. – А он что, по-русски не говорит?
– Не говорит, – с сожалением сказал Мирон Сергеевич.
– А как же... разговаривать? – брови у Пелагеи удивленно поднялись. – Да ты хоть знаешь, кто он?..
– Да уж не буржуй. Хороший, видно, человек. Товарищ... комрад по-ихнему.
– Comrade! Comrade!..[9]9
Товарищ! Товарищ! (англ.).
[Закрыть] – подтвердил американец, догадавшийся о сути разговора. С той же приветливой улыбкой он принялся помогать Пелагее стелить скатерть.
– Что вы!.. Я сама, – смутилась Пелагея, подумала: «Простой, видать... Комрад, ишь ты!..» – и ответно улыбнулась.
Пелагее хотелось как можно лучше принять гостя. Она быстро перемыла тарелки, достала вилки и столовые ножи, которые обычно не входили в сервировку стола.– Поставила для гостя серебряный подстаканник – дар одного из друзей Мирона Сергеевича.
На большой сковороде шипела яичница.
– Вам с дороги помыться надо. Мирон, помоги человеку. Вот не наладил ты умывальник, – с упреком заметила она, подала мыло и чистое полотенце.
За окном протяжно гудел арсенальский гудок.
Мирон Сергеевич подвел вперед отставшую стрелку часов-ходиков, подтянул гирю.
Пока гость умывался, Пелагея, улучив время, шмыгнула за занавеску и сменила кофту. Голову она повязала цветастым платком.
– Чем богаты, тем и рады, – сказала она нараспев и первую порцию подала гостю. – Мирон, вот выпить-то у нас нечего.
– Ладно. Это с утра не принято. – Мирон Сергеевич поставил рядом с собой еще одну табуретку и позвал Николеньку. – Садись. А похудел ты, брат! Да и вырос, кажется. Говоришь, сильно болел?
– Ой, натерпелась я страху! С ног сбилась, – сказала Пелагея. Теперь она сама удивлялась тому, как выдержала все эти трудные и бессонные ночи.
– Кашлять больно было. А так – ерунда. Не знаю, чего мамка боялась. Я ей говорил, – сообщил Николенька, коротко взглянув на отца. Ему хотелось прижаться к отцовскому плечу, но он не решался сделать это в присутствии чужого человека.
Гость с улыбкой посмотрел на Николеньку, на двух меньших, сидевших на полу и занятых добыванием орехов, Он что-то сказал, ткнул себя в грудь и поднял три пальца. По взгляду и по этому жесту Мирон Сергеевич догадался.
– Говорит, что у него тоже трое детишек. Бэби, бэби, слышишь, – пояснил он Пелагее.
– Ах, сердечный! Тоскует, поди. Они где у него – в Америке? – Пелагея с жалостливым сочувствием посмотрела на американца. И чего человек подался в такую даль? Должно быть, надо.
А тот засиял глазами, вынул из бумажника семейную фотографию и протянул хозяйке. Пелагея осторожно приняла ее двумя пальцами.
С фотографии, счастливо улыбаясь, смотрела худенькая женщина с коротко остриженными волосами. На руки она подняла малыша, видно, недавно научившегося держать головку. Выпячивая губы, он с уморительной серьезностью глядел прямо перед собой. Слева от матери на стуле стоял мальчик лет четырех, а с другой стороны – веселая озорная девочка в нарядном платьице, с двумя длинными косичками.
– Везде одна радость у людей – дети, – сказала Пелагея, поглядев на снимок и на гостя.
Ее размышления о схожести людских интересов прервал приход Алиференко.
– Здорово, Мирон! С приездом. Вас, Пелагея Степановна, с радостью, – весело сказал он и посмотрел вопросительно на гостя.
– Вот, комрад, знакомься. Наш председатель завкома. – Мирон Сергеевич при этих словах подтолкнул Алиференко немного вперед и дружески похлопал его по плечу. Американец широко улыбнулся и первым протянул руку.
– Понимаешь какая история. Сажусь я в Чернинской в поезд. Народу – битком. Проталкиваюсь вперед и нахожу местечко рядом вот с ним, – рассказывал через минуту Чагров. – Ну, человек как человек. Одежда на нем хорошая, а народа, вижу, не чурается. Наоборот, интересуется очень. Я тоже полюбопытствовал: откуда, куда? Как это в дороге водится. Отвечает не по-нашему. Вот неудача! А тут мне объясняют – американец это. «Почему так думаете?» – спрашиваю. «Да с ним чех из соседнего вагона по-немецки разговаривал». – «А ну, давайте чеха сюда!» Приходит чех. Калякает с грехом пополам по-русски да, должно быть, и по-немецки не чище. Словом, разговор с одного языка на четвертый. Однако к общему понятию все же пришли.
Чагров многозначительно посмотрел на Алиференко.
– Думаешь, зачем человек приехал? Хочет понять, что в России происходит. Разобраться, значит. А коли так, говорю, вам в самый раз к нам, в Арсенал. Милости просим. Чех ему это растолковал, – и он так обрадовался... Гуд, гуд! Очень, стало быть, доволен. Так вместе и прибыли. Или я плохо придумал?
– Да нет, здорово. Молодец! – с жаром воскликнул Алиференко, весьма заинтересованный его рассказом. – Вон куда весть-то донеслась, – продолжал он с некоторым даже удивлением. – Это, брат, факт сам по себе замечательный. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! – торжественно сказал он и дружески подмигнул американцу.
– American workers are your friends, – серьезно ответил тот. – They greet you, they sent their greetings to Lenin[10]10
Рабочие Америки – ваши друзья. Они приветствуют вас, приветствуют Ленина (англ.).
[Закрыть].
– Ленин, Ленин... – повторил Алиференко. – А ничего, Мирон, понятно. Ей-богу! – засмеялся он.
– Your revolution is a turning point in the history of mankind[11]11
Ваша революция – поворотный пункт в истории человечества (англ.).
[Закрыть], – продолжал говорить американец.
Пелагея убрала со стола посуду, отошла к плите и посматривала оттуда на гостя. Странно и приятно в то же время было ей видеть такой интерес к их жизни.
– Так пошагали, Мирон. Пойдем, – предложил Алиференко, когда за окном в третий раз взревел гудок.
Чагров провел ладонью по щеке, заросшей щетиной более чем недельной давности.
Американец тоже потянулся к своему чемодану. Попробовав пальцами лезвия бритв, направив их как следует на ремне, они побрились, заглядывая поочередно в надтреснутое зеркало, касаясь друг друга локтями. И это окончательно сблизило их, несмотря на отсутствие общего языка.
– Good luck to you and your children, missis! Good-bye![12]12
Желаю счастья вам и вашим детям, миссис! До свидания! (англ.).
[Закрыть]– вежливо попрощался гость с Пелагеей.
Джемс Грейс – так звали гостя – был глубоко взволнован победой Октябрьской социалистической революции в России. Весть о ней окрылила его, как и многих честных людей за границей.
Уроженец Кливленда – одного из быстро развивавшихся промышленных городов, сын рабочего-сталевара с многодетной семьей, Грейс научился видеть не только панораму дымящих заводских труб, сутолоку уличного движения, нарядные витрины магазинов, роскошные особняки Матеров – владельцев «Кливленд-клиффс айрон компани», на которую гнули спину его отец и старшие братья, – он видел и оборотную сторону промышленного подъема – изнурительный труд рабочего, нужду, голод, болезни и постоянную боязнь остаться без работы. Он наблюдал наступление преждевременной старости у людей, отдавших лучшие свои годы труду на компанию, построивших ей заводы, дома, а затем безжалостно выброшенных на улицу. Ему было четырнадцать лет, когда произошла «чикагская трагедия»[13]13
4 мая 1886 г. в Чикаго полицейский провокатор бросил бомбу в толпу, собравшуюся на митинг. Это преступление полиция приписала рабочим лидерам, и на сфабрикованном процессе несколько человек были безвинно осуждены и казнены. Приговор суда вызвал массовые протесты рабочих.
[Закрыть].
Вскоре он сам начал зарабатывать на жизнь: был продавцом газет, мальчиком для посылок, типографским рабочим, наконец стал журналистом. Как репортер он узнал, может, и не больше своих коллег, но не прошел равнодушно мимо горя и слез. «Ты выбился в люди, Джеме, но не забывай, что был рабочим. Помни, как мы живем», – говорил ему отец.
И Грейс – честный, правдивый журналист – пришел туда, куда и должен был прийти, – в социалистическую печать. Этому способствовала встреча с ветераном социалистического движения в США Юджином Дебсом.
Он был в числе тех, кто летом 1916 года кропотливо собирал доказательства абсолютной невиновности Тома Муни, приговоренного окружным судом в Сан-Франциско к смертной казни по ложному, подстроенному провокаторами обвинению. Борьбе за спасение жизни Тома Муни Грейс отдал многие месяцы. Он неутомимо разыскивал новых свидетелей, писал статьи, был одним из организаторов митингов протеста, прокатившихся по всей стране. В своем родном городе Кливленде он услышал о победе Октябрьской революции в России, о создании рабоче-крестьянского правительства. «Вот за что русских надо уважать!» – воскликнул отец, и глаза у него по-молодому заблестели. Джемс подумал и сказал: «Я должен увидеть это собственными глазами».
...И вот он в России. Он уже толковал с грузчиками Эгершельда во Владивостоке, с моряками Добровольного флота, пожимал сотни дружеских рук. Рукопожатие да улыбка часто были единственным способом выразить свои чувства. Грейс был на пленарном заседании Владивостокского Совета, встречался с его председателем Константином Сухановым. Он видел солдат и матросов на митингах вместе с рабочими, пел с ними «Интернационал». А рядом, соединив руки, стояли китаец и мадьяр. Вот действительное братство трудящихся!
Теперь он шагал по узкой улочке Арсенальской слободки. С обеих сторон тянулись хибары, за ними овраг, дальше гора с рыжим бесснежным склоном, – и все это удивительно напоминало горняцкий поселок где-нибудь в штате Юта или Колорадо.
– Скверно живем. Но будет лучше, – убежденно сказал Алиференко, показывая на лачуги.
В этот день они не расставались. Заходили в дома, бродили по цехам, сидели, оживленно жестикулируя, в тесной комнатушке завкома с таким же литографским портретом Карла Маркса, какой Грейс видел в помещении социалистической партии в Окленде. Арсенальцы назвали имя Тома Муни. Гость понял и оценил это выражение пролетарской солидарности.
Чутким ухом он ловил интонации, когда люди прямо обращались к нему, и страшно досадовал, что не знает языка. Но и без того он понял главное – эти простые рабочие действительно стали хозяевами своей страны. То, о чем мечтали лучшие люди многих стран, здесь осуществилось. Россия оказалась впереди всех. Та самая Россия, об отсталости которой и темноте ее населения столько писалось и говорилось. Как же это произошло? Где та сила, которая подняла на бой гигантов и позволила им бросить вызов миру угнетателей и насильников? – вот вопросы, на которые он искал ответа.
Грейс среди арсенальцев чувствовал себя в своей среде, пока не попал к начальнику Арсенала. Здесь потянуло другим ветром.
– Рабочий контроль?.. Как вам сказать. Все дело в том, насколько компетентны люди... – с паузами говорил по-немецки Поморцев.
– Но люди учатся.
– Да-а, – Поморцев повернулся, взял со стола сводку о ходе работ за прошлую неделю, просмотрел ее, вздохнул. – Вот, пожалуйста! Цифры говорят, что мы идем вниз, падаем, валимся.
– И все-таки рабочие проявляют энтузиазм. Этого нельзя отрицать, – возразил Грейс.
– Эмоции. Мы быстро загораемся и... остываем. Месяц-другой, и верх возьмет российская лень, – с усмешкой сказал Поморцев. – Я пессимистически смотрю на возможности организации производства в новых условиях. Ох, эти контролеры! Дерганье одно. – Говоря это, полковник искоса следил за выражением лица американского журналиста. Что-то он не очень охотно шел навстречу в этом щекотливом разговоре за спиной у ничего не подозревающих Алиференко и Чагрова. Поморцев вел на глазах у них двойную игру и понимал, что может быть пойман на этом. – Я чувствую себя связанным по рукам и ногам, – с простодушным видом пожаловался он. – Не могу, знаете, привыкнуть...
– Кажется, вам не нравится революция? Будьте откровенны, – холодно сказал Грейс.
Рука полковника поднялась к подбородку, скользнула по кромке воротника. Это заняло ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы убедиться, что там все в безупречном порядке. Тогда рука таким же непринужденным движением поднялась к вискам, пригладила реденькие волосы с серебром седины и снова легла на стол.
Поморцев напряженно думал над тем, кто же такой этот американец и почему он так необычно откликается на его откровенность? Кажется, с ним он попал впросак.
Алиференко не придавал сперва значения словоохотливости Поморцева, затем уловил недоуменный взгляд Грейса и насторожился. А что он такое ему напевает?
Он стал внимательно вслушиваться в незнакомые слова чужого языка, пытался догадаться об их смысле.
Но Поморцев теперь изо всех сил старался замять неприятный разговор.
Грейс поблагодарил начальника Арсенала за беседу.
День близился к концу. В кабинете начало темнеть; за окном протянулись багровые полосы вечерних облаков.
Когда они вышли на улицу, Грейс сказал:
– За два месяца вы разворошили весь мир – этот миллионный муравейник. Все трутни мира против вас – значит, вы делаете доброе дело! О, я в этом убежден.
– Да, да, – кивнул головой Мирон Сергеевич, хотя не понял ни одного слова. Он отвечал собственным мыслям. – Плохо, брат... Языков не знаем. Теперь бы расспросить человека... как у них?
– Один, видно, леший! Михаил Юрьевич рассказывал... А что, – спохватился вдруг Алиференко, – сведем его с Потаповым. Он же поговорит с ним запросто.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Джекобс сидел в публичной библиотеке. Перед ним стопки запыленных книг. Он рылся в статистических справочниках, листал выпуски «Вестника Приамурского отдела Российского географического общества», копался в печатных служебных отчетах и иллюстрированных юбилейных изданиях.
Днем в читальном зале посетителей почти не было, и занятиям Джекобса никто не мешал. Тихо шелестели страницы. От книг попахивало сухой пылью, должно быть, это был запах времени. В большие окна смотрело солнце; сквозь ветви деревьев проглядывала амурская ширь.
Круг знакомств у Джекобса расширился. Этому способствовало его умение одинаково повести себя и в равной мере сочувственно отнестись к людям самых, казалось, противоположных взглядов. Он был консерватором, либералом или почти социалистом в зависимости от того, кто являлся его собеседником. Но мог, если случай сводил его с представителями обоих враждующих лагерей сразу, так же мастерски прикинуться нейтральным простаком-американцем, которому непонятны раздоры русских.
Покончив с делами, он шел в кафе обедать. Джекобс облюбовал себе отдельный столик, наполовину скрытый от взоров посетителей разросшимся лимонным деревцем в большой кадке, поставленной прямо на пол. Угол был темноват, но это неудобство искупалось наличием двери в небольшой кабинет с крохотным столиком, широким диваном и вышитыми шелком подушечками. Устраивая в своем заведении такие укромные уголки, владелец кафе простер свою заботу о клиентах до устройства задвижек на дверях. Джекобс давал хорошо на чай, и за час до его прихода официант ставил на стол табличку «занято».
Кафе помещалось на главной улице в красивом по архитектуре здании. До поздней ночи оно сияло освещенными окнами. Прежде сюда собиралась отменная публика – промышленники и негоцианты с женами и дочерьми, офицеры местного гарнизона, чиновники, адвокаты, коммивояжеры и разного рода авантюристы. Здесь играл довольно приличный квартет, и по субботам выступали заезжие вокалисты.
Теперь кафе пустовало. Но все же нет-нет да и забредет сюда кто-нибудь из бывших господ. Тянулись сюда, чтобы услышать сказанную шепотом новость. Здесь рождались слухи, сеялась паника, возникали те почти неуловимые настроения, которые при известном повороте событий проявлялись потом в самых неожиданных и неприятных формах. В кафе шла своя жизнь, скрытая от постороннего глаза.
Когда пришел Джекобс, за столиками сидели компании по три-четыре человека. Группа, расположившаяся у окна, находилась в том градусе, когда уже не стесняются говорить громко, особенно о чужих делах.
– Прохвост, жулик, но, поверьте, он и тут выйдет сухим из воды. Артист! – с увлечением рассказывал плотный по сложению человек, сидевший спиной к Джекобсу. Когда он поднимал голову, на затылке у него образовывались жирные складки.
– Н-ну, не-ет!.. Подсекут, – хмуро возразил тощий собеседник. – Как, Леонид Борисович, верно я говорю?
Молодой человек в сером костюме и широком цветном галстуке лишь неопределенно мотнул головой.
– Зелен ты, брат. Зелен, – с обидным сожалением продолжал тощий. – Но запомни, юноша: прохвоста чехвостят! Такое на Руси не часто встречалось.
– Вот уж нашел чему радоваться, – толстяк пожал плечами. – Подумай только, что происходит.
– Гм... Общая нивелировка состояний и... ума. Одни стали разумнее, берут обратно награбленное, а другие – ха-ха! – оказались в глупом положении. Отчего же не посмеяться над ними, а? Я, брат, и над собой смеюсь. Да... – Он стукнул ребром ладони по столу и предложил: – Выпьем!
– Выпьем! – с готовностью откликнулся толстяк.
Развалившись на стуле, Джекобс отдыхал перед обедом, что, по его наблюдениям, улучшало аппетит. На столе лежала пачка газет из последней владивостокской почты.
Снимки Джекобса были опубликованы на первой странице под кричащими заголовками. В тот же день хмурая физиономия сотника Каурова, сдавленная снизу воротником чужого немецкого мундира, глядела на читателя-американца со страниц вечерних изданий других нью-йоркских газет. Затем сенсацию подхватили газеты Чикаго, Балтиморы, Сан-Франциско. Лживая газетная утка переметнулась по телеграфному кабелю из Америки в Западную Европу. Солидная лондонская печать обстоятельно прокомментировала сообщение Джекобса и предупредила британское правительство об опасности создавшегося положения на Дальнем Востоке. И сразу громче других забили тревогу фабриканты общественного мнения в Токио. Многочисленные «майници» и «хоци» в один голос завопили о «германской угрозе со стороны Сибири». «Джапан таймс» настойчиво рекомендовала союзным державам возложить задачу «поддержания мира» на японскую императорскую армию.