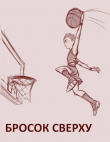Текст книги "На восходе солнца"
Автор книги: Н. Рогаль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
– Сегодня ночью один офицер убил конвоира, ведшего его в тюрьму, и скрылся. Конвоиру семнадцати лет не было – мальчишка, – пояснил Михайлов.
Вера Павловна страшно побледнела.
– Убил? Он убил...
Олимпиада Клавдиевна поспешила к ней со стаканом.
– Вера, выпей воды. Хочешь, я брому накапаю?
Но Вера Павловна отстранила ее.
– Я знаю, кто убийца! Он здесь, в этом доме, – твердым, окрепшим голосом сказала она.
– Вера, что ты говоришь! Одумайся, – в ужасе вскричала Олимпиада Клавдиевна.
– Нет, я должна... Я перешагну через это, – все так же громко и твердо говорила Вера Павловна. – Он мой бывший муж – Мавлютин. Прибежал сюда ночью. За ним гнались. Я не знала, что он натворил. Задержите его.
Повинуясь ее взгляду, Михайлов кинулся в переднюю
Даша только теперь поняла все, всплеснула руками. Вот так новости!..
Олимпиада Клавдиевна была похожа на переполошившуюся наседку, выведшую утят и видящую, как ее питомцы вдруг пустились в плавание по бурной быстрой реке. Она ахала и вздыхала.
Михайлов вернулся.
– Он, видно, как мы пришли, сразу же улизнул. Гнаться бесполезно.
...Михайлов шел по улице и улыбался людям. Улыбнулся и Мавлютину, повстречав его на одном из перекрестков.
Мавлютин заметил, как невысокий матрос сказал что-то своему товарищу и при этом указал рукой на него. «Узнали», – с пробудившимся страхом подумал он.
А Михайлов говорил Логунову:
– Ты знаешь, какая это женщина? Нет, ты не знаешь!.. На твоих глазах человек второй раз на свет родился, а ты даже этого не заметил. Какую, брат, целину вспахала революция! Какие всходы будут! Вот так глядишь на человека, – он показал на уходящего Мавлютина, – и разве разберешь, кто он такой? Сложная, брат, штука – жизнь. Человека понять – это не траву скосить.
Мавлютин еще раз оглянулся на них и свернул в первый же проходной двор.
После второй встречи с моряками он некоторое время бродил по улицам, размышляя, у кого из знакомых легче укрыться. Идти к Левченко нельзя, к Бурмину или Чукину тоже. За их домами, несомненно, ведется наблюдение. Варсонофия Тебенькова нет в городе, и квартира у него заперта. В гостиницу не пойдешь. Ввалиться к кому-нибудь из местных обывателей? Мавлютин усмехнулся, представив себе, как его вежливо станут выпроваживать. Черт возьми, выходит, и податься некуда.
Он догнал неторопливо идущего куда-то Хасимото.
– О, здравствуйте! – сердечным тоном поздоровался японец и вопросительно посмотрел на него.
– Извините. С моей стороны будет неосторожностью стоять и разговаривать с вами, – хмуро сказал Мавлютин.
– Пустяки, – возразил японец. – Вас постигло разочарование. Но не следует отчаиваться. Счастье переменчиво, как говорит народная мудрость.
Судя по внешнему виду, Хасимото пребывал в отличнейшем настроении.
– Мне удалось бежать после ареста, – пояснил Мавлютин, оглядываясь.
– Это другое дело, – согласился коммерсант и достал свою визитную карточку. – Рад счастливому случаю помочь вам. Это рекомендация. – Вы видите дом с зеленой крышей? Там японское консульство. Идите смело, вас укроют. До свидания!..
2
Когда Ельневы остались одни, Олимпиада Клавдиевна против обыкновения не разразилась упреками. Она молча ходила по комнате, передвигала вещи, вздыхала. Гнев ее против Мавлютина еще не остыл. Если она не во всем одобряла поведение Веры Павловны, то в главном ее племянница была безусловно права. И как он втерся в доверие, такой подлец!
Даша восхищенными глазами глядела на сестру: такой она ее еще не знала. Очень удачно, что она позвала матросов. Бог знает, что тут могло произойти.
Ночь прошла тихо.
Утром Олимпиада Клавдиевна ушла в школу на занятия.
Даша только взялась за книгу, как услышала в передней громкие возгласы, звуки поцелуев. Заинтригованная, она помчалась в гостиную. Сквозь полуоткрытую дверь она увидела незнакомую пожилую женщину, снимавшую платок и шубенку.
– Насилу разыскала вас. Уж я ходила, ходила. Думала, адрес не тот, – говорила она немного хрипловатым голосом. – Как вы тут – живы-здоровы?.. Что-то ты исхудала, милая... Болела, а? Болезнь не красит. А малыш ничего? Ну, слава богу! Матери было бы дитя здорово – сама все стерпит.
– Даша, это Анфиса Петровна, стрелочница, что мне помогла, – сказала Вера Павловна, заметив сестру и поманив ее в прихожую.
Анфиса Петровна глянула на Дашу светлыми, ясными глазами.
– Похожи. Сразу можно сказать, что сестры.
Она вынимала из корзинки какие-то узелки, свертки.
– Это – мороженое молоко, на холод надо вынести. Здесь – яички... А где руки помыть? – И покончив со всем этим, сказала: – Теперь, Вера, показывай мне твоего сына. Каков молодец?
Анфиса Петровна сама развернула пеленки, потрогала щечки, ножки ребенка, подняла его на руки.
– Подрос!.. Парень крепкий, – веско сказала она. – Будет матери кормилец.
– Когда еще! – улыбаясь, польщенная ее похвалой, заметила Вера Павловна.
– А не заметишь, как подтянется. Особенно, если они друг за дружкой идут. Я, милая моя, семерых выходила, – с горделивой радостью сказала она. – Да ты ведь видала. Чем плохие парни? Сколько лет возле них, не разгибая спины. Пеленки, распашонки... Хоть дитя и криво, а все матери диво... Вот нынче мне говорят: поезжай, Анфиса Петровна, на краевой съезд – делегаткой. Свою Советскую власть ставить. У меня дети, разве я им худого пожелаю – поехала. Такое уж дело, что надо идти смело...
Даше Анфиса Петровна понравилась. В устах этой женщины самые обычные слова и понятия вдруг обретали глубокий смысл. Просто интересно было следить за тем, как она умела неожиданно повернуть разговор. Даша перебралась со своими учебниками на кухню и жадно прислушивалась к беседе.
– Ты что, егоза, не идет ученье на ум? Учись, учись, – заметила Анфиса Петровна, отвечая ей дружеской улыбкой. – Твое дело молодое, ты нас, баб, не слушай.
– Да какая же она баба, Вера наша? – Даша закрыла учебник и рассмеялась.
– Все одно баба, – сказала Анфиса Петровна. – Девкам этого не понять. Ветер у вас в голове.
– Ступай, Даша, к себе. Ты же ничего сегодня не приготовила, – вмешалась Вера Павловна.
Даша покорно собрала учебники. Но какой-то бесенок, видно, вселился в нее сегодня. Уходя, она крепко обняла сестру и зашептала ей на ухо:
– Знаешь, мне ужасно понравился твой Логунов! Ты только не сердись, пожалуйста.
Вера Павловна только руками развела.
Едва она успела напоить гостью чаем и приняться за мытье посуды, как в передней раздался звонок. Вернулась Олимпиада Клавдиевна.
– Ну, милая, столько новостей, – начала она и осеклась, заметив мывшую полы Анфису Петровну.
Подоткнув юбку, та ловко гнала перед собой тряпкой пенистую грязную воду.
– Здравствуйте! Поздно у вас, в городе, убираются. Как раз подоспела к этому делу, – сказала она, когда Вера Павловна представила ее хозяйке дома.
– Зачем же вы, право... Веруша, как ты могла допустить? – Олимпиада Клавдиевна была несколько смущена.
– Я за свою жизнь столько полов этих перемыла, что один лишний мне не повредит.
Анфиса Петровна быстро закончила начатую работу, Вера Павловна тем временем приводила в порядок вещи, передвигала вазочки, статуэтки.
– Представьте, у нас преждевременные каникулы. Учителя гимназии решили присоединиться к забастовке служащих, – говорила Олимпиада Клавдиевна, тоже вооружаясь тряпкой и принимаясь тереть стекла книжного шкафа.
– Зачем же вам бастовать? – Анфиса Петровна недоуменно посмотрела на хозяйку.
– Милая, я сама толком не знаю. Тут – политика, там – дети. И все это, оказывается, ужасно трудно совместить.
Олимпиада Клавдиевна удивилась, узнав, что Анфиса Петровна является делегаткой краевого съезда Советов.
– Вы, простая женщина... без специальных познаний? Как же вы можете разобраться во всех этих политических программах? У меня от них голова кругом идет.
– Наши понятия известные – нужда да горе. Маемся, маемся, без просвета впереди. – Анфиса Петровна подобрала распустившиеся волосы, вздохнула. – А уж как хочется, чтобы хоть дети по-человечески жить стали.
– Ах, дети, дети! Как часто мы ограничиваем себя ради них, – Олимпиада Клавдиевна старательно водила по стеклу тряпкой. На мгновение перед ее взором мелькнули русые и темные головки, серьезные детские лица с пытливыми глазами. – Милая, не позволяйте толкнуть Россию в пропасть.
– Да кто толкает, кто? – неожиданно раздраженным тоном спросила Вера Павловна.
– Ты сама прекрасно знаешь, – Олимпиада Клавдиевна покосилась на Анфису Петровну и, не договорив, оборвала фразу.
– А я теперь не уверена в этом. Нет! – резко возразила Вера Павловна.
Олимпиада Клавдиевна удивленно и строго посмотрела на племянницу.
– Странно, что у тебя вдруг обнаружились такие симпатии.
– Ничего нет странного. Я просто пытаюсь составить собственное мнение о происходящем.
Повыше переносицы у Веры Павловны появилась упрямая вертикальная складка; она спокойно выдержала взгляд тетушки.
– Ты, видно, хочешь прослыть в нашей среде белой вороной. Существуют все-таки твердо установившиеся понятия, взгляды... В конце концов политика – не женское дело, – сказала Олимпиада Клавдиевна.
– Почему не женское? Кому же устраивать жизнь, как не нашей сестре – женщине? Чай, тяготы первыми на ее плечи ложатся, – возразила Анфиса Петровна.
– Удел женщины – семья. Не станете же вы это отрицать.
– Семья. Да с семьей-то не на острове живешь – среди людей. А с людьми жить – заботы делить. Как же иначе? – Анфиса Петровна улыбнулась широкой, доброй улыбкой женщины, повидавшей разного на своем веку. – Нынче много развелось охотников учить, как жить надо. Иной хлопочет, хлопочет, не сразу поймешь, чего хочет. На словах – что на гуслях, а на деле – что на балалайке. По бабьему своему разумению я так полагаю: кроме большевиков, о простом человеке никто не позаботится. Большевиков и буду держаться. С этого меня никто не собьет.
Присев на стул и покачивая правой рукой, будто она у нее затекла, Анфиса Петровна рассказывала о жизни на их станции, людской нужде, горестях и надеждах. Была в ее суждениях та неумолимая логика фактов, перед которой не могла не спасовать Олимпиада Клавдиевна.
– Вот вы говорите: народу учиться сперва нужно. Верно! К свету всякая травинка тянется, человек – к знанию. – Анфиса Петровна усмехнулась. – Что ж, потянулись, а нас сразу по рукам – хлоп. Забастовка... Детишек, видишь, и тех учить отказались. Это правильно?
Олимпиада Клавдиевна почувствовала, что щеки у нее залились краской.
– Милая, не нужно упрощать! – с досадой и некоторым смущением сказала она.
Анфиса Петровна переглянулась с Верой Павловной, и обе рассмеялись.
3
Третий краевой съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Дальнего Востока открывался в тот же день вечером (двенадцатого декабря по старому стилю). Прибывали делегаты – представители Владивостокского, Никольск-Уссурийского, Спасского, Благовещенского, Зейского и других местных Советов. Ждали также несколько человек из Харбина, где контрреволюция по указке консульского корпуса уже приступила к разоружению революционно настроенных ополченческих дружин. Всего к открытию съезда прибыло семьдесят два делегата. Часть товарищей, в том числе энергичный председатель Владивостокского Совета Константин Суханов, задержалась в связи с проведением Приморского областного земского собрания. Решался вопрос о том, за кем пойдет дальневосточное крестьянство.
С августа, когда проходил второй краевой съезд Советов, многое изменилось. Победа социалистической революции в центре и первые же декреты рабоче-крестьянского правительства в Петрограде, подписанные Лениным, – декрет о мире, о земле, о восьмичасовом рабочем дне – не оставляли камня на камне от злостных измышлений врагов Советской власти. Они отвечали самым сокровенным желаниям простых людей.
«Вся власть Советам!» – в этом пламенном призыве партии большевиков были сконцентрированы надежды и чаяния народных масс. И эти же слова вызывали ненависть и страх у эксплуататоров не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Два мира вставали друг против друга – мир трудящихся, угнетенных вчера и ставших свободными сегодня, и мир обреченного с этого часа на гибель капитализма.
Не всем было дано видеть, как решительно и неуклонно склонялась стрелка на весах в пользу нового, только что народившегося общественного строя. Видные публицисты, писатели, знатоки социальных проблем, попы и философы пророчествовали, что Советская власть не продержится и двух недель, во всяком случае, просуществует не дольше месяца, что она есть исчадие ада и рухнет по гневу божьему, что ей надлежало бы родиться по меньшей мере лет сто спустя. Советскую власть предавали анафеме в церквах, поносили ее на страницах газет, уверяли, что с нею совершенно не нужно считаться.
А в то же время немецкие и австрийские рабочие и венгерские крестьяне, одетые в шинели, братались с русскими солдатами. Металлисты из Ланкастера, докеры Лондона, трамвайщики Чикаго, потомки парижских коммунаров из предместья Сен-Дени, моряки Сиднея и шанхайские кули слали Ленину письма и телеграммы, приветствовали русскую революцию и первое в мире государство трудящихся. Американский писатель Джон Рид по свежим впечатлениям русского Октября писал о «десяти днях, которые потрясли мир».
Показательным для изменившегося соотношения сил в крае был уже сам состав съезда, перед которым должен был выступить и отчитаться соглашательский краевой исполком. Более половины мест принадлежало большевикам. Именно их облекли высоким доверием пролетарии Дальнего Востока. К ним примыкали левые эсеры. Фракция же меньшевиков едва собрала девять мандатов, большей частью за счет представителей Благовещенского Совета. Там позиции правых эсеров и меньшевиков были пока прочными.
Обстановка в городе в момент открытия съезда была напряженной. Только накануне исполком Хабаровского Совета ликвидировал русановскую авантюру. Русанов и его секретарь эсер Граженский находились под домашним арестом. В некоторых учреждениях и городских гимназиях началась политическая стачка служащих и учителей. Хабаровск по существу был лишен нормальной связи с центром. Очень запутанным и острым был продовольственный вопрос. Амурский продовольственный комитет, располагая значительными излишками хлеба, упорно препятствовал доставке его в Приморскую область. Завоз хлеба из Маньчжурии становился фактически невозможным из-за вмешательства империалистов, начавших осуществлять голодную блокаду Советской России. Предприятия простаивали ввиду нехватки топлива и сырья. Владельцы нарочно запутывали учет, снабжение, закрывали предприятия якобы из-за убыточности. Почти полностью была дезорганизована работа золотодобывающей промышленности. В рыбном деле ключевые позиции были захвачены иностранцами – японскими рыбопромышленниками. Они стремились прибрать к рукам и рыбалки на Нижнем Амуре. Английский капитал внедрялся в горное дело. Американцы монополизировали торговлю и снабжение сельскохозяйственными машинами и начали устанавливать свой контроль над железными дорогами. Ко всему этому добавлялись трудности, связанные с пограничным положением края, с демобилизацией запасных солдат из армии. Наплыв в край бегущих из центральных губерний царских офицеров, чиновников, буржуазных дельцов заметно активизировал местных контрреволюционеров.
Распространялись слухи о близком вмешательстве иностранцев в политическую жизнь края, об интервенции. Поведение консульского корпуса во Владивостоке, Харбине и Иркутске нельзя было назвать иначе, как враждебным. Это соответствовало позиции, занятой послами великих держав в Петрограде. В Вашингтоне, Лондоне, Париже, Токио и Харбине плелись нити большого антисоветского заговора, в планах которого предусматривалась первоочередная оккупация русского Дальнего Востока и Сибири. Уже английская разведка направляла царского адмирала Колчака в Пекин, чтобы в подходящий момент он мог сразу появиться на сцене. Гучков, Путилов, Хорват – эти «столпы» рухнувшего царского режима – начали серию совещаний с дипломатами стран Антанты и Японии. Казачий есаул Семенов, будущий палач трудящихся Забайкалья, формировал на станциях Чжалайнор и Маньчжурия банды головорезов. Американские конгрессмены обхаживали сибирских кооператоров и областников, подбивая их на объявление автономии под вывеской «Дербер и К°».
Обстановка была сложной. Но не тревога и опасения, а твердая уверенность в победе революции характеризовала настроение подавляющей части делегатов съезда.
Это настроение Потапов почувствовал сразу, едва открыл дверь помещения, где собралась фракция большевиков. Заседание уже началось. Михаил Юрьевич взял стул и сел позади, высматривая, у кого бы узнать о принятых здесь решениях.
Рядом сидел пожилой плотный человек в кожаной тужурке, похожий на заводского механика или железнодорожного машиниста. Сложив большие рабочие руки на коленях, он внимательно слушал очередного оратора.
– Скажите, порядок съезда уже обсудили? – шепотом спросил Михаил Юрьевич.
– Да, – коротко ответил сосед, повернув к Потапову круглую лобастую голову.
Лицо у него было бритое, черные усы и небольшая узкая бородка аккуратно подстрижены. Из-под густых бровей глянули живые выразительные глаза. Потапову он смутно кого-то напоминал.
– Мы не встречались прежде?
– Возможно, возможно, – сказал сосед глуховатым баском. – А вы кто будете?
Михаил Юрьевич назвал себя.
– Рад познакомиться. Я – Мухин, – приветливо сказал человек в кожанке и протянул Михаилу Юрьевичу крепкую жилистую руку.
– Федор Никанорович! – обрадовался Потапов. Он много слышал об этом известном революционере-подпольщике, руководителе амурских большевиков.
– Совершенно верно – Федор Никанорович... Так в церкви нарекли, – с доброй усмешкой подтвердил Мухин. – А вы что же опоздали, товарищ дорогой?
– Опоздаешь тут! – Потапов с горечью махнул рукой. – Битых три часа проторчал на телеграфе, саботажников убеждал. А тут вкладчики осаждают банк и сберегательную кассу. Кто-то пустил слух, что ночью мы будем изымать из кредитных учреждений всю денежную наличность. Иначе говоря, грабить банк.
– Старые приемчики. Провокация. – Мухин покачал головой, брови у него почти сошлись над переносицей. – Меня вот так однажды в компанию фальшивомонетчиков зачислили. Без зазрения совести. И чуть не упекли на каторгу по вздорному обвинению. Знают, подлецы, на какой струне играть.
Они разговаривали негромко, но мешали сидящим впереди. Кто-то шикнул на них.
– Ну, послушаем, – Мухин сложил опять руки на коленях и сощурил глаза. Но уже через минуту снова повернулся к Потапову: – У меня к вам есть некоторые просьбы. Я уж воспользуюсь встречей, не обессудьте.
– Эй, «Камчатка»! У вас там отдельное совещание, да? – спросил председатель, строго блеснув глазами.
Это был Губельман – представитель областного комитета партии, подвижной чернобровый человек. Ни одной минуты он не сидел без дела: то пошепчется с кем-нибудь за столом, то настрочит записку или слушает выступление и в такт словам покачивает большой кудлатой головой, Видно, он тоже присматривался к людям, прощупывал настроение.
Повстречавшись глазами с Потаповым, он взглядом спросил: «Как дела?» – «В порядке», – также взглядом ответил Михаил Юрьевич.
– Ну, кажется, по всем вопросам договорились. Будем кончать, – посмотрев на часы, сказал председатель. – Держаться твердо, товарищи! Теперь соглашателям из краевого исполкома некуда податься. – Он крутнул головой, пробежал быстрым взглядом по лицам. – Будем открывать съезд, товарищи!
Послышался шум отодвигаемых стульев.
– Да-а, вот так и решится проблема. Помните: «Из искры возгорится пламя...» – сказал Мухин, идя вместе с Потаповым к выходу из зала. – В газетах кричат о неминуемом крахе большевиков. А Советская власть в это время утверждается на берегах Тихого океана. Хорошо мы угадали родиться в такое время.
4
Тревожно было в городе в эту ночь. Кто-то ловко и умело пугал обывателя грозящими бедами. Слухи, шепотки ползли из дома в дом.
Возле городского банка волновалась толпа. Помимо вкладчиков, здесь немало зевак и разных подозрительных личностей.
Рабочие и солдаты, проходя мимо, с усмешкой посматривали на озябших старух и дородных лавочников.
Падал редкий снежок, мягко похрустывал под ногами.
– Граждане, расходитесь! Право, не о чем беспокоиться, – уговаривал публику невысокий человек в коротком осеннем пальто. – Вот разберемся с делами, и банк начнет нормально действовать. Никто ваших денег не тронет.
– Зачем же тогда комиссара поставили?
– А затем, чтобы народное добро зря не растаскивали, – терпеливо разъяснял человек в пальто. – Мы знаем, что вашими деньгами хотят заплатить саботажникам.
– Ло-ожь!
– Нет, это правда.
– Пусть скажет об этом сам комиссар.
– А я и есть комиссар, – сказал человек в пальто. Достал папиросу, повернулся спиной к ветру и чиркнул спичкой. Вспышка осветила на мгновение его худое лицо с запавшими щеками и большим сабельным шрамом наискосок через левую бровь к середине лба. – Я вам точно говорю. Бели угодно, можете сейчас выделить двух-трех человек. Пусть посмотрят документы, – продолжал он тем же спокойным, убеждающим тоном.
– В самом деле. Почему не принять предложение? – заколебался кто-то в очереди. – Я бы пошел.
– Вот-вот! Таких и ищут – доверчивых... Не верьте ему! Он за немецкие деньги совесть продал, – истерично закричала разодетая в меха женщина. Протолкавшись вперед, она оказалась лицом к лицу с комиссаром. – Вы только посмотрите на его рожу! У, разбойник!.. Вы посмотрите, – продолжала она высоким сварливым голосом, хватая комиссара за плечи и поворачивая его лицом к фонарю, горевшему над входом в банк. – Из какой шайки тебя сюда прислали, грабитель!
– Ну, дура! Дура-а, – сказал комиссар, сбросил с плеч ее руки и отступил на шаг. – Шрамом я царю обязан. Казак полоснул шашкой в тысяча девятьсот пятом году.
– Бог шельму метит! – с веселым злорадством крикнул подобравшийся вслед за женщиной верзила.
– Слышь, народ, у него, должно быть, ключи, – быстрой скороговоркой сказал кто-то.
Очередь сразу придвинулась и зашумела.
– Еремей, дай ему разок в ухо. Небось станет сговорчивее, – предложил тот же ехидный голос.
Налетевшим порывом ветра качнуло фонарь; по лицам столпившихся возле комиссара людей пробежала черная тень.
– Может, отдадите ключи по-хорошему? – глухим голосом спросил верзила.
Опять качнулся фонарь, тень метнулась, но уже в обратном направлении.
– По-хорошему я мог бы тебя сейчас уложить на месте. И следовало бы, – спокойно и тихо сказал комиссар, не обнаружив растерянности или страха. – Да вижу, чужим умом живешь. Ох, не доведут тебя до добра такие советчики. Посторонись-ка, парень! – И он с укором обратился к остальным: – Вы вот уши развесили, а вам такое напоют – закачаешься. Толкают на нехорошее дело.
– Нехорошее... Верно, – согласился голос из толпы. – У вас ведь охрана.
– А как же! – весело подтвердил комиссар. – Ей на такое безобразие спустя рукава нельзя смотреть. Есть воинский устав.
– Станете стрелять?..
– Будем защищать банк от громил. Имейте это в виду, – сказал комиссар и постучал в калитку.
Проводив вечером Анфису Петровну до здания, где открывался съезд, Вера Павловна и Даша долго ходили по улицам, прислушивались к разговорам.
Обеих поражало разное настроение людей. Одни – преимущественно люди с окраин – открыто высказывали свое удовлетворение. Молодежь из Арсенальской слободки, невзирая на мороз, пела песни и лихо отплясывала под гармошку. Зато чистая публика громко высказывала возмущение. Только усиленные красногвардейские патрули на улицах сдерживали готовые прорваться наружу страсти.
Наслушавшись всякого, сестры с чувством тревоги вернулись домой.
Дома оказался неожиданный гость – Сташевский.
– Политическая стачка служащих поставит большевиков в безвыходное положение. Не пройдет и месяца, как они запросят пардону, – говорил он, беспокойно озираясь по сторонам.
Всегда уверенный в себе, импозантный, Сташевский сейчас казался пришибленным. Видимо, он сам не очень верил тому, что предсказывал.
Олимпиада Клавдиевна состояла с ним в дальнем родстве, но не любила заважничавшего сверх меры начальника почтово-телеграфной конторы. Встречались они редко.
– Боже мой, где вы ходите так поздно? Я чего только не передумала, – воскликнула она, когда племянницы одна за другой вошли в столовую.
Сташевский поздоровался с ними снисходительным кивком головы.
– Тетя ваша совершенно права, выражая беспокойство. Сейчас можно ожидать любых эксцессов, – сказал он с важностью и положил себе в стакан еще один кусок сахару. – На глазах у нас человеческая личность превращается ни во что, – продолжал он, помешивая чай ложечкой и присматриваясь исподволь к сестрам, похорошевшим после прогулки по морозцу. – Человека могут оскорбить словами или действием, обобрать до нитки, лишить его имущества я самой жизни. Короче говоря, вас экспроприируют в интересах светлого будущего. Слуга покорный. Такая перспектива меня нисколько не привлекает.
– Ах, это ужасно! – сказала Олимпиада Клавдиевна. – В конце концов жизнь человеческая так коротка.
– Вот начнется террор, так ее еще укоротят, – с угрюмым видом изрек Сташевский.
– Ну, вы сегодня просто не в духе, я заметила сразу. – Олимпиада Клавдиевна не хотела принимать всерьез его мрачных предсказаний. – Вера, ты почему торопишься?.. Сколько раз говорю ей, чтобы не глотала горячий чай. Это вредно.
– Может быть. Но я так люблю, – сказала Вера Павловна. – Крепкий горячий чай – моя страсть.
– Конечно, ты уже в таком возрасте, когда со мной можно больше не считаться. Я этого ждала, ждала, – сказала Олимпиада Клавдиевна; все ее давние невысказанные обиды прорвались в смешном и нелепом упреке. – Вот современная молодежь, – продолжала она, обращаясь к Сташевскому. – Дома они глотают кипяток и политическую литературу, на улице готовы примкнуть к любой демонстрации, лишь бы под красным флагом. Их идеал – матрос.
– Гм... Да... – мычал Сташевский, глотая такой же горячий чай. – Позвольте, почему... матрос? – удивился он.
– Не меня об этом спрашивать.
Даша, опустив глаза к тарелке, чувствовала, что неудержимо краснеет.
– А ты что цветешь, как маков цвет? Погляди, Вера!.. Что с Дашей? – сказала Олимпиада Клавдиевна, внимательно посмотрев на смутившуюся до крайности племянницу.
Впрочем, неприятной темы больше не касались. Даша, допив чай, незаметно выскользнула из столовой. Ушла в детскую и Вера Павловна.
Сташевский не торопился уходить.
– Ах, какие все прыткие. Зажечь мировой пожар, создать то, что самой историей предопределено лет так, примерно, через сто. Так нет. Мы – азартные люди. Нам подай сейчас же социализм... – желчно говорил он. – Сказка о рыбаке и рыбке вечно следует за нами. А мы, зная ее мораль, все же творим без конца одни и те же ошибки. Спешим да людей смешим.
Олимпиада Клавдиевна недоумений посматривала на засидевшегося гостя. Не ради же этих рассуждений он пришел к ней.
– М-да! Вот так и живем... На краю разверзшейся пропасти, – продолжал жаловаться Сташевский, не зная, как приступить к делу. – Я ведь, Олимпиада Клавдиевна, пришел по-родственному, – решился он наконец, и заискивающая улыбочка появилась на его холеном, немного одутловатом лице. – Вы слышали об аресте Русанова и Граженского? Мне тоже грозит сия участь, – упавшим голосом сказал он и сложил крест-накрест руки на животе.
– Бог с вами, Станислав Робертович! Уж вы-то что плохого сделали? – воскликнула Олимпиада Клавдиевна.
– Предвижу и такой случай, – тоном примирившегося с неизбежным сказал Сташевский. – Как член стачечного комитета я должен заблаговременно принять меры. Да-с. Если я оставлю у вас на сохранение... Нет, не пугайтесь! Никаких бумаг, – он предупреждающе поднял палец, затем приложил его к губам, давая понять, что все останется между ними. – Столовое серебро, золотой браслет и кольца жены... еще кое-какая мелочь. Один маленький чемоданчик. О, благодарю! Я знал, что могу на вас рассчитывать. – Сташевский рассыпался в благодарностях, хотя Олимпиада Клавдиевна не успела и слова сказать.
– Станислав Робертович, я, право, не знаю... – она никак не могла придумать приличный предлог, чтобы отклонить эту странную просьбу.
– Фу, как гора у меня с плеч! – не слушая ее, повеселевшим голосом сказал Сташевский. – Значит, завтра жена занесет чемоданчик. Позвольте ручку, Олимпиада Клавдиевна! Вот так, – он изогнулся, чмокнул губами ее руку повыше запястья и поспешил откланяться.
Когда вернулась гостья, Олимпиада Клавдиевна так и не слышала. Сон сразу сморил ее, едва голова очутилась на подушке.
Дверь Анфисе Петровне открыла Вера Павловна. Она проводила ее в свою комнату, где на диване была приготовлена постель,
– Уж извините, пожалуйста! Только что кончилось собрание, – сказала Анфиса Петровна, расплетая косы.
Погасив свет, они не скоро еще смогли заснуть.
– Народу, народу сколько! – с наивным удивлением говорила Анфиса Петровна. Она со всеми подробностями стала рассказывать об открытии съезда, выборах президиума и о том, как меньшевики хотели без публики на закрытом заседании поставить вопрос об отношении съезда к заговорщику Русанову, а большевики не дали им это сделать, заявив, что от народа таить тут нечего, и как были избраны уполномоченные, чтобы принять ключи и дела от старой власти. Рассказывая об этом, она вдруг всхлипнула в темноте, сглотнула слезы и рассмеялась: – Дура я, дура! Радоваться надо, а я плачу...
На втором заседании съезд обсуждал отчет Дальневосточного краевого комитета Советов.
– Бородка Минина, а совесть глиняна, – коротко отозвалась Анфиса Петровна о докладчике. – Еще хотели, чтобы им благодарность вынесли.
– Но ведь работали же люди, старались, – сказала Олимпиада Клавдиевна, знавшая председателя краевого исполкома меньшевика Вакулина.
– Старались. Да для кого? От их стараний не счесть страданий.
Анфиса Петровна не стеснялась прямо высказывать свое мнение и умела облечь это в живую, образную форму.
Олимпиада Клавдиевна не без интереса приглядывалась к своей гостье. Ее поражало то, как легко и просто эта женщина вошла в их дом и сколько новых мыслей принесла она сюда. Невольно она сравнивала ее слова с тем, что здесь накануне говорил Сташевский, и не знала, кому из них следует больше верить. Сама она в известной мере разделяла опасения Сташевского.
Между обеими женщинами установились довольно сложные, но в основе дружеские отношения.
– Бастуете? Ох, ругать вас некому, – говорила напрямик Анфиса Петровна, когда хозяйка пожаловалась на скуку.
– Боже мой, не могу же я одна из всей гимназии идти заниматься. Кстати, ученики тоже примкнули к стачке, – оправдывалась Олимпиада Клавдиевна.