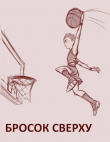Текст книги "На восходе солнца"
Автор книги: Н. Рогаль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
Ночь тянулась медленно, Архип Мартынович ворочался с боку на бок, но уснуть больше не мог. Угрюмо думал о хозяйстве, о новом подряде на поставку дров железной дороге, договор на который он не успел подписать, поспешив с Кауровым за легкой добычей. Все обернулось не так, как думалось. И сам он застрял в этой дурацкой палате!
В тот день, когда остатки сколоченного Кауровым казачьего отряда разбрелись кто куда, Архип Мартынович с сыном все-таки пробрались в город. Разведав, что план переворота провалился, Варсонофий скрылся. Он едва успел шепнуть отцу адрес.
Архип Мартынович зашел к Чукину посоветоваться; оба напились в стельку.
Среди ночи Тебенькова и хватили колики в боку, да так, что не только хмель выскочил – глаза на лоб полезли. Как началась боль в правом подреберье, резануло в животе, перекинулось в правое плечо да под лопатку – так и взвыл Архип Мартынович, заскулил, как больно побитый щенок, схватился за живот и пошел кататься по шкуре белого медведя, лежавшей возле дивана.
Чужая боль не болит. Чукин стоял над ним, хохотал, пьяно удивлялся: «Эк, тебя корчит! Умора глядеть...» У Архипа Мартыновича от обиды даже слезы из глаз брызнули. Пнул он в сердцах Чукина ногой и завыл пуще прежнего, рвал желчью, отплевывался.
Чукин от удара протрезвился, сообразил, что дело неладно, – послал за извозчиком. Завернули они вдвоем полураздетого Тебенькова в громадную волчью доху да так и доставили прямо в приемный покой больницы. Сделала сестра укол морфия, обложила ему живот грелками; отдышался Архип Мартынович, перевел дух.
Утром доктор Твердяков расспрашивал: «Жирное ели? Много?.. Нельзя вам. У вас – печень». Он назначил Тебенькову легкую диету. Архип Мартынович глотал протертые супы да протертые каши и скучал по говядине, тихонечко поохивал. А как поунялись, поутихли боли, стал присматриваться к соседям по палате, принюхиваться к новым веяниям, доносившимся в больницу, – и совсем затосковал, приуныл.
Ночь проходила, а думы у Тебенькова все те же – тревожные, беспокойные, черные.
С первым солнечным лучом в палате начинался оживленный разговор: радовались люди и солнцу, и выздоровлению своему, и – более всего – переменам в жизни. Тебеньков же хмурился.
Сосед, должно быть, догадывался о тайных думах Архипа Мартыновича. Он раздумчиво говорил ровным, тихим голосом очень больного человека, каждое дыхание которого заранее учтено, размерено, взвешено:
– Еще бывает так... живет человек, живет. Вдруг навалится на него черная тоска. Хоть в омут головой кидайся. А какая тому причина? Вот тут и подумать надо... К чему человек в жизни сердцем прилепился? Что ему дорого – люди или барахло нажитое? Хочешь жить – ставь новую избу, а помирать – и в старой домовине схоронят... Он не успел закончить мысль: начался утренний обход врача. Послышался веселый, бодрый голос Твердякова:
– Живы-здоровы, грешники?
– Живы! Живы... – откликнулся сосед Тебенькова.
– Ну, молодцы! Кажите языки, – доктор балагурил, знал цену шутке.
Твердякова в палате любили.
Архип Мартынович за это время тоже проникся уважением к доктору.
– Мне бы на выписку?.. Не могу больше здесь лежать, – сказал он, когда Твердяков остановился возле его койки.
– Посмотрим, посмотрим... – Твердяков подвижными, ловкими пальцами прощупывал печень. – Больно?.. А здесь?
Архип Мартынович крепился:
– Терпеть можно...
– Что ж, согласен! Идите на выписку, – заключил Твердяков, закончив осмотр. – Только имейте в виду... никаких излишеств. На первых порах диета.
В конце дня в больницу принесли одежду. Архип Мартынович попрощался с товарищами по палате.
– Бывай здоров, казак! Да выше ветра голову не носи, – посоветовал Тебенькову его сосед.
Архип Мартынович почувствовал себя задетым, ответил с мстительной жестокостью:
– А ведь тебе, мил человек, отсюда не выйти!..
В городе Тебеньков задерживаться не стал и в тот же вечер выехал домой, в Чернинскую. Забежал он только в аптеку, где долго и обстоятельно расспрашивал провизора о лечебных свойствах минеральной воды «Ессентуки», рекомендованной ему доктором. Справился о цепе.
– Вам ящик? – спросил провизор.
– Одну бутылку, – невозмутимо ответил Архип Мартынович.
В Чернинскую поезд пришел поздно ночью. Архип Мартынович первым спрыгнул с подножки вагона на захрустевший под ним снег, вдохнул морозного воздуху и почувствовал себя окончательно выздоровевшим.
На станции, кроме Тебенькова с сыном да заспанного дежурного с фонарем, не было ни души. Каменное здание станции, недавно построенное военнопленными австрийцами, мрачно глядело в темноту черными, слепыми окнами. Лишь в комнате дежурного тускло горел одинокий огонек.
Вдали замирал шум ушедшего поезда.
– Узнать надо у начальника станции... Как дело с подрядом на поставку дров. Когда можно подписать контракт, – озабоченно сказал Архип Мартынович.
– Завтра узна-аем. – Варсонофий зевнул.
– Да чего откладывать! Сейчас спросим.
– Что ты, батя! Четвертый час... Неудобно, – запротестовал Варсонофий.
– Я ему за беспокойство завтра кулек крупчатки пошлю, – сказал Архип Мартынович и решительно постучал согнутым твердым пальцем в оконную раму.
– Ба-атя!..
– Отстань, говорю, – Архип Мартынович стукнул уже кулаком, погромче.
Изнутри к стеклу прильнула белая длинная фигура.
– Цо то такое?
– Отвори, Казимир Станиславович! Дело есть, – крикнул Тебеньков.
В окнах квартиры начальника станции засветился огонь; хозяин в туфлях на босу ногу прошлепал в сенцы, отворил дверь.
– Прошу, панове, проходить до комнаты, – недовольно, заспанным голосом сказал он, пропуская вперед Тебеньковых. – Цо стряслось?
Архип Мартынович не спеша снял шапку, повесил ее, сел на стул.
– Насчет контракта я, Казимир Станиславович. Беспокоюсь. Да и времени нет расхаживать. Прямо с поезда к вам.
Начальник станции почесал пятерней свою сильно волосатую грудь; длинные мятые усы у него поникли.
– Не можно теперь помочь, Архип Мартынович! Никак не можно...
– Что, что? – Тебеньков так и подался вперед, так и впился в него недобрыми глазами.
– Контракт вже подписан, – сказал начальник станции и вздохнул. – По тридцать пять рублей сажень.
– Та-ак... – Архип Мартынович поднялся чернее тучи. – По тридцать пять рублей!.. Кто же это подмазал тебя, а?
– Цо подмазал!.. Ково подмазал? – Гонористый начальник станции грозно засверкал очами; усы у него сразу полезли вверх, сердито задвигались. – Приехал комиссар Коваль, собрал сход. На што вам, говорит, десятку с сажени задарма подрядчику отдавать. Ни за што ни про што... Ну и заставил заключить контракт с обществом... Артелью возят.
Архип Мартынович только зубами скрипнул.
– Опять хохлы мне дорогу забежали! – хмуро посетовал он, шагая с Варсонофием через рельсы, и погрозил куда-то в темноту кулаком. – Ну, погоди-и!..
Дома он тотчас же потребовал от жены полного отчета.
– Как хозяйство? За всем доглядела?.. В рождество от кабака сколько выручили?.. А Лысуха кого принесла – телку, бычка? – донимал он Егоровну расспросами. Тут же распорядился: – В лавке товару хохлам в кредит больше не отпускать. Пусть платят наличными... с подряда, – и горестно вздохнул: – Проворонили, черти косоротые!
Егоровна хлопотала возле плиты, тревожно посматривала на мужа.
– Похудел как, господи! Почернел... Что приключилось с тобой, Архип?
– С вами почернеешь... Болел я. Вот уж не ко времени.
Егоровна нарезала горку приятно пахнущего свежего хлеба. Поставила на стол яичницу-глазунью с салом. Сало шипело на сковороде и потрескивало.
Архип Мартынович с негодованием уставился на жену:
– Уморить меня хочешь, негодница?
– Что ты! Я и так... мигом.
– Нельзя мне такую пищу... Рвет меня с нее. Диет нужен.
– Ди-ет? – Егоровна всплеснула руками. – Да где я его возьму – диет твой!.. Ешь уж, яички свежие...
– Не могу. Зарок дал против жирного. Так меня корежило.
– Что за напасть такая?..
– Печень расшалилась. Желчью так и шибало, – пояснил Архип Мартынович, с завистью глядя, как уписывал глазунью проголодавшийся Варсонофий. – Ох, жестокая штука. А диет – это пища легкая, меню... Супчик постный с тертой морковкой либо кашка манная. Вот ты мне и сготовь.
Чуть свет Архип Мартынович был на ногах. Пока готовился завтрак, он обошел громадный баз, заглянул в конюшню, свинарник.
– Егоровна-а! – послышался со двора его крик.
– Ну, высмотрел чего-то. – Егоровна на полуслове прервала разговор с Варсонофием, накинула платок и помчалась на баз.
Архип Мартынович ходил вокруг прыгающего на трех ногах кабанчика-подростка. Сурово взглянул на жену.
– С чего это он... захромал?
– Ах, Архипушка! Перебили ногу третьего дня...
– Кто перебил?
– Из соседского двора бежал. От Микишки. Это он, злодей!.. Вперед, говорит, не будете распускать скотину.
– Кабанчика дорезать придется! Не будет с него толку. Загубили животное. – Тебеньков с мрачной угрозой посмотрел через забор на соседскую избенку.
Не заходя в дом, он отправился на мельницу. Обошел холодное тихое помещение, стены которого изнутри были густо припудрены мучной пылью.
Сквозь стену из машинного отделения доносились глухие голоса. Машинист – он же мастер-вальцовщик – ходил с разводным гаечным ключом вокруг локомобиля. Два пожилых казака, рано забредших на мельницу, лениво переговаривались.
– Привоз есть? – спросил Архип Мартынович, здороваясь с казаками.
– Неважный.
– Однако надо обмолотить остатний хлеб, – заметил один из казаков.
– Много осталось?
– Должно быть больше половины. Мышей... откуда взялись?.. прорва!
– Н-да... На наш хлеб – едоков... – Архип Мартынович скосил на казаков хитроватые глаза, посоветовал: – Не спешите с обмолотом, станичники. Не ровен час – нагрянут с реквизицией. Ну, предложите... снопы. Небось не схватятся. А цена той порой вскочит поболее – в накладе не останетесь.
– Это будто так... но черт его знает!
– Соображать надо, станичники, – веско сказал Архип Мартынович, присаживаясь рядом и доставая пачку папирос. – Дай большевикам хлеб – они, гляди, и укоренятся. Тогда вовсе волком взвоешь. Не будет казакам вольного житья. А подведет им с голодухи животы – так небось присмиреют.
– Чужой бедой сыт не будешь, – возразил казак и со странной усмешкой поглядел на Тебенькова.
– Все жадность человеческая, – вызывающе громко сказал машинист и сплюнул.
Архип Мартынович сверкнул на него глазами, но продолжал тем же спокойным тоном:
– О себе разве хлопочу, казаки? Даст бог, проживу. За вас, станичники, душой болею. Трудное подошло время. Ох, грудное...
Архип Мартынович осторожно погладил рукой бок, вздохнул, вспомнил, что его ждет дома завтрак, заторопился.
– Нельзя нам, станичники, врозь идти. Казакам надо крепче друг за дружку держаться. Сегодня ты мне помог, завтра – я тебе... так оно и пойдет – тихо, мирно... по старинному завету да обычаю. Бывайте здоровы, казаки!
Покряхтывая, он потоптался перед ними и тихонько ушел, с горечью думая, что и сюда, в казачью станицу, начал проникать дух непокорства.
За столом Архип Мартынович хмурился, что-то соображал, побалтывая ложкой жидкую кашицу – «диет». Вспомнил про «Ессентуки», послал жену за бутылкой, откупорил, понюхал, глотнул немного и тут же выплюнул.
– Вылей, Егоровна, в помойное ведро! Пущай скот ее пьет. Может, ему вода минеральная на пользу пойдет. Чай, за нее деньги плачены.
– В станичное правление пойдешь, батя? – спросил Варсонофий, когда Архип Мартынович решительно отстранил от себя миску с пресной кашицей.
– А черта я там не видал!
Три дня чернинский атаман не выходил со своего двора, наводил порядок на базу, костил батраков, перемерял товар в лавке. Он сам заколол охромевшего кабанчика, перековал на передние ноги жеребую кобылу Машку. Заставил Варсонофия хорошенько промять застоявшегося в станке жеребца.
На исходе третьего дня, когда работник погнал скот на водопой, Архип Мартынович тоже спустился по узкому проулку на берег.
Морозы отпустили, и на стремительной Чернушке уже появились полыньи. Над ними стоял туман; прибрежные деревья постепенно покрывались инеем.
В некоторых местах ветром начисто сдуло снег со льда. Зато возле берега понамело сугробы, особенно в тальниковых зарослях по галечниковым косам.
Из-за реки по дороге тянулся обоз с дровами. Передние возы, скрипя полозьями, поднимались на крутой берег и сворачивали на улицу, ведущую к станции. Возчики – знакомые Тебенькову крестьяне из соседней деревни Зоевки – подталкивали сзади тяжелые сани и криками подбадривали заморенных лошадок.
Архип Мартынович затрясся от злости. С суковатой палкой в руках он кинулся от проруби наперерез обозу.
– Куда прешь, мужичье! Нет вам проезда по казачьей земле!
– Да ведь тут улица.
– Улица есть, да не про вашу честь.
– Эй, атаман! Не вводи во грех...
Подвод пятнадцать сгрудилось на дороге. Возчики с хмурыми лицами обступили Тебенькова.
– Ну чего шумишь, Архип Мартынович? Дорога широка – разминемся, – урезонивал атамана подошедший Василий Приходько.
– Пошел, говорю, обратно! Ну... – Тебеньков угрожающе помахивал палкой перед мордой передней лошади. Лошадь всхрапывала и пятилась.
– Ты, казак, лай, да коней не пугай! – хозяин подводы одним ловким движением вышиб палку из рук Архипа Мартыновича и наступил на нее ногой.
Тебеньков запрыгал перед ним злым кочетом:
– Да как ты посмел... мерзавец!.. на казачьей земле!
– А вот так и посмел. Не больно-то испугались, – усмехнулся возчик. – Тоже умник нашелся – дорогу закрыть.
– Окунуть его разок в прорубь, ребята! Нехай остынет.
– Посторонись, атаман! Сомнем...
Приходько за руку оттащил Тебенькова. с дороги.
– Не маячь на пути, Архип Мартынович! А хочется власть показать, задержи весной лед на реке.
Он засмеялся и побежал догонять подводы. За лесом садилось огромное красное солнце.
– Ба-атя, домой иди! – кричал со двора Варсонофий.
Архип Мартынович медленно поднялся на гору. Шумнул на сына:
– Ты что же?.. Не видишь, как хохлы над отцом измывались? Кликнул бы казаков, так мы им холку бы намяли.
– Не видал, батя.
– Чего звал?
– Нарочный из округа с пакетом.
Сломав сургучную печать, Архип Мартынович дважды перечитал бумагу из войскового правления. Лицо его прояснилось.
– Войсковой круг, слышишь, собирают. В Имане, – сказал он Варсонофию. – Вот делегата велят выбрать. Тебя, что ли? – Тебеньков критически посмотрел на сына и отрицательно мотнул головой. – Нет, сам поеду!
За ужином Архип Мартынович потребовал водки, выпил, крякнул, послал ко всем чертям супчик «диет», поспешно поставленный перед ним Егоровной, и приналег на жареную кабанину с гречневой кашей.
Весь следующий день он носился по станице, гремел шашкой по ступеням, разбрасывал шутки и обещания. Егоровна на кухне парила и жарила. Варсонофий с работником отнес в школу, закрытую по случаю предстоящего собрания, три ведра водки.
Вечером со всей станицы потянулись туда старики.
– Гуляй, казаки, пей мое вино! Уж я такой человек – для общественного дела себя не пожалею, – говорил Архип Мартынович, прохаживаясь вдоль столов.
2
Четвертый Войсковой круг уссурийских казаков собирался в Имане. Делегатов от станиц по установившемуся обычаю выбирали старики. Это были главным образом зажиточные казаки: подрядчики, владельцы винных и бакалейных лавок, поселковые и станичные атаманы. Их политическая физиономия была достаточно ясна и не внушала опасений устроителям съезда.
Казаки-строевики только начали возвращаться с фронта. Основная масса казачьих эшелонов тянулась где-то через Сибирь. Передовые эшелоны застряли на Китайско-Восточной железной дороге. Там казаков усиленно обрабатывали сбежавшиеся в полосу отчуждения КВЖД эсеро-меньшевистские политиканы и офицеры-монархисты.
Фронтовиков больше всего волновало, как скоро смогут они приехать домой. Им говорили, что причина задержки кроется в политике дальневосточных Советов, не желающих возвращения казаков в родной Уссурийский край. Это будто бы связано с намерением переселить казаков из обжитой пограничной полосы в отдаленные районы края, как элемент политически неблагонадежный с точки зрения новой власти. Ходили слухи, что на казачьи земли начали массами сажать крестьян. Другие уверяли, что казачьи заимки целиком отойдут корейцам-арендаторам.
Казаки волновались.
В поселках же и станицах, наоборот, задержку с возвращением казаков объясняли тем, что по требованию немецкого военного командования казачьи полки якобы насильно отправляют с дороги обратно на запад, чтобы там разоружить их и выдать Германии в качестве военнопленных. Таков-де залог, ценою которого большевики упросили немцев согласиться на мирные переговоры в Бресте. Обычно к этому добавлялись лестные для казачьего самолюбия рассказы о том, как здорово казаки насолили немцам и как люто ненавидят их за это Людендорф и Гинденбург. Получалось, что по отношению к казакам совершенно невероятное вероломство.
Трудовое казачество, начавшее уже составлять свое определенное мнение о том, как относиться к Советской власти, из-за установленной процедуры выборов на большой Войсковой круг фактически на нем не было представлено.
Всем заправляла казачья верхушка.
Сам выбор города Имана в качестве места для работы Войскового круга достаточно ясно говорил о намерениях его организаторов.
Захолустный городишко, находившийся в трех верстах от границы, как нельзя более подходил для того, чтобы попытаться здесь открыто выступить против быстро укреплявшейся на Дальнем Востоке Советской власти. В Имане не было сколько-нибудь крупных рабочих коллективов, которые могли бы быстро и энергично вмешаться в события и сорвать планы заговорщиков. В обе стороны от города по Уссури тянулась цепь казачьих поселений, управляемых атаманами, оставшимися еще с царского времени. Войсковые старшины могли здесь чувствовать себя довольно самостоятельными. Сюда переехало и Войсковое правление из Никольск-Уссурийска, где слишком уж накаленной становилась обстановка.
Тебеньков с сыном приехали в Иман за день до открытия круга. Остановились они у знакомого казака Алексея Смолина, старший брат которого, Иннокентий, был сослуживцем Архипа Мартыновича, а теперь исполнял должность атамана в ближайшей к Иману станице. Иннокентий был крестным отцом Варсонофия.
Смолин недавно перебрался в новый просторный дом городского типа, еще пахнувший свежей стружкой и краской. Два амбара под железной крышей, новая, прочно срубленная конюшня с узкими продольными окнами, высокий забор, окружавший усадьбу, говорили о зажиточности хозяина.
Старый дом, расположенный на этом же участке, Смолин давал внаем. Сейчас в нем квартировал есаул Калмыков – командир стоявшего в Имане казачьего полка.
Полк, если не считать офицеров, получавших жалованье по штатной ведомости, был почти не укомплектован личным составом. Состоял он из казаков старших возрастов, не замедливших разъехаться по домам, как только поослабла дисциплина.
Офицеры занимались непробудным пьянством и дебошами.
Пока Тебеньковы приводили себя в порядок после дороги, пока расспрашивали о местных новостях, подоспел Иннокентий. Он сам выпряг коня и вошел в дом с хомутом в руках.
– А, кум! Здорово!.. И крестник тут? – Иннокентий снял шубу, расцеловался с гостями, поздоровался с братом. – На круг прибыли?
Архип Мартынович мотнул головой:
– На круг.
– Говорят, большевики там поприжали вас, а? Сдрейфили вы... А теперь – всем хлопот.
– Смеху, кум, в этом мало, – мрачно заметил Архип Мартынович. – Они всю бедноту на ноги подняли.
– Ненажитое-то легко делить, – вздохнув, сказал хозяин и подал знак накрывать на стол.
Агаша – рослая смуглолицая девушка-казачка, батрачившая у Смолиных, – быстро расставила посуду. В комнате запахло жирным борщом.
– Хозяйка у меня расхворалась. Как бы не померла, – сказал Смолин, доставая из комода бутылку водки с белой головкой.
Иннокентий расправил рыжие усы, довольно крякнул:
– Значит, за здоровье Матрены Даниловны...
Недавно он по станичным делам ездил в Гродеково и теперь рассказывал о настроении в южных округах, сокрушался:
– Нет у казаков одного мнения. Вразброд идем.
– Стало быть, пути разные. Глаза тут закрывать нечего. – Архип Мартынович опасливо покосился на Агашу.
– Ты, девка, выдь пока. Нужна будешь – покличем, – распорядился хозяин.
Варсонофий с некоторым сожалением проводил взглядом красивую казачку. Он не совсем понимал намерения отца и довольно рассеянно прислушивался к разговору.
– Нужно свое войсковое правительство, свои порядки на казачьей земле. Хохлы нам не указ, – говорил Архип Мартынович. В глазах его светилась настороженная хитрость лисицы, видящей перед собой лакомый кусок.
Смолин улыбнулся в бороду, наполнил стопки, посоветовал:
– Войсковым атаманом надо избрать старшину Шестакова.
– Полковника Февралева, – сказал Иннокентий.
– Мендрина. Он профессор и с иностранными державами в ладах, – настаивал Архип Мартынович.
Рыжая с проседью большая борода Смолина затряслась.
– Эх, казаки, казаки! Трое между собой ладу не найдем. А ить свои.
– Сговоримся, кум. Не спеши, – заметил Архип Мартынович и прислушался к внезапному шуму и ругани на дворе.
Варсонофий поднялся со стула, поскрипывая сапогами, прошел к окну.
– Опять мой квартирант гуляет. Такой шалопут – сладу с ним нет, – сказал Смолин.
Варсонофия мало интересовал разговор стариков; он набросил шинель и вышел на улицу.
Возле калитки с конями в поводу стояли, вытянувшись во фронт, два рослых казака. Перед ними, подпрыгивая, как на шарнирах, металась невысокая фигура в мундирчике, казачьих шароварах с желтыми лампасами и сапогах-бутылках. Человек этот в ярости топтал ногами собственную шапку и на высоких визгливых нотах кричал:
– Молча-ать!
Казачьи кони, видно привыкшие к таким сценам, опустив головы, спокойно смотрели на беснующегося перед ними человека и, должно быть, удивлялись долготерпению своих хозяев.
Варсонофий молча прошел мимо. Но шагов через десять его остановил резкий, хрипловатый окрик:
– Хорунжий!
Казаки верхами уезжали прочь. Человек, распекавший их, держа шапку в руках, исподлобья, мрачным взглядом смотрел на Тебенькова, раздвинув широко ноги и слегка наклонив вперед голову.
– Есаул Калмыков, – буркнул он вместо приветствия, дыхнул винным перегаром и без всякого предисловия спросил: – Не одолжите десятку?
Варсонофий достал деньги.
Калмыков сгреб десятку лапой, с маху нахлобучил папаху на голову, еще раз царапнул по лицу Тебенькова неприветливым взглядом темных волчьих глаз и, высоко поднимая плечи, как цапля крылья, подпрыгивающей походкой пошел по двору.
Низкий лоб, черные жесткие волосы, тяжелая, немного отвисшая челюсть и угрюмый вороватый взгляд исподлобья – вот что запомнилось Варсонофию в Калмыкове.
В горнице Архип Мартынович рассказывал о своих злоключениях в городе:
– Большевики у меня вот где сидят... в печенках.
Смолин, задрав бороду, смотрел в потолок. Вдруг он свирепо грохнул по столу кулаком и матерно выругался:
– Эх, жизнь!..
Иннокентий воинственно топорщил усы, грозил:
– Доведут казаков до отчаянности, всех порубаем... Рука зудит.
В соседней комнате кашляла, задыхалась больная хозяйка.
...Войсковой круг открылся с опозданием на два дня. Два дня казацкие старшины сговаривались относительно общего кандидата на пост войскового атамана, но так и не могли столковаться. Наиболее вероятным кандидатом считался профессор-японист из Владивостока Мендрин. Затем как будто верх начали брать сторонники войскового старшины Шестакова. Но и февралевцы не сдавались. Ни одна из групп не могла рассчитывать на сколько-нибудь значительный перевес при голосовании.
Делегаты и на заседании круга уселись так, по группам: отдельно мендринцы, отдельно февралевцы. В тесном зале было жарко, дымно и шумно сверх всякой меры. Казаки громко переговаривались, курили, лузгали семечки, сплевывая шелуху под ноги на пол.
На возвышении впереди – отдельный стол, покрытый зеленым сукном, со стульями позади – это для председателя круга и секретаря. Другой такой же стол – для членов войскового правления.
Начальство в полной казачьей форме, сверкая желтыми лампасами, гурьбой вывалило из задней комнатки. В зале стихло. Делегаты из дальних станиц с любопытством глазели на правленцев, перешептывались.
Председатель круга – сотник с тремя Георгиями на груди и с бородой, достававшей до орденов, – размашистым крестом коснулся погон на плечах, густо откашлялся.
– С богом, станичники! Начнем...
Докладчик о политическом моменте – тоже сотник, но только лысый и бритый, в пенсне – патетически возвышая и понижая голос, скорбел о государственной разрухе, пугал пагубными последствиями большевистского сговора с немцами, призывал казаков-уссурийцев сплотиться вокруг войскового правительства и противостоять анархии. Он говорил, что казачество якобы искони питает отвращение к политическим партиям, не будет игрушкой в их руках, а, как всегда, явится надежной опорой властей предержащих.
– Заметьте, станичники, что предержащая власть теперь – Советы! – сказал в задних рядах чей-то насмешливый голос.
Докладчик запнулся, сбился, потерял нить рассуждений. Передние ряды зашумели, требуя призвать крикуна к порядку.
– Это Коренев однорукий из Хоперского. Скажи на милость, затесался-таки, – сказал Иннокентию Архип Мартынович.
Сотник на трибуне вспомнил Учредительное собрание, категорически высказался против переговоров о мире, поклялся в верности союзникам от имени всех казаков и сложил свои листочки.
На его месте уже мельтешила длинная, нескладная фигура в лихо сдвинутой набок фуражке с желтым околышем, с клоком рыжих волос, нависших над низким лбом. Оратор сразу понес такую околесицу, что председатель в досаде подергал себя за бороду и распорядился:
– Протрезвить!
Казака прямо с трибуны поволокли через запасной выход во двор остуживать снегом. Он упирался ногами, кричал в пьяном экстазе:
– Войсковому пр-равительству... ур-ра-а!
Архип Мартынович петушком проскочил вперед, подождал, пока унялся шум, посмотрел на ухмыляющиеся лица передних бородачей, подмигнул.
– Вот пьян казак, а что кричит?.. Ура войсковому правительству. Голос казачества, станичники, – и пошел хитрейший из станичных атаманов расписывать прелести свободной, независимой жизни казаков на казачьей земле под властью своего войскового правительства. Журчала быстрой говорливой струйкою его расчетливая, продуманная речь. Умел Архип Мартынович и польстить самолюбию зажиточного казака, и припугнуть его советскими порядками, и посулить ему златые горы и молочные реки с кисельными берегами.
– Молодец, кум! – орал с места Иннокентий и буйно топал ногами. – Вот кого надо в войсковое правительство.
– Кумовей? – опять спросил сзади Коренев и пошел вперед. В тесном проходе между скамьями он разминулся с Архипом Мартыновичем. Тот смерил его сердитым взглядом.
– Красиво тут расписал наше житье Тебеньков: рай земной, и умирать не надо, – с насмешкой начал Коренев. – Справный он казак. Хороший хозяин. У него и торговля, и мельница, и подряд большой. Может, сотни людей на него трудятся. Таких казаков у нас единицы. Им с их колокольни все прекрасно.
– А ты чего чужое добро считаешь?
– Считаю, – и моего пота там капля вложена, – спокойно возразил Коренев.
– Ограбить хочешь?
– Греха не будет.
– А свинцовую пульку едал?
– Я-то едал, – Коренев выразительно показал на свой пустой рукав, и голос у него зазвенел сталью. – Не пугайте меня. Я столько раз пуганый, что разучился пугаться. Тоже собрались ловкачи. Пьяный балбес кричит, а вы его голос хотите выдать за голос казачества. Казаку нужен мир. Казак ждет не дождется, когда избавится от самоуправства атаманов-мироедов. Все это ему дает Советская власть. А вы хотите столкнуть казака с нею. Да пошлет он вас к чертовой матери, плюнет и разотрет... Войсковая земля... правительство... Отрезанный ломоть от России, вот что значит ваша затея. Измена это.
Кто-то в зале взвизгнул:
– Большевистский агент!
Архип Мартынович тоже вскочил:
– Ты скажи... скажи, Коренев, сколько тебе заплачено?
– Да, должно быть, больше, чем ты своим батракам платишь, – с уничтожающим спокойствием ответил однорукий.
– Так, режь им правду-матку! – в общем шуме донеслось из зала, и Коренев улыбнулся, слыша чей-то дружеский голос на этом сборище.
Из-за стола старшин к нему подскочил толстомордый офицер, застучал шашкой в пол, свирепо заворочал глазами.
– Вон! Сию же минуту...
– Давай говорить спокойно. Не ори, – остановил его жестом Коренев.
– Убирайтесь! Или... вас растерзают.
– Ну, ну... полегче. – Коренев усмехнулся. – Или вы думаете, с вас за это не спросят?.. Я уйду – дольше тут оставаться не намерен. Мы, трудовые казаки, еще свое слово скажем. – И Коренев не торопясь, спокойно, будто и не слышал оскорбительных выкриков, свиста и гама, пошел к двери.
На китайской стороне за холмами догорала вечерняя заря; бледно-оранжевая полоска неба протянулась там вдоль границы. А вверху уже зажглись редкие первые звезды. И на станции тоже один за другим загорались желтые, красные и зеленые огоньки. Посвистывал и устало пыхтел маневровый паровоз.
3
На квартире Архипа Мартыновича дожидался Мавлютин. Прибыв поездом из Хабаровска, он успел переодеться из партикулярного платья в новенькую военную форму, сверкал погонами и, кажется, чувствовал себя великолепно. Полковник примирился с той ролью, какую отвел ему Хасимото, и был готов с присущей ему энергией взяться за дело.
– Слышал... слышал уже про вашу блестящую речь. Поздравляю! – такими словами полковник встретил чернинского делегата. – Так кого будем выдвигать на пост войскового атамана? Вы уж, конечно, надумали, Архип Мартынович?
Мавлютин спрашивал так, будто сам принадлежал к казачьему сословию. Тебеньков решил, что это неспроста.
– Разбиваются голоса, Всеволод Арсентьевич. Кто за Фому, кто за Ерему, – пожаловался он. – Мы уж прикидывали – нет ходу ни одному кандидату.
Мавлютин, прищурясь, посмотрел на Тебенькова, прищелкнул пальцами.
– Имеется простой выход из положения. Против всех трех кандидатов выставить четвертого.
– М-да... – Архип Мартынович быстро покосился на сына; тот подтверждающе кивнул головой. Вероятно, Варсонофий успел перекинуться с Мавлютиным словом-другим. И Архип Мартынович осторожно продолжал: – Выставить не штука: кого?
– Есаула Калмыкова, – сказал Мавлютин.
– Что, что? – Смолин даже подскочил. – Ведь он, прости господи, – недоносок. Хулиган... Я его с квартиры погнать хочу. А тут – в атаманы... Шутить изволите, ваше высокоблагородие. Не могу, извините, этого понять. Да у него и ума нет, одна нагайка в руках.
– Умом будет войсковое правление. А нагайка по нашему времени сгодится, – с циничной откровенностью ответил Мавлютин.
Тебеньков видел, что полковник не желает сразу раскрывать всех карт.