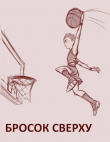Текст книги "На восходе солнца"
Автор книги: Н. Рогаль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
– А я всегда скажу одно: нет! – сердито отрезал Левченко. – Я не верю в ваш социалистический эксперимент! Я привык работать при старых порядках, когда чувствуешь себя в деле хозяином. Наконец, мне лично это более выгодно. Я, как видите, откровенен с вами.
– Ценю вашу откровенность. Но были ли вы в самом деле хозяином, независимым от прихотей капризной бабы – владелицы прииска? Мне кажется, нет.
Левченко нетерпеливо заворочался на стуле. Он заранее настроился так, чтобы отвергнуть все, что предложат ему.
– Слова, слова... Пока я вижу только разрушения, кровь, общие бедствия.
– А кровь, пролитая царем на Дворцовой площади и берегах Лены, на сопках Маньчжурии и полях Галиции, – эта кровь не тревожит вашу совесть? – подавшись вперед, спросил Михаил Юрьевич. – Общие бедствия?.. Совершенно верно. Но они – результат преступной политики правящих классов царской России. Только решительно порвав с нею, можно выйти из кризиса. Так зачем валить с больной головы на здоровую? Разруха!.. Рабочий класс напрягает все силы, чтобы преодолеть ее, наладить в стране нормальную жизнь, производство, товарооборот. Специалисты в это время открыто саботируют мероприятия Советской власти – и громче всех кричат о «разрушителях-большевиках». Да где же логика, господа интеллигенты? Наигранный пафос – ни тени порядочности, ни грана добросовестности...
Что-то мешало Левченко посмотреть прямо в глаза собеседнику. Алексей Никитич не соглашался с Потаповым, но в то же время слова этого человека тревожили его, поднимали в нем какие-то старые, забытые обиды.
Холодное солнце тускло просвечивало сквозь замерзшее окно. Сверху тонкой струйкой сыпался снег, должно быть, ветер сдувал его с крыши.
– Я никогда, слышите... никогда не соглашусь с вами! – с неожиданной запальчивостью выкрикнул Левченко.
– Мне жаль вас. Вы живете в такое интересное время и ничего не видите. К сожалению, слепого грамоте трудно учить, – с искренним огорчением заметил Потапов.
Он понимал, что разговор оказался безрезультатным.
Левченко грузно поднялся, бычась, сбоку поглядел на Потапова, отвесил молчаливый поклон.
Только на улице Алексею Никитичу пришли на ум те доводы, которые, как ему казалось, могли дать перевес в споре с Потаповым. И он продолжал мысленно этот спор с гораздо большим успехом для себя, чем прежде, пока не вошел во двор собственного дома и не увидел своего бывшего конюха Василия Ташлыкова. Он выводил из конюшни застоявшегося жеребца Нерона.
Василий был в коротком кавалерийском полушубке, в солдатской шапке. За спиной у него висел карабин.
Еще один солдат в шинели стоял посреди двора и держал в поводу двух коней: рослого дончака и серого орловского рысака, в котором Левченко без труда признал чукинского любимца.
Саша, идя через двор, нес на вытянутых перед собой руках черкесское седло с серебряными насечками и аккуратно сложенный конский потник. Отдал их Василию, что-то сказал, и оба засмеялись.
Не успел еще смех собственного сына отозваться последней болью у Алексея Никитича, как Василий, его товарищ и Саша двинулись к воротам.
Левченко, оказавшийся у них на пути, молча посторонился. Он не задал ни одного вопроса, не сказал ни слова. Стоял и мрачно глядел на них, почти ничего не видя.
Василий, проходя мимо с конем в поводу, как ни в чем не бывало поздоровался с ним. Левченко даже глазом не повел.
Саша, заметив отца, несколько поотстал. Закрыв ворота, он торопливо убежал в дом.
Алексею Никитичу казалось, что никогда еще никто не наносил ему такой кровной обиды. Пошатываясь, точно пьяный, взошел он на крыльцо, с силой захлопнул за собой дверь.
В кабинете он долго сидел с закрытыми глазами. Все рушилось, и он впервые почувствовал себя бессильным повлиять на события.
Соня сразу почувствовала настроение отца. В трудном положении оказалась она. Отец все чаще срывал на ней свою злость. Брат бурно протестовал против ее безропотной покорности и требовал, чтобы она была непримиримой и твердой. А Соне больше всего хотелось, чтобы в семье были и мир и покой.
Она сидела в своей маленькой комнатке с окном на реку и тревожно прислушивалась к шагам и покашливанию Алексея Никитича. С другой стороны, из Сашиной комнаты, доносилось скрипение стула.
«Ах, какая я несчастная! Была бы жива мама, разве бы так получилось? Ничего я не умею, – ни сладить, ни склеить», – горестно думала девушка, наивно объясняя нелады в семье своей неопытностью, не понимая, что причины куда более серьезны. Слезы туманили ей глаза.
Жила Соня, в сущности, одиноко. У нее не было близких подруг, кроме Кати Парицкой. Но склонности и вкусы последней она не могла разделять. Катя искала в жизни прежде всего развлечений. Ее представления о морали в нормах поведения в значительной мере исчерпывались фразой: «Я так хочу!» Взбалмошная, капризная и до крайности легкомысленная, подруга порою вызывала у Сони чувство открытого негодования, протеста. Они часто ссорились.
Когда-то Соня мечтала о настоящей большой дружбе с братом. Саша, будучи гимназистом, всегда посматривал на нее свысока, третируя, как глупую девчонку. У него были свои приятели, свои интересы. Потом он вздумал отправиться на фронт, уйти из дому тайком, так как не смел открыть свое намерение отцу и боялся слез матери. Из всей семьи Саша только ей доверил свою тайну. И она высоко ценила это доверие, ни словом не обмолвилась, пока шли розыски пропавшего Саши. Она страстно молилась за него и была невыразимо счастлива, когда он вернулся живым-здоровым.
Но странные сложились между ними отношения. Соня старалась создать брату необходимые удобства, комфорт, которого он был лишен так долго, стремилась угадать каждое его желание. Саша с благодарностью принимал ее заботы. В свою очередь, он не забывал о мелких знаках внимания: приносил шоколад, цветы. Но Соня видела также, что брата постоянно гнетут какие-то думы. Он становился все более раздражительным, угрюмым. Изменив прежние привычки, Саша то целыми днями безвыходно сидел в комнате и без конца курил, то, напротив, чуть свет отправлялся бродить без цели по окрестностям. Возвращался он в таких случаях поздно, бесконечно усталый и голодный, но все такой же мрачный. Соня как-то попыталась вызвать брата на откровенный разговор, чтобы узнать причину его дурного настроения. Саша взволнованно и горячо заговорил о вещах, в которых она так ничего толком и не поняла. Это рассердило его: он упрекнул сестру в черствости и равнодушии к людям. Соня заплакала. Повторные попытки объясниться также ни к чему не привели.
После смерти матери домашнее хозяйство целиком легло на плечи Сони. Алексей Никитич редко вмешивался в ее дела, определив только общую сумму ежемесячных расходов на стол и прочие надобности. В доме держали кухарку и конюха. Кроме того, со стороны приходили поломойка и прачка. После ухода Василия нового конюха еще не подыскали. Теперь Саша ежедневно по утрам сам колол дрова и носил их на кухню.
– Кажется, это единственное, что оправдывает мое пребывание в доме, – с грустной усмешкой сказал он как-то сестре.
Соня посмотрела на брата большими печальными глазами и ничего не ответила. В ее голове не укладывалась мысль о том, что родной дом может оказаться чужим. Почему? В силу каких причин?
Над этим она размышляла сейчас, сидя за вышивкой. Ее мало интересовало все происходящее за стенами их дома. Она довольствовалась тем, что усваивала и высказывала чужие банальные взгляды на события, не помышляя даже о том, чтобы составить свою собственную точку зрения.
В Сашиной комнате слышались голоса. Вероятно, к нему зашел кто-то из знакомых. Потом разговор за стеной оборвался, доносились только легкие и быстрые шаги брата. Внезапно Саша появился на пороге ее комнаты с газетой в руках, с расстегнутым воротом и пылающим взглядом.
– Ты представь только, что я сейчас узнал! Представь, – громко, негодующим голосом воскликнул он и шагнул в комнату, оставив дверь открытой. – Эти ограбления, эти убийства в гостинице «Париж», которые все тут приписывают милиции и Красной гвардии, они, оказываются, дело рук – кого бы ты думала? – господина Каурова и твоего любезного обожателя Варсонофия Тебенькова. А газеты кричат о злодействе красных. Нет, какая подлость! Какая низость! И оба они – свои люди в вашем доме... Убийца целует руки моей сестре и, вероятно, может рассчитывать на взаимность... Я уже что-то слышал о ваших отношениях. Что ж, продолжай! Он нисколько не хуже всех других в этом доме...
Скрестив на груди руки, Саша уничтожающе посмотрел на сестру.
Соня, готовая разрыдаться, глядела на него, ничего не понимая, чувствуя, что брат незаслуженно и больно оскорбляет ее.
– Саша, уверяю тебя: все ложь! Не верь! – Она приложила обе руки к груди.
– А мы тут все говорим о гуманности, культуре. Рассуждаем о судьбах России. Собираемся что-то спасать. Хороши, однако, спасители! – саркастически продолжал Саша. – И твой разлюбезный Варсонофий хорош! Ходит франтом: сапоги рантом. А внутри что – торичеллиева пустота. Как ты этого не видишь?
Соня удивленно посмотрела на него, рассердилась и, закрыв лицо руками, вдруг заплакала.
Саше стало совестно и больно. «Зачем я оскорбил ее?» – подумал он. Но злые, несправедливые слова продолжали срываться с языка.
– Ну зачем ты меня мучаешь? Зачем? – воскликнула Соня, со страдальческим выражением лица посмотрев на него. Слезы катились по ее щекам.
– Прости, сестренка! Извини меня, пожалуйста, – Спохватился Саша и стал нежно гладить ее руки. – Ты хорошая, чистая, только... слепая. Может, и лучше, что ты не замечаешь окружающей грязи. Но ведь рядом течет другая жизнь. Рядом ходят настоящие люди. По крайней мере они чисты в своих побуждениях. Эх, Соня, если бы ты знала... Как мне тошно и душно в этом доме!
– Вот как! Так за чем же дело стало? Я тебя не держу. Иди! – угрюмым, надтреснутым голосом сказал Алексей Никитич: привлеченный громким разговором, он уже несколько минут, никем не замеченный, с мрачным видом стоял в дверях.
– Отец, что ты говоришь! – вскричала Соня.
– Оставь, сестренка. Я уже не маленький. – Саша отстранил ее, шагнул вперед и тихо спросил: – Хочешь поторопить события, отец?
Спокойный тон вопроса удивительно отрезвляюще подействовал на Алексея Никитича. Он собирался грозно крикнуть сыну: «Вон!» – и тут же указать на дверь. Но, взглянув в решительные глаза Саши, Левченко поспешно отвернулся. Переступив в замешательстве с ноги на ногу, он ушел к себе в кабинет и надолго закрылся там.
Саша постоял возле окна, машинально водя пальцем по стеклу.
Мороз крепчал; окна затянуло тонкими ледяными узорами, похожими на листья папоротника.
На улице падал снег. Из-за него казалось, что мир, видимый из окна, кончался через две улицы.
Соня вытерла платочком глаза, посмотрела в зеркало.
– Так-то мы встречаем Новый год, – вздохнув, сказала она. – Ты пойдешь к Парицким? Звали.
– Никуда мне не хочется идти, – откровенно признался Саша. – Впрочем, если ты так желаешь... Только не суди меня строго: я сегодня напьюсь.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
В просторном особняке Парицкой, отгороженном от улицы высоким забором, поселились смятение и страх. Они растеклись по комнатам, и каждый из обитателей дома не раз ощущал на себе их леденящее дыхание.
Встреча Нового года, вопреки обычаю, проходила менее шумно и за закрытыми шторами окнами.
Гостей ждали к одиннадцати. Юлия Борисовна обещала приятный сюрприз – знакомство с петроградской знаменитостью.
Белели тонкие скатерти, сверкали хрусталь и серебро, искрилось вино в графинах. Весь громадный стол был заставлен яствами.
Хозяйка была одета в длинное темно-зеленое платье из тяжелого шелка, с буфами на плечах и высоким, наглухо застегнутым воротом.
Катя в соседней комнате осматривала себя в зеркало, вертелась перед ним так и этак, любовалась и новым платьем и собой.
Из кабинета через открытую дверь за нею с усмешкой наблюдал Джекобс – единственный мужчина, оставшийся в квартире после отъезда Перкинса во Владивосток для встречи с Колдуэллом – консулом Соединенных Штатов.
По случаю праздника журналист приоделся. На нем был щегольской коричневый костюм в полоску, жилет и галстук бабочкой.
Джекобс никогда не стеснял себя в отношениях с женщинами. Отчего не поволочиться и за хозяйской дочерью? Он поглядел опять на Катю, подивился ее плоской фигуре и усиленно задымил сигарой.
В передней послышались голоса. Пришли лесозаводчик Бурмин и его жена – черная, худощавая женщина в узком платье со шлейфом.
Юлия Борисовна кинулась к ней, клюнула носом в щеку, и обе затараторили без умолку.
Катя завела граммофон. Он пошипел, пошипел и рявкнул неимоверно густым басом: «Вдоль по Питерской!» Катя отпрянула, будто испугалась, и побежала по внутренней лестнице вниз за Соней Левченко.
Когда она вернулась, в квартире уже было полно гостей. Во всех комнатах жужжали голоса.
– Обожаю английский обычай: сходиться всем сразу, а уходить не докладываясь, – говорила Юлия Борисовна. И тут же повернулась к вошедшему Чукину. – Как живется, Матвей Гаврилович?
– Вашими молитвами, матушка. – Чукин тоненько засмеялся, подмигнул одним глазом пробегавшей мимо Кате, высунул для чего-то язык и продолжал неопределенно: – Живу... А где же ваша знаменитость? Хоть посмотреть.
– Будет, будет, – сказала Парицкая не совсем уверенно.
Чукин теперь чаще отдавался чувству мрачной безнадежности, взгляд у него стал бегающий, волчий. Хотелось услышать что-нибудь утешительное. Что скажет петербургский гость?
Неожиданно в гостиной появился незваный, но приятный всем гость – благовещенский золотопромышленник и пароходовладелец Зотов. Он ловко протиснул в дверь свое неимоверно расплывшееся тело, засиял улыбкой и лысиной.
Зотов приехал на несколько дней, чтобы ориентироваться в обстановке. Хотел прикинуть, как последние события отразятся на его торговых и посреднических операциях. В отличие от Чукина и Бурмина Зотов был настроен оптимистически.
– Ты так живи: сделал на грош, шуми на рубль. Люди шум любят, – поучал он Чукина, когда тот стал жаловаться на жизнь. – Кто такой капиталист? Благодетель народу своему. Вот соответственно и держись. Да привечай людей, которые за твои же деньги разводят турусы на колесах. Это расход оправданный.
Было видно, что революция по-настоящему еще не задела Зотова, только напугала.
Семеня короткими ножками, он передвигался от одной группы к другой, слушал, присматривался, вертел головой.
Жена Бурмина скрипучим голосом тянула, закатывая вверх глаза:
– Государь-император... в Тобольске... дрова пилит... Да, да, да!.. Ужас!..
– А большевики в Бресте договариваются с немцами. С немцами, а?.. Совет Антанты никогда этого не потерпит, – вторил хриплым голосом ее супруг и жадно хватал толстыми пальцами воздух перед собой.
Мрачный Левченко с усталым лицом и воспаленными глазами неподвижно сидел на диване в кабинете и молча слушал рассуждения Судакова об Учредительном собрании и его исторической роли.
Чукин тоже слушал, приложив ладонь лодочкой к уху, согласно кивал головой.
– Да, да. Учредительное собрание... У меня сегодня серого рысака увели. Реквизировали для конного отряда Красной гвардии.
– На Дону – Каледин, в Оренбурге – Дутов... Собираются силы, а?
Джекобс, вступив в разговор, развивал тему о независимой Сибири. Он хвалил Джона Стивенса и его опыт по строительству Панамского канала. Рекомендовал следить за событиями в Омске.
Чукин блеснул глазами, захохотал:
– Лежит каравай – хватай, не зевай!
«Очи черные, очи жгучие...» – неслось из граммофонной трубы в гостиной.
Явился Варсонофий Тебеньков, щелкнул каблуками, раскланялся с мужчинами, поцеловал руки женщинам.
Саша, одетый в темно-синюю венгерку с черными шнурами, стоял у стены, глядел исподлобья. Варсонофий разлетелся к нему с протянутой рукой.
– Я вам руки не подам! – громко сказал Саша, пряча руку за спину.
Соня взглядом умоляла его не поднимать публичного скандала.
– Ах, молодые люди, вечно вы петушитесь! – с гримасой неудовольствия сказала Юлия Борисовна. – Катя, займи, пожалуйста, господина Левченко.
И противники разошлись в разные стороны. Варсонофий, пожав плечами, присоединился к кружку возле Джекобса. Катя, взяв Сашу под руку, направилась с ним по анфиладе комнат смотреть выставленные картины. Катя сообщила, что они приобрели несколько новых полотен.
Картины оказались малоинтересной мазней. Саша не разделял восторгов тех, кто превозносил «новое» направление в искусстве. Он равнодушно скользил взглядом по полотнам, нисколько не тронутый ни их мрачным колоритом, ни пестротой красок. Все было бесконечно далеко от натуры.
– Очень пикантно. Не правда ли? – спросила Катя, обеспокоенная его молчанием.
– Надо посмотреть при дневном освещении, – уклонился он и прошел в соседнюю комнату.
Здесь было несколько акварелей. На одной изображен осенний пейзаж: группа кленов с падающими багряными листьями, ветер, рваные клочковатые облака и высоко в небе потянувшийся к югу журавлиный клин. Картина вызывала определенное настроение, чувствовалась рука мастера.
– Это чья же кисть? – спросил Саша, тщетно пытаясь разобрать подпись.
– Вам нравится? – Катя скользнула по акварели равнодушным взглядом. – Мама купила по случаю, очень дешево. Вы знаете, ее многие хвалят. Надо будет подобрать раму посолиднев, – озабоченно заметила она.
Гости усаживались за стол.
– Возблагодарим господа-а и помянем год отошедший, како положено-о! – сиплым баском провозгласил находившийся среди них священник и пальцами мелким крестом осенил скатерть перед собой.
– Ах, отче! Да за что его поминать? Отошел – и пес с ним, – сказал Чукин. – Не дай бог в другой раз такое сальдо.
– Положено, сын мой. Положено, – пробасил батюшка и первым потянулся к графинчику.
Все благопристойно засмеялись, зазвенели рюмками. В эту минуту и вошел пожилой человек в дымчатых очках. Кивнул небрежно головой, приветствуя всех сразу, пробормотал:
– С наступающим, господа! – и сел рядом с Юлией Борисовной.
– Наш гость – петроградский профессор, светило науки, – торжественно сказала Парицкая. Она посмотрела на него тем же оценивающим взглядом, что и на стол до этого. – Возьмите маринованных грибков, профессор. Это от Елисеева...
Алексей Никитич покосился на столичного гостя, осторожно осведомился:
– Не имел чести встречаться. Вы, собственно, в какой области работаете?
– Я – астролог, – сказало светило науки, с хрустом пожирая грибки и до обидного мало уделяя внимания людям, сидевшим за столом.
– Н-да... – Левченко засопел носом, еще раз взглянул на гостя, как смотрят на диковинного зверя, и, потеряв к нему всякий интерес, занялся едой.
– А чем же занимается астролог? – поинтересовалась жена Бурмина.
– Предсказанием судеб народов и государств, сударыня. На основе последних данных науки, – с важностью изрекло светило.
– Ах, как интересно! – воскликнула Катя.
Астролог сверкал нанизанными на пальцы массивными перстнями, блестел голым, начисто выбритым черепом.
– Господа, я только что закончил составление политического гороскопа 1918 года. Это причина моего опоздания, сударыня, – и он слегка поклонился хозяйке.
Послышались возгласы приятного удивления.
– Что же нас ждет в наступающем году? – спросил Бурмин.
– Шарлатанство! – сказал одновременно Алексей Никитич.
Астролог поверх очков строго посмотрел на него, пожевал губами.
– Видите ли, господа. Современная наука астрология зиждется на прочих основах физических знаний... – нудным голосом школьного педанта он заговорил о связи между появлением пятен на солнце и периодическим усилением электромагнитных возмущений в земной атмосфере. – Не влияет ли та же периодическая волна тепловой и электрической энергии на тонкий организм человека, на его нервную систему и мозговую деятельность? Не отражается ли биение солнечного пульса на пульсе общественной и политической жизни? – вопрошал астролог, задумчиво рассматривая сквозь дымчатые очки голые плечи Кати Парицкой. И, ссылаясь на ученого аббата Морэ, он утверждал, что это именно так. – Астрология, господа, способна указывать правительствам и рулевым государств опасные мели и пучины.
– Это не ново – философский плагиат... у древних египтян, – с презрением посмотрев на светило двадцатого века, заметил Левченко. – Попятный ход на сорок веков. Поздравляю, господа.
– Нет, батенька мой, я не согласен! Новейшая философия вполне допускает возможность такого экстравагантного толкования данных космогонии, – тотчас вступился за астролога просвещенный заводчик Бурмин. – Один факт, что астрология продержалась пять тысячелетий, говорит за себя. Имеется, следовательно, в ней рациональное зерно-о. Кто в наше время вздумал бы добывать огонь посредством трения?
– Чушь будет держаться, пока живут дураки, желающие ей верить, – отрубил Левченко, поглядел на астролога и добавил едко: – И шарлатаны, зарабатывающие на этом.
– Господа, пожалуйста, без личных выпадов. В конце концов свободная борьба мнений двигает прогресс. Наука начинается всегда с предположений, с гипотез, – примиряющим топом сказал Судаков. – Наш уважаемый коллега... Гм... профессор... дал оригинальное изложение взглядов противоположного нам философского направления. М-да!.. Он предпринял заслуживающую внимания попытку... гм! гм!.. попытку перебросить мостик через вековую пропасть, разделяющую искони идеализм и материализм.
– Все в руце божьей! Мир – его творение, – громыхнул несообразно объему комнаты подвыпивший священнослужитель.
– А я не отрицаю, батюшка, воли всевышнего. Не отрицаю, – сказал астролог. – Дело в том, чтобы уловить законы ее проявления... чрез изучение законов мироздания.
Стук ножей и вилок не мешал разговору. Астролог продолжал редко цедить слова, успевая в промежутках выпивать и закусывать.
– Годы минимума солнечной энергии совпадают с годами всемирных выставок. С усилением солнечной активности... человечеством овладевает лихорадка – рождаются обострения, возникают войны. Ветер безумия охватывает
«Какая несусветная чепуха!.. И это у нас именуется наукой? – с горечью и раздражением думал Алексей Никитич. Неожиданно для себя он взглянул на сидящих за столом хорошо знакомых людей с другой стороны и увидел их совсем не такими, какими они представлялись ему прежде. – Н-да... И я – инженер, человек, уважающий русскую науку, ученик Менделеева... Я сижу рядом с этим... профессором черт знает чего! – Левченко выругался про себя, вспомнил почему-то Потапова, усмехнулся. – Если бы он только знал...»
Ему стало стыдно за себя, стыдно за то, что он привел сюда своих детей. Он осторожно скосил глаза и посмотрел на другой конец стола. Саша насмешливо улыбался, глядя на астролога. Соня шепталась с соседями, и, видимо, активность солнечных пятен мало задевала ее. Зато жена Бурмина, вытягивая длинную шею, с молитвенным экстазом взирала на дымчатые очки.
Катя Парицкая со смелым любопытством глядела на астролога, вызывающе поводя плечиками, и с некоторым разочарованием думала о том, что и на солнце оказались пятна. Вот уж не замечала! Вероятно, этот господин для того и носит дымчатые очки.
Астролог взглянул на большие стенные часы, показывавшие без двух минут двенадцать, вскочил с живостью, какую трудно было предположить в нем, поднял палец, призывая к молчанию.
– Итак, господа. Сейчас пробьют часы. Магическая стрелка времени пойдет на новый круг. Я объявляю результаты моих вычислений, – непререкаемым тоном пророка произнес он. – Поскольку максимум солнечной активности уже позади... Политический гороскоп ближайшего года таков: падение активности человеческих масс. Уклон народов к успокоению и миру во внутренних и внешних отношениях.
– Да будет так! – воскликнул Чукин и чокнулся с астрологом.
Все держали бокалы, ожидая боя часов.
Вдруг громкий хохот Саши нарушил торжественную тишину.
– Часы-то... остановились! Стоят, – восклицал он в веселом исступлении. – Новый год пришел... без нас. Не доложился... Поздравляю! – Он залпом выпил свой бокал и сразу налил еще. – Пейте, что же вы!
Мужчины с кислыми физиономиями вытаскивали часы, хлопали крышками.
– Говорила я тебе, Катя: проследи, чтоб завели часы, – строго выговаривала дочери Юлия Борисовна.
Гости разбились на группы. Лица раскраснелись, глаза заблестели, жесты стали свободнее.
– Скучно в нашем городе. Удивительно тоскливый пейзаж. Нет здесь культурных развлечениев, – жаловался девушкам Варсонофий Тебеньков, норовя под столом коснуться коленом ноги Кати Парицкой.
– Развлечений, – поправила Соня и улыбнулась, вспомнив, какую характеристику Тебенькову дал недавно Саша.
Алексей Никитич медленно потягивал вино из бокала. Да, многое теперь стало иным, и надо было как-то приспосабливаться к изменившейся обстановке. Он вспомнил предложение, сделанное ему Потаповым. Нет, ни за что! С другой стороны, он критически взглянул не только на Парицкую, но и на Бурмина – человека в общем неглупого. Что же говорить об остальных?
Вот Зотов – авантюрист, каких свет мало видывал. Он чувствует себя тут в своей компании. Хлещет водку, шумит. О чем это он шепчется с Чукиным?
«Погоди, придет и твой черед», – подумал он мстительно о Зотове. С преуспевающим амурским золотопромышленником у Алексея Никитича были старые счеты.
Саша, слегка покачиваясь, стоял за стулом Судакова и слушал разговор попа с астрологом.
Что-то из сказанного показалось Саше обидным. Он запальчиво вмешался в разговор и сразу же наговорил дерзостей. Отрезвил его вопрос Судакова:
– Вы что же, молодой человек, скандала хотите?
– Н-нет. Извините меня, пожалуйста, – пробормотал
Саша и отошел.
Где-то за окном неожиданно хлопнул выстрел. Рассыпалась частой дробью стрельба. Запоздало бухнул вдогонку еще раз кто-то, и все стихло. Далекие выстрелы похожи на негромкие хлопки.
– Что это, господа? – спросила Парицкая.
– Шампанское на улице откупоривают, – бравируя спокойствием, сказал Тебеньков. Однако сам заметно побледнел.
Саша уже совсем трезвым взглядом зорко посмотрел на него.
Минут через двадцать пять проскакала куда-то пожарная команда. Тревожно и часто звонил колокол.
– Го-орит! – сказал Бурмин.
Кто-то вышел посмотреть.
– Да-алеко...
Звон посуды, смех, голоса отвлекли Сашу от его дум.
За столом теперь все говорили сразу, и отдельных голосов уже нельзя было понять. «Эх, деятели», – с брезгливой гримасой подумал Алексей Никитич.
Он вышел в кабинет покурить. Тотчас за ним отправился и Джекобс.
– В Штатах такой человек мог бы делать хороший бизнес, – закурив, сказал он об астрологе.
Алексей Никитич усмехнулся. Проследил, как растекался по углам табачный дым.
Джекобс осторожно стал расспрашивать о положении дел в золотодобывающей промышленности. Его интересовали условия добычи металла и возможности механизации приисков. Между прочим поинтересовался он и прииском Незаметным.
Алексей Никитич, когда Джекобс заговорил о Незаметном, насторожился. Он ревниво относился ко всему, что было связано с прииском.
– Вы хорошо знаете край, – говорил Джекобс. – Такие люди высоко ценятся...
Тут они посмотрели друг на друга, и Алексей Никитич понял, ради чего затеян этот разговор.
А Джекобс уже распространялся об американских методах добычи золота, о наличии в Штатах свободных капиталов, ждущих применения.
Левченко поднялся.
– Знаете, пока доберешься до настоящей жилы, приходится не раз бить шурфы впустую. Уж я горное дело досконально изучил, можете мне поверить, – сказал он и ушел к себе вниз, предоставив Джекобсу разгадывать смысл его слов.
С черного хода кто-то постучал. Юлия Борисовна вышла, тотчас вернулась и пальцем поманила Тебенькова.
В темном коридорчике, что вел на лестницу, стоял Кауров в низко надвинутой папахе. Он с трудом переводил дыхание, лицо у него кривилось.
– Черт! Застукали нас сегодня. Двоих, кажется, потеряли. Перестрелка была.
Варсонофий кивнул головой:
– Я слышал.
Кауров пошарил сзади рукой, негромко ругнулся:
– Тысяча чертей! Лез через забор... напоролся на гвоздь. Всю штанину распахал... Ты меня тут устрой на день-два. Сможешь?
В комнате, которую ему отвела хозяйка, Кауров стягивал сапог, морщился.
– Устроили фейерверк... Зарево на полнеба. Чертовски меня жажда мучит. Тащи сюда, Варсонофий, коньяку и побольше!
2
Горело недалеко от дома Савчука. Вверху над темным обрывом поднималось трепещущее бледное зарево. Кто-то под окнами суматошно кричал:
– По-ожа-ар!
Савчук лежал в постели, но еще не успел заснуть. Не зажигая света, он прямо на белье накинул шинель и выскочил во двор.
По черному небу летели золотые искры. На фоне разгорающегося пожара рельефно выделялись крыши ближних домов.
– Что горит?
– Скла-ад, – ответили с улицы, сразу наполнившейся бегущими людьми.
– Багры захватывай!.. Ведра-а...
Савчук грохнул кулаком в соседнюю дверь:
– Петров, живо! Склады спасать.
Ахнула позади Федосья Карповна.
Пока мать трясущимися руками зажигала лампу, Савчук успел натянуть брюки, обуться в валенки.
– Ты сапоги обуй. Сапоги. По головешкам придется ходить, – посоветовала Федосья Карповна.
Дарья выбежала одновременно с Савчуком, загремела в дверях ведрами.
– Моего дома нету. Как с вечера ушел, так и гуляет... Беда какая! Склад, а? – говорила она, поспешая за Савчуком, оступаясь на крутой и скользкой тропе.
Поднявшись на гору, они сразу увидели горящее строение. Огонь длинными желтыми языками лизал выходящую на улицу переднюю стену мучного лабаза. Он уже вскарабкался на тесовую крышу и быстро разбегался по той стороне ее, с которой ветром посдувало снег.
Возле огня суетились люди: подскакивали, плескали на стену водой из ведер, отходили, уступая место другим.
Метель к этому времени прекратилась, но ветер дул с прежней силой.
– Ой, бежим! – крикнула Дарья и бросилась вперед.
Савчук сразу понял, что склад отстоять не удастся. Огонь охватил как раз ту стену, в которой была прорублена единственная дверь. Толстые лиственничные бревна, высушенные солнцем и ветрами, успели разгореться так, что за десять шагов чувствовался нестерпимый жар.
Воду подносили ведрами с противоположной стороны улицы. Огонь, когда на него брызгали водой, шипел, сердито пофыркивал и тут же с веселым треском опять набрасывался на стену, будто насмехался над тщетными усилиями людей.
По толпе ходило страшное слово:
– Поджо-ог!
– Да у кого ж это руки поднялись?
Какая-то разбитная бабенка бегала от одной кучки зевак к другой, захлебываясь словами, торопливо рассказывала, как поджигатели придушили сторожа и облили стену керосином. Да на них в момент поджога наскочил милицейский патруль и будто всех перебил.
– Туда им и дорога, – сурово говорили в толпе.
Савчук допытывался:
– Муки в складе много?