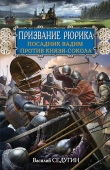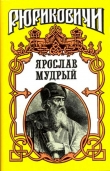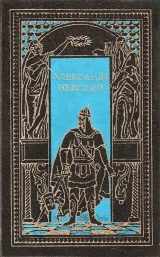
Текст книги "Александр Невский. Сборник"
Автор книги: Н. Чмырев
Соавторы: Францишек Равита,В. Кельсиев,Л. Волков,В. Клепиков,Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
ГЛАВА XVIII
Со времени вокняжения Св. Александра во Владимире начинается его тесная и до конца жизни длившаяся дружба с митрополитом Кириллом.
При той близости государственной власти к Церкви, которая была в Древней Руси, личность духовного отца и советчика князя становится особенно значительной. Часто причину многих поступков и государственных решений князей нужно искать именно в личности их духовных руководителей. Почти все исторические события Руси связаны с именами подвижников, святителей и отшельников, своими указаниями и советами направлявших князей. Но эта духовная связь была особенно крепка между князем и епископом его города, если они оба были на высоте своих служений и не расходились из-за честолюбия или разногласий.
В первые годы княжения Св. Александра в Новгороде его духовным руководителем был архиепископ Спиридон. Он благословлял его на Невскую и Чудскую битвы. Но на самый решительный шаг – поездку в Орду – он испрашивал уже благословение митрополита Кирилла. С этих пор жизнь митрополита тесно сплетается с жизненным путём Св. Александра и всей его семьи. В 1250 году Кирилл венчал великого князя Андрея во Владимире и сажал его на великокняжеский престол. В 1255 году хоронил Константина – второго брата Св. Александра; в 1263 году похоронил самого Св. Александра.
Одно обстоятельство делает отношения Св. Александра и митрополита Кирилла ещё более значительными.
Св. Александр был одиноким в своём историческом пути. Нет ни одного указания на человека, близко стоявшего к нему и всецело понимавшего его поступки. Наоборот, все сведения говорят о непонимании и прямом противодействии. Против него восставали даже родные братья и сын. Св. Александр пользовался любовью народа, бояр и дружины. Об этом свидетельствует описание великого горя всей земли при его кончине. Но эта любовь ещё не означает понимания. Это была любовь интуитивная, высокая оценка его дела по плодам. Но в минуты решения он всегда был одиноким. И проводил свои решения против воли большинства, при скрытом, а иногда и явном противодействии.
Митрополит Кирилл был единственным человеком, о котором достоверно известно, что он понимал и поддерживал Св. Александра в его государственном служении. Об этом говорит и благословение, данное на поездку к Батыю, и постоянная близость к Св. Александру, и слова самого Св. Александра по возвращении из Новгорода, после принудительной татарской переписи, и отношение Кирилла к ханам, всецело совпадающее с политикой Св. Александра.
Всё это выделяет митрополита Кирилла из среды его современников, соединяет со Св. Александром и ставит их рядом, над всеми современниками.
Ни происхождение Кирилла, ни его молодость, ни пострижение, ни первые монашеские годы неизвестны. Известно лишь, что он был русским, а не греком. По-видимому, он родился на юге. В 1243 году он уже носил сан митрополита Киевского и жил в Галиче. Когда в 1246 году князь Даниил Галицкий вернулся из Орды с ярлыком на княжество, он послал Кирилла в Византию к Патриарху для утверждения в митрополичьем сане. По пути в Константинополь Кирилл остановился в Венгрии и по поручению короля Белы вернулся назад в Галич, чтобы передать предложение короля выдать свою дочь за Льва – сына Даниила Галицкого. Предложение это было принято. Кирилл совершил венчание и потом снова отправился в Грецию. Патриарх Мануил II утвердил его в сан митрополита киевского, и Кирилл вернулся на Русь.
Приехав в Киев, он застал его в развалинах. Киево-Печерская Лавра была пуста. Жители городов разбежались. Разорённая и выжженная Киевская Русь, лежавшая на границе степей, постоянно подвергалась новым набегам. Все татарские орды, которые посылались время от времени ханами для покорения Европы, проходили через Киевскую Русь, и их мирные привалы разоряли уцелевшие селения и города не менее, чем завоевания.
Митрополит Кирилл начал усердные труды по восстановлению церковной жизни. Он совершал большие поездки по всей митрополии. Так, в 1250 году он поехал из Киева в Чернигов, Рязань и Суздаль. Это посещение Северной Руси решило его дальнейшую жизнь.
После смерти епископа Митрофана, сгоревшего при взятии города татарами, Владимирская епархия оставалась незамещённой и ею управлял из Ростова соседний ростовский епископ. Приехав во Владимир, митрополит Кирилл остановился там. Сначала это было временной остановкой на пути. Потом он постоянно поселился во Владимире.
Оставаясь митрополитом киевским, он стал из Владимира управлять своей митрополией. Его заботы сосредоточились, главным образом, на Владимирской епархии. Из Владимира он продолжал свои поездки по Руси. Так, он ездил в Киев и в Новгород – в 1251 году, когда там ещё княжил Св. Александр Невский.
Труды митрополита Кирилла прежде всего были направлены на воссоздание церковного управления, разрушенного вместе с городами. Приехав во Владимир, он застал запустение. Большинство церквей было разрушено. Епископы не объезжали своих епархий и не пытались поучать паству. Среди духовенства распространялось святокупство. Полуграмотные, а то и совсем неграмотные священники извращали древний чин богослужения. Сами невежественные, они не только не исправляли невежество паствы, но часто ещё более его укрепляли. Христианство, недавно пришедшее на север, не уничтожило язычества. Оно во многом слилось с ним. Поэтому в жизнь и в вероучение вошло много языческих верований. Возникло то затейливое сочетание суеверия с верой, которое веками продолжало жить в Северной Руси. Внешние судьбы России менялись, глубоко менялся её облик, а это доверие оставалось прежним. Св. Димитрий Ростовский, придя на Ростовскую митрополию через четыре с половиной века после митрополита Кирилла, застал ту же картину. И его борьба с темнотой и суеверием была такой же, как и борьба Кирилла.
По словам летописи, Кирилл «по обычаю своему учаше, наказуяше, исправляше». Постоянно объезжая епархии, он пытался исправлять и духовенство и паству. Особенно заботился о просвещении духовенств и искоренении двоеверия; обличал святокупство и нечестивую жизнь. Сам совершая объезды, заставлял епископов следить за своими епархиями. Кроме того, он неотступно заботился о внешнем благосостоянии Церкви, восстанавливая, созидая храмы и вводя благолепный церковный чин.
Его деятельность не ограничивалась пределами Руси. Неизвестно, ездил ли он сам в Орду, но, во всяком случае, он два раза посылал туда ростовского епископа по имени тоже Кирилл. Христианство, главным образом несторианство, было известно ханам и не вызывало к себе враждебного отношения. Мать хагана Менгу была христианкой. Много было христиан и среди приближённых хана. Есть сведения, правда непроверенные, что сам хаган Гаюк умер христианином. Большинство татар, однако, оставалось верными своей религии, а впоследствии в большинстве своём приняло Ислам, пафос которого был наиболее близок воинственному духу татарского царства. Часто именно отсутствие фанатизма и веротерпимость, побуждавшая видеть частичную истину во всякой религии, препятствовали перемене веры. Так, хаган Менгу отвечал Рубриквису, убеждавшему его принять христианство: «Мы, монголы, веруем, что есть только один Бог; но, как рукам Он дал много пальцев, так и людям назначил многие пути в рай. Вам, христианам, он даровал Священное Писание, но вы его не соблюдаете; а нам дал волхвов, мы их слушаемся и живём в мире».
Пользуясь веротерпимостью Менгу, митрополиту Кириллу удалось добиться от него ярлыка, которым русской Церкви давались особые права и льготы. Так, при всеобщем обложении данью духовенство и монастыри были от неё избавлены.
Одним из главных дел митрополита было учреждение в 1261 году отдельной епархии в Сарае для русских пленных, находившихся в Орде.
Таким образом, не только во внутреннем управлении Суздальской Русью, но и во внешних делах по сношению с ханами, защите Церкви и учреждению епархии в Орде дело митрополита Кирилла всецело совпадало с делом Св. Александра. И как государственная политика Св. Александра сделалась основоположной для его наследников, так и начатая митрополитом Кириллом церковная политика по отношению к татарам была воспринята всеми его преемниками на Владимирской, а потом и Московской митрополиях.
ГЛАВА XIX
Мирная деятельность Св. Александра по воссозданию Русской земли заполняет всё его десятилетнее княжение во Владимире. Это было его повседневным трудом, подробности которого теперь уже неизвестны. Но на этом фоне встают его внешние действия, его походы и поездки в Орду, его политические отношения с Западом и с Востоком, целью которых было оградить Русскую землю и сделать возможным этот мирный труд воссоздания и укрепления страны.
Неудача шведов и меченосцев, нападение которых было сломлено Новгородом, не приостановило попыток католичества распространить свою власть на православный Восток. Нашествие татар и разорение Руси, казалось, облегчали эту задачу. В руках у папы был светский меч – его власть и влияние на королей и рыцарство. Обещанием крестового похода на татар Рим думал купить согласие русских князей на унию и признание власти папы.
В 1246 году папа Иннокентий IV отправил два посольства: на юг и на север Руси – к Даниилу в Галич и Св. Александру в Новгород. Ко времени прибытия посольства Св. Александр уже уехал в Орду. Папские послы застали его уже во Владимире в 1251 году.
Отношение к этим посольствам и к привезённой ими булле совершенно различно в Галиче и во Владимире. Это различие коренится в противоположности облика Даниила и Св. Александра и в глубоком отличии Южной и Северной Руси.
Даниил благосклонно принял предложение папы. Галич, стоявший на окраине Руси и находившийся в постоянном общении с Венгрией, Австрией и Польшей, во многом приближался к Западу. В его столкновениях с ним не было того коренного различия двух миров, как в противостоянии новгородских окраинных крепостей и ливонских замков на берегах Балтики. В самом Данииле Галицком – талантливом и честолюбивом – было уже много от средневекового рыцарства. В нём было сильно стремление к земному государству и к собственному могуществу и власти, то, что Преп. Кирилл называл «возвышением верменною славою к суетному шатанию». Сила и утверждение самоценности государства были в Галиче сильнее, чем в какой-либо другой области Древней Руси. «Слово о полку Игореве» обращалось ещё к деду Даниила – Ярославу Галицкому со словами: «Высоко сидиши на своём златокованном столе, подпёрт горы Угорскии своими железными полки, заступив королевичи путь, затвори Дунаю ворота, меча бремени через облакы, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землям текут, отворявши Кыеву врата, стрелявши с отня златна стола салтаны за землями». Стремление к возвращению могущества деда не оставляло Даниила. Иноземное влекло его к себе. Подчинение татарским ханам и зависимость от степных варваров-азиатов было ему невыносимо, «злее зла честь татарская». Мысль о борьбе с татарами не оставляла его. Вся его деятельность была подготовлением восстания. Так, он сносился со своим зятем Андреем Владимирским, подготовляя совместное выступление. Нашествие Неврюя и бегство Андрея за море лишили его союзника. Видя свою слабость, он искал сильных союзников и готов был купить помощь. Папа предлагал ему помощь рыцарства и королевский титул. Даниил согласился. Папа Иннокентий издал буллы о крестовом походе на татар и в 1255 году дал Даниилу титул короля. Но, приняв его, Даниил оттягивал свой переход в католичество, продолжал вести переговоры и уклонялся от окончательного шага. Одновременно он воздвигал крепости, готовясь к походу на татар. При нём в Киеве сидел ханский наместник Куремса – ленивый и не энергичный, чем и объясняется то, что Даниил мог безнаказанно вести переговоры с папой и строить укрепления на глазах у ханского наместника. Крестовый поход не удавался. Тогда Даниил, соединившись с Литвой, напал на Киев и отнял его у татар. Хан сместил Куремсу и назначил на его место Бурундая. Бурундай пошёл на литовцев и принудил Даниила вместе с ним идти войной на прежних союзников. На обратном пути он прошёл через Галич и до основания срыл все сооружённые Даниилом крепости: Львов, Кременец, Луцк и Владимир. Даниил попал в полную зависимость от татар, и его полки ходили под начальством татарских воевод во все их походы против Запада.
Так попытка Даниила заключить союз с католическим Западом путём измены Православию кончилась неудачей. Результатом её было полное подчинение татарам, но при потере той внутренней творческой и самобытной силы страны, которая могла возрасти и свергнуть иго. Даниил не усилил, но окончательно ослабил Галич.
Совсем иным было отношение к посольству во Владимире.
В своём послании к Св. Александру Иннокентий IV после догматических доказательств преимущества католичества перед Православием подтверждал это указанием на то, что Ярослав – отец Св. Александра – под влиянием проповеди Плано Карпини, в бытность свою в Орде, перешёл в католичество и умер католиком. Это утверждение представляется неверным. Ярослав умер в степях, далеко от Руси. Плано Карпини был одним из последних людей, видевших его. Хотя в своём послании Иннокентий ссылается именно на него, сам Плано Карпини в своих очень подробных записках, описывая встречу с Ярославом, ничего не упоминает об его переходе в католичество. Да и сам облик Ярослава противоречит этому известию. По-видимому, это было лишь средством заставить Св. Александра более внимательно отнестись к посольству.
Приняв от посланных грамоту папы, Св. Александр сел думать с митрополитом Кириллом, духовенством и боярами. После совещания был написан ответ. Этот ответ гласил:
«От Адама до потопа, от потопа до разделения язык, от разделения язык до начала Авраамля, от начала Авраамля до проитиа Израилева сквозе море, от исхода сыновь Израилевь до умертвиа Давыда царя, от начала царства Соломоня до Августа Риського кесаря и до Рождества Христова, до страсти и воскресениа, от воскресения же Его и на небеса восшествия, до Констанитна царя, и до 1 -го събора и до самого собора добре сведаем; а от вас учениа не приимаем». Рукописное житие приводит другой ответ – более пространный, но который был приписан к житию уже в XVI веке и содержит обличение лютеранства.
Так попытка папы мирным путём подчинить себе Северную Русь оказалась неудачной, как и возбуждённые им походы шведов и меченосцев. Отказ вступить в переговоры с Римом был продолжением дела защиты Руси от католичества, начавшегося на Неве и Чудском озере и продолжавшегося во всех последующих походах Св. Александра на Запад для обороны новгородских рубежей.
ГЛАВА XX
Отвергнув союз с Западом, Св. Александр принял подчинение Востоку. Его политика по отношению к татарам была его самым великим, но и самым тяжёлым историческим делом, послужившим соблазном для многих, но выведшим Россию из развалин на правильный исторический путь.
Св. Александр был несомненным врагом татар. Уже после своей кончины, в видениях, он дважды являлся на помощь русской рати, сражавшейся против татар. Открытая борьба с татарами, когда она стала возможной, была продолжением дела Св. Александра. Само его подчинение было началом долголетней борьбы с татарщиной. Это подчинение менее всего объясняется признанием полезности для России татарской власти или преклонением перед татарами, которых он, как и все русские, считал идолопоклонниками и неверными. Это подчинение объясняется лишь любовью к Православию и России, пониманием исторической линии и ясным различением между возможным и невозможным, трезвым учётом сил своих и вражеских.
Св. Александр во время пребывания в Каракоруме увидел лицом к лицу всю мощь татар. Сила татарского царства долго недооценивалась. В то время это было поистине несокрушимое царство. С первобытной дикостью и здоровьем молодого народа татары сочетали наследие древних восточных культур, быстро, хотя и поверхностно заимствованных. При описании татарских нашествий на Русь уже говорилось о военной организации татар, об их стремительных походах и тактике боя. Но и во времена мира, завоевав страну, татары из своих далёких орд умели удержать её в повиновении. Они покрыли всё своё царство сетью дорог, шедших на тысячи вёрст и сходившихся к единому центру – Золотой Орде. Марко Поло оставил подробное описание этих дорог, которые, как и в Римской империи, были первыми и главными средствами держать в повиновении покорённые земли.
«Чрез каждыя 25 миль, – пишет Марко Поло, – посланцы великаго хана находят станцию, которая по-монгольски называется ямь, то есть «станция с почтовыми лошадьми».
В некоторых ямах есть по 400 коней, в других же меньше. Всего великий хан содержит на этот предмет до 400 000 коней.
Кроме этой связи есть ещё связь скороходами, для чего на каждых 3 мили есть станция таких скороходов. Скороходы бегут со звонками, и путь, который пеший сделает в 10 дней, те пробегают в два.
Если же известие или лицо должно быть доставлено очень скоро, то едущему выдаётся табличка с изображением сокола; каждая станция только услышит колокольчик скачущих, тотчас обязана приготовить лошадей так, чтобы перепряжка могла быть незамедлительна. Обладающий такой табличкой может, в случае падежа лошади в пути, отобрать коней у любого встречного. Ночью рядом со скачущей телегой бегут факельщики. При таком способе передвижения можно сделать в день до 250 миль.
Эти дороги великий хан приказал обсадить большими деревьями; в пустынных местностях дорога указывается столбиками, камнями и т. п.
Для переправы через реки жители окрестных к переправам селений должны иметь три парома».
При этой быстроте передвижений татары могли следить за каждым углом своего царства. Известие о мятеже или даже попытке к мятежу или заговоре немедленно сообщалось в ханскую ставку. И тотчас на непокорных двигалась орда для разрушения, пожаров и поголовного истребления жителей. Татары карали каждое неповиновение с жестокостью, которая надолго вселяла ужас в уцелевших и заставляла умолкать всякий ропот.
Св. Александр видел не отдельные татарские орды. При нём в Каракоруме готовилось нашествие на Европу, совершались завоевания далёких азиатских стран. Он видел мировой размах татарского царства. Поэтому он увидел и воспринял полную реальную невозможность открытого сопротивления татарам. Он ощутил в татарах стихийную силу, бороться с которой так же невозможно, как противостоять потоку, лавине или обвалу.
Это ясное понимание татарской силы могло побудить или к полному отчаянию, часто выражавшемуся в безнадёжных восстаниях, или к попытке найти иной способ борьбы. Но это последнее предполагало глубокую веру в свой народ и углублённый взгляд, проникающий за рябь внешних событий, обычно кружащую и увлекающую людей в те глубокие и постоянные пути, на которых совершается история. Этот углублённый взгляд присущ лишь отдельным великим людям. Но единственно тот, кто им обладает, может вывести свой народ из беды, не погибнуть и не погубить его безнадёжными попытками сопротивляться несокрушимому.
Народ всегда живёт своей внутренней творческой силой. Поскольку эта сила ему присуща, он не может погибнуть, несмотря на все внешние несчастья. Сокрытая в нём сила всегда проявится наружу, преодолев все препятствия, потому что она, как произрастающее семя, всегда стремится распространиться во вне, сделаться равной и внешне своему внутреннему содержанию. Поэтому все усилия подлинного спасения должны прежде всего направляться на сохранение этой творческой основы, на отвращение посягательств именно на неё. Поэтому менее страшны грандиозные по размаху разрушения внешнего, чем незаметные попытки уничтожить внутреннее.
Св. Александр Невский сознавал этот исторический закон. Вся его деятельность явно свидетельствует об этом.
Он видел подлинную сущность России, её внутреннюю силу, и все его усилия были направлены на её сохранение. Этим объясняется его упорная борьба с католическим Западом.
Как уже раньше указывалось, несокрушимое тогда Татарское царство по всей своей организации давало возможность сохранения подлинной русской сущности. Оно давало возможность постепенного накопления сил после разрушения первого нашествия.
Обычное представление о татарах, как бессмысленных разрушителях только ради разрушения, глубоко неправильно. Имена их ханов связываются с разрушенными до основания городами, поголовно перебитыми жителями и отдельными проявлениями зверства и жестокости. Но нельзя забывать, что в то же время и в Европе существовала инквизиция и пытки. За несомненной жестокостью и равнодушием к смерти и у Чингизхана, и у его потомков лежало сознание миссии сделать монголов великим народом – «Кеке Монгол»[25]25
Великий Монгол.
[Закрыть], «чтобы он из всего, что движется на земле, был самый великий». Сам Чингисхан говорит об этой миссии: «согласно повеления высшего царя Тенгри Хормуза, отца моего, я подчинил себе 12 земных царств, я привёл к покорности безграничное своеволие мелких князей, огромное количество людей, которые скитались в нужде и угнетении, я собрал и соединил в одно, и так я выполнил большую часть того, что должен был сделать. Теперь я хочу дать покой моему телу и душе». «И от этого года Дракона (1208) до года Собаки (1226), то есть в течение 18-ти лет, покоился повелитель, учреждал порядок и закон для своего огромного народа, на твёрдые столбы ставил своё царство и державу... и росло счастье и благополучие его народа».
История подтверждает истинность этих слов о мирном строительстве ханов. Хан Менгу в 1253 году даровал всеобщую амнистию. Он посылал свои войска на помощь крестьянскому населению Китая, разорённому войной. Он же устанавливал законы справедливого обложения данью. При нём была провозглашена свобода совести. При обложении Руси данью Церковь была изъята от всех взносов. Из этого видно, что покорённые татарами народы могли существовать под их властью, что не избавляло, конечно, ни от тяжёлого экономического гнёта, ни от произвола ханских чиновников, ни от других последствий завоевания.
Из ясного осознания своей миссии – сохранить Русь – и двух сторон татарского ига – несокрушимости и гибельности при открытой борьбе и известной терпимости, дающей простор для внутреннего роста при повиновении, – вытекает вся восточная политика Св. Александра Невского, которая стала политикой его преемников и которая всецело оправдала себя в дальнейшие века.
Его деятельность шла по двум направлениям. С одной стороны, мирным строительством и упорядочением земли он укреплял Русь, поддерживал её внутреннюю сущность, накапливал силы для будущей открытой борьбы. В этом заключаются все его долголетние упорные труды по управлению Суздальской Русью. С другой стороны, подчинением ханам и исполнением их повелений он предотвращал нашествия, внешне ограждал восстановленную силу России.
Нашествия были величайшим злом, грозившим полной гибелью. Русь десятилетием оправлялась от Батыева разгрома. При нашествии татары стремились до основания разрушить страну. Новое нашествие на Русь, подобное Батыеву, могло окончательно подорвать её, уничтожить и ту внутреннюю силу, которая теплилась и начинала возрождаться.
Поэтому вся политика Св. Александра Невского сводилась к предотвращению нашествий. Он шёл на все уступки, лишь бы только предотвратить ханский гнев на Русь. Для этого он добивался полным повиновением доверия ханов, пытался возможно больше отдалить Русь от ханов и стать посредником между ними. Для этого он должен был становиться как бы наместником хана, от которого он получал и самую власть, и предотвращать всякую попытку мятежа.
Только с этой точки зрения понятно всё дело жизни Св. Александра Невского;
Эта политика была чрезвычайно трудной. Вся Русь была тяжело подавлена игом. Глубокий взгляд на исторические события, видящи их глубокий смысл и дальнейшие перспективы, недоступен народной массе. Народная масса видит перед собой лишь внешние факты и непосредственно на них реагирует. Она может лишь подсознательно понимать и ценить путь своих вождей, подобных Св. Александру, которые исполняют её скрытую и для неё самой неосознанную волю, но на тех путях, которые вызывают её сопротивление. В этом есть глубокая трагедия истории. Из народа выходящие и народную сущность утверждающие и сознающие, отдельные великие люди творят подлинную волю народа среди сопротивления народа. Они живые камни, на которых создаётся история народа. Они наиболее всех народны. Они получают народное признание и любовь на каких-то особых, неосознанных путях, именно как наиболее ярко осознавшие и воплотившие национальную волю. Но их жизнь полна непонимания и открытых мятежей. Они всегда одиноки.
Русский народ видел перед собой самый факт татарского ига. На него непосредственно действовали насилия и произвол татарских чиновников и постоянные поборы, разорявшие страну. Поэтому в стране накипало возмущение против татар, готовое прорваться наружу. Мятежи были проявлением подлинного национального чувства и обнаружением внутренней силы. Выраставшие из живого национального чувства при сложившейся обстановке, они творили противонациональное дело.
Поэтому перед Св. Александром лежала трудная задача сдерживания возмущённого и озлобленного народа. Все его долголетние труды созидали здание на песке. Одно возмущение могло разрушить плоды многих лет. Поэтому он подчас силой и принуждением заставлял народ смиряться под татарским ярмом, постоянно сознавая, что народ может выйти из-под его власти и навлечь на себя ханский гнев.
Эта внешняя трудность усугублялась трудностью внутренней. Русский князь становился как бы на сторону хана. Он делался подручником ханских баскаков против русского народа. Св. Александру приходилось осуществлять ханские приказы, которые он осуждал как пагубные. Но для сохранения общей главной линии спасения Руси он принимал и эти приказы. Ему приходилось казнями карать восставших против татар. Если понять, что подчинение Св. Александра было в сущности борьбой с татарами, то станет очевидной глубокая трагичность этих казней. Св. Александр казнил тех, кто творил одно дело с ним, исходя из одних побуждений, но заблуждаясь лишь во внешних путях.
Эта трагичность положения между татарами и Русью делает из Св. Александра мученика. С мученическим венцом он и входит и в русскую Церковь, и в русскую историю, и в сознание народа.
Если теперь, на расстоянии веков, оценивать исторический путь, по которому Св. Александр повёл Русь, то можно только признать его совершенную правильность. Он выбирал этот путь среди внешнего смятения жизни. Он шёл по нему неуклонно, с исключительной твёрдостью и гибкостью и ни перед чем не отступая. Во всей его деятельности была особая уверенность, сознание того, куда он идёт. Поэтому в нём с даром силы сочетается углублённый и провидческий взгляд, словно глядящий сквозь внешние явления в сокровенную от других сущность исторических путей Руси.