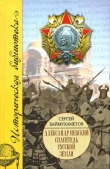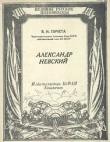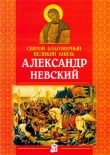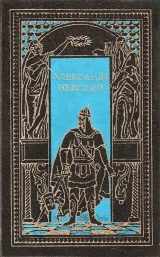
Текст книги "Александр Невский. Сборник"
Автор книги: Н. Чмырев
Соавторы: Францишек Равита,В. Кельсиев,Л. Волков,В. Клепиков,Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 41 страниц)
ГЛАВА XIV
Продержав Св. Александра в Орде, Батый не решил вопроса о разделе русских княжений. Он послал Св. Александра и Андрея, как послал прежде их отца, в Каракорум, на поклон к великому хану.
Перед русскими князьями лежал длинный, уже пройденный Ярославом путь. Этот путь вёл через Урал, через Киргизские степи, земли бесерменов (Хиву), через горные перевалы в Каракитай и через плоскогорья Монголии к преддвериям Китая в Каракорум. Князья ехали с татарским конвоем по проложенным татарами дорогам, меняя лошадей на станциях-ямах.
Летопись ничего не сообщает об этом путешествии. Она только упоминает: «Ходи Св. Александр в Канович». Для летописца, остававшегося на Руси, и далёкий азиатский путь, и ханская ставка со всей её жизнью оставались далёкими и неведомыми. Нам неизвестны подробности пути и пребывания Св. Александра в Каракоруме. Но, по описаниям свидетелей, посещавших Орду в те времена, можно восстановить её жизнь и обстановку, которую увидел и в которой как-то действовал Св. Александр, добиваясь ярлыка на княжение.
На равнинах Европы каждое столетие глубоко меняет весь внешний облик местности. Но в тех местах, через которые проходил Св. Александр, лицо земли не изменилось за семь столетий. Путь Св. Александра к Каракоруму был совершенно таким же, как и путь современного исследователя, проникающего в преддверия Тибета.
Этот длинный путь через иссечённые хребты гор, плоскогорья и перевалы, в условиях обычного путешествия через Среднюю Азию, т. е. верхом, с ночёвками у костра на разостланном войлоке, с редкими встречами на пути, длился много месяцев, пока Св. Александр и Андрей с их конвоем и спутниками не достигли ханской ставки[24]24
«Невозможно передать,– свидетельствует Рубриквис,– сколько мы страдали во время пути от голода, жажды, холода и усталости».
[Закрыть].
Каракорум во время его посещения Св. Александром менялся, как и само татарское царство. Из кочевого племени возникала империя. Поэтому и в ставке, среди первобытного кочевья, с табунами пасущихся лошадей и с толпой кочевников в грязных одеждах и войлочных шляпах, уже вырастал город. Татарское царство коснулось Китая на востоке, древней арабской культуры на западе, Индии на юге, и все эти культуры начинали менять облик монгольских кочевников.
Между юрт воздвигался настоящий город, окружённый земляными валами. Из своих походов ханы привозили комедиантов, художников, мастеровых и ремесленников. Эти мастера и художники работали над убранством Каракорума.
Среди них были и русские. Плано Карпини встретил в Орде молодого русского пленника – Козьму «хитреца», умевшего ковать золото. Он видел у него сделанный нм ханский престол и ханскую печать. Рубриквис встретил в Орде другого пленника – зодчего.
Послы и иноземные купцы вкрапливались в татарскую толпу. Их лавки постепенно проникали в воздвигавшийся из кочевья Каракорум.
«Там две большие улицы, – пишет Рубриквис, – одна из которых называется Сарацинской; на той улице идёт торг и ярмарка. Много иностранных торговцев ездят по ней, потому что на ней стоит дворец, а также большое количество разных посольств, прибывающих из разных стран. Другая улица зовётся китайской, и на ней живут ремесленники. Кроме этих двух улиц есть палаты, где живут секретари хана, (город) окружают земляные валы с четырьмя воротами.
У восточных ворот торгуют просом и другими сортами зерна, которого там очень немного. У западных – торгуют баранами и козами; у южных – быками и повозками и у северных – конями».
В Каракоруме было двенадцать храмов идолопоклонников разных сект и наций, две мусульманские мечети и христианская церковь.
В самом центре города находилось жилище хагана. Ханский дворец был выстроен через несколько лет после приезда Св. Александра. При нём это был светло-пурпуровый шатёр на столбах, украшенных золотыми листьями, за расписной деревянной оградой. «Мы нашли там светло-пурпуровый шатёр, – говорит Плано Карпини, – настолько большой, что в нём могло поместиться более двух тысяч человек. Вокруг шла балюстрада, наполненная различными картинами и статуями».
Влияние Китая, Индии и ховзаремских городов больше всего сказалось на самом хагане и его приближённых. Это уже не были простые кочевые князья, одно поколение тому назад жившие в юртах, как и их поданные. В их жизнь вошла роскошь азиатских владетелей.
Хаган жил в этом шатре, отделённый от народа целой лестницей придворных, секретарей и чиновников.
«В палисаде у шатра было двое ворот, через одни из которых входил сам император, даже без телохранителей, так что ворота эти оставались всё время закрытыми, и никто не осмеливался входить в них, а входили в другие, где стояли телохранители с мечами, луками, стрелами. Если же подходил к воротам кто-либо из простых, то его били или даже стреляли» (Плано Карпини).
«В заборе у шатра было двое больших ворот, через одни из которых входил сам хаган. Там не стояла стража, хотя ворота эти оставались всё время открытыми, ибо никто из входящих и выходящих не осмеливался пройти через них, но входил в другие, где стояли телохранители с луками и стрелами. Если кто-нибудь приближался к шатру ближе положенных пределов, его били или даже метали в него стрелами» (Плано Карпини).
Таким был, по описаниям очевидцев, внешний вид Каракорума ко времени приезда туда Св. Александра.
Во внутренней жизни ханской ставки при нём происходили смуты и приготовления к выборам нового хана.
Гаюк умер в 1247 году, пробыв великим ханом лишь один год. При нём возобновились завоевания. За один год были произведены набеги на Моссул, Диабекир и Грузию. Подготовлялся новый великий поход на Запад, для завоевания Европы.
Неизвестно, застал ли Св. Александр в живых Гаюка и видел ли его. Но, во всяком случае, он был свидетелем длительных смут и приготовлений к новому Великому курултаю.
Ордою временно правила вдова Гаюка. Это правление длилось несколько лет. Громадные расстояния, разделявшие отдельных ханов, мешали им быстро собраться в Каракорум. Помимо этого, благодаря отсутствию определённого закона, устанавливавшего права на занятие престола, между несколькими линиями чингизидов начались распри.
Спор шёл между старшей линией Огодаевичей, из которой происходил умерший Гаюк, и младшей – Тулуевичей. Сыновья Тулуя были даровитей и энергичней своих противников. Старшим из них, которого и выдвигали претендентом на престол, был Менгу. В нём более всех других ханов сказались черты его деда – Чингисхана. Он был сумрачен и неразговорчив, не любил пиров и роскоши, предпочитал войну, охоту и прежнюю первобытную простоту жизни. У Менгу были сильные сторонники, среди них Батый, с ордою которого Менгу приходил в 1238 году на Русь, и воевода Мангусар, главный советник умершего Гаюка и великий судья татарского царства. Борьба становилась ожесточённой. Один из сторонников Огодаевичей, князь Ширанон, составил заговор против Менгу. Заговор этот был раскрыт и около семидесяти заговорщиков казнено на площади Каракорума.
Смуты продолжались почти 5 лет, до 1251 года, когда Великий курултай провозгласил Менгу великим ханом.
Св. Александр уехал из Орды до этого курултая. Но все смуты в Орде происходили при нём. Это междуцарствие надолго, но крайней мере на год, задержало его и Андрея в Каракоруме. При всей системе татарского управления для получения ярлыка нужно было пройти через много ступеней, всюду богато одаряя чиновников и писцов. Смуты в Орде поглощали всё внимание татарских ханов и воевод и делали для них неважным дело разделения княжеств на далёкой окраине.
Наконец, русские князья добились решения. Св. Александр получил ярлык на великое княжество киевское, а Андрей на великое княжество владимирское. После этого они были отпущены на Русь.
В Орде Св. Александр воочию увидел мощь татар, единое царство которых, несмотря на внутренние распри, простиралось от Тихого океана до границ Европы. Из Каракорума задумывались и осуществлялись походы, которые опоясывали полмира. В татарском царстве ещё жили здоровье и сила кочевого народа, только что пробудившегося к жизни. Об этом свидетельствовали и стремительность завоеваний, и быстрота заимствований, и несомненный культурный рост, менявший весь облик татар.
Св. Александр избрал путь подчинения татарам ещё до поездки в Каракорум. Но, несомненно, что живое лицезрение татарской силы утвердило его на этом пути. Поэтому пребывание в ставке во многом предопределило всю его дальнейшую деятельность по отношению к татарам.
ГЛАВА XV
Зимою 1250 года, после трёх с лишним лет отсутствия, Св. Александр вернулся на Русь. Киевщина, на которую он получил ярлык, была опустошена. От Киева оставались только развалины. Св. Александр не поехал в Киев, а вернулся на своё новгородское княжение. Летопись кратко передаёт об этом: «Того же лета прииха князь Александр Ярославин из Орды в Новгород и рады быша Новгородци».
Вскоре по возвращении в Новгород он тяжело занемог. Длинное путешествие по пустыням Азии подорвало его здоровье. «Бысть болезь его тяжка зело» – Св. Александр был близок к смерти.
Эта болезнь поразила Новгород. Во всех церквах горело множество свечей, поставленных за его здоровье, служились молебны. Как в годы нашествий, вольный Новгород соединился со своим князем.
Св. Александр начал поправляться и вскоре совсем выздоровел. «Умной Бог живота ему: бе бо любя чин церковный».
В 1251 году приезжали в Новгород митрополит Кирилл и ростовский епископ Кирилл и поставили Далмата новгородским епископом на место незадолго перед тем умершего Спиридона. Этим же летом прошли сильные дожди и затопили все пастбища и сенокосы и снесли большой мост через Волхов. Осенью ударили ранние морозы. Грозил голод, но Новгород перебился эту зиму с небольшими запасами прежних лет.
Эта зима, грозившая голодом, была последней для Св. Александра на новгородском княжении. Причиной этому была ханская опала, которую Андрей навлёк на себя неповиновением, и новое перемещение на княжеских столах.
Со времени покорения Руси татарами не сменилось ещё ни одного поколения. Вся Русь надеялась на избавление от ига и была готова к восстанию. Стать во главе мятежа и избавить Русь от татар казалось каждому князю высоким и завидным уделом.
Андрей, сделавшись великим князем владимирским и почувствовав свою силу, не устоял перед искушением стать освободителем Руси. Со своим зятем – Даниилом Галицким он начал подготовлять восстание против татар.
Но ханы зорко следили за князьями. В самом Владимире нашлись изменники, недоброжелатели князя, которые донесли на него хану Сартаку, сыну и преемнику Батыя.
Действия татар были стремительны. За неповиновением следовало нашествие и разгром. Узнав о замыслах Андрея, Сартак двинул на него в 1252 году карательную орду под начальством ордынского царевича Неврюя и воевод Котяна и Алабуги. Андрей был слишком слаб, чтобы бороться с ордой. Но он всё же наскоро собрал рать и храбро пошёл против татар.
Неврюй неожиданно – «таящеся» – перешёл брод через Клязьму под Владимиром и пошёл к Переяславлю. В день памяти Св. Бориса произошла сеча – «и бысть сеча велика, гневом же Божиим, за умножение грехов наших, погаными христиане побежени быша». Андрей едва успел спастись и убежал в Новгород. Но новгородцы побоялись принять к себе провинившегося перед ханом князя. Андрей убежал в Псков, дождался там своей княгини и уехал в Колывань (Ревель). Оттуда он переправился с семьёй в Швецию.
Разбив Андрея, Неврюй взял Переяславль. В систему татарского управления входила беспощадная кара восставшим. Город был разграблен. Татары убили находившуюся в городе жену Ярослава – младшего брата Св. Александра, воеводу Ждислава и множество жителей.
Почти в то же время, когда орда Неврюя разбила русского князя под Переяславлем, на юге другая орда под начальством брата нового хагана – Улагая взяла приступом и разорила древний и прекрасный Багдад – столицу халифов. Последние наследники Гарун аль-Рашида были завёрнуты в ковры и растоптаны конями победителей.
Во время нашествия Неврюя Св. Александра не было в Новгороде. Он снова ездил в Кипчакскую Орду. С бегством Андрея за море освободился владимирский стол. Св. Александр получил на него ярлык от Сартака и вернулся на Русь великим князем владимирским.
ГЛАВА XVI
В 1252 году Св. Александр въехал во Владимир, вотчину отцов и дедов. Кирилл, митрополит киевский и всея Руси, живший после разгрома Киева во Владимире, духовенство в облачении и с крестами и всё население Владимира встретили нового великого князя у Золотых ворот. Они ввели его в Успенский собор и торжественно посадили на великокняжеский престол.
С этого времени жизнь Св. Александра связана с Владимиром. Отсюда он правил всей Русью, но его постоянным местожительством был Владимир и Владимирская область.
Владимир – один из старейших городов Северо-Восточной Руси – был издавна излюблен суздальскими князьями, всегда предпочитавшими его двум старшим городам: Суздалю и Ростову. Св. Александр любил Новгород, но к Владимиру его, по-видимому, влекли ещё давнишние детские воспоминания. По своему складу он был суздальским князем, продолжателем семейных традиций рода. Владимир был связан с многими поколениями его предков. Здесь не было ни веча, ни сильного самостоятельного боярства. Князь был хозяином земли, издавна изначально крепко сжившимся с княжеством. Он был строителем и созидателем области. Самый склад владимирской жизни был тише, размеренней и строже, чем в Новгороде.
В Св. Александре есть особая вращенность в суздальский быт. И образ его в той глубине и тишине, которые соприсущи ему, несмотря на вихрь внешней жизни, предносится ни на фоне Новгорода, ни Чудского побоища, ни ханской ставки, но на фоне тихого Владимира. В самом Св. Александре есть глубокое созвучие Владимиру, не только его быту, но всему его облику, его храмам и окружающей природе.
Владимир лежал на узкой и высокой обрывистой полосе, между реками Клязьмой и Лыбедью. Как все города Суздальской Руси, он состоял из детинца – внутреннего города и острога – города внешнего. Коса, на которой лежал Владимир, была так узка, что острог не окружал детинца, прямо стоявшего над обрывом, но замыкал его с двух сторон, сам делился на два города: Печерный и Новый. Из острога в детинец вели многие ворота: Волжские, Медные, Аринины, Серебряные и главные Золотые, с храмом Риз Положения над проездными воротами.
Любимый город суздальских князей – храмостроителей, весь Владимир белелся храмами. Над обрывистым берегом Клязьмы стоял соборный храм Успения Богородицы, с главной святыней Владимира – чудотворной иконой Владимирской Божьей Матери. Княжий двор соединялся крытыми переходами с хорами храма Св. Димитрия Солунского. На том же обрыве над Клязьмой, в самом детинце, находился мужской монастырь, а за стенами, в остроге, над Лыбедью – женский Успенский, «княгинин» монастырь, в котором постриглась княгиня Мария – бабка Св. Александра Невского. В Новгороде разбросанные по всему городу храмы были воздвигнуты боярами и именитыми купцами и говорили о самостоятельности каждого конца. Здесь же белевшиеся среди деревянных изб, торговищ и церковок каменные храмы все были воздвигнуты суздальскими князьями. Св. Георгиевский был построен Юрием Долгоруким, Преображенский – Андреем Боголюбским, Воздвижения на Торговище – Константином Всеволодовичем.
Все эти храмы – стройные, чисто суздальские, белого камня, с «обронными» резными украшениями, с узкими высокими окнами, с многими главами на узких и высоких барабанах – высились на крутом обрыве над широким разливом двух рек и далями поёмных лугов.
Под этими храмами, среди деревянных построек, вились узкие и почти непроходимые в распутицу улицы, заполнявшиеся в дни торговища и престольных праздников приходившей из окрестных деревень сермяжной Русью, в которой уже сказывался северный великорусский тип: высокий рост, серые глаза, светлые «льняные» волосы и бороды, северный «окающий» говор.
На фоне этой картины – широкой, привольной просторами рек и далеко разбегавшихся дорог – встаёт образ Св. Александра в последнее десятилетие его жизни. В эти года, в промежутки между поездками в Орду и походами, он жил размеренным княжеским бытом своих отцов и дедов. На рассвете ходил по крытому ходу из княжьего терема в храм Св. Димитрия Солунского на раннюю обедню. Вершил княжеский суд над тяглецами. Вёл беседы с митрополитом Кириллом. Беседовал со странниками и монахами, «бе бо любя чин церковный». Выезжал осенними утрами по первым изморозкам на лов в рощах Боголюбова. Всё это, несомненно, было. Но эта мирная картина обычного княжеского быта скрывается за новым и необычайным трудом по управлению Русью под властью татар и непрестанными трудами по восстановлению земли.
ГЛАВА XVII
После Батыева нашествия Суздальская Русь была опустошена. Почти ни один город не избежал разграбления. Нашествие Неврюя принесло новые разрушения. Жители бежали в леса и болота, где многие и погибли. Св. Александру пришлось заново совершать дело своих предков – воздвигать церкви и города и возвращать в них жителей.
Владимирский период являет в Св. Александре новые черты князя – мирного строителя и управителя земли. Эти черты не могли проявляться на новгородском княжении. Там он был лишь князем-воином, защищавшим русские пределы. Попытки его ближе подойти к управлению землёй вызывали распри с новгородцами. Только здесь, в Суздальской Руси, он вполне является тем князем, делание которого в сознании и князей и народа неотделимо от самого понятия княжеского служения.
Это, общее для всей Древней Руси, понимание княжеского служения начало складываться под влиянием Церкви ещё в Киевской Руси. Сложилось оно окончательно в Суздале, откуда и перешло в Москву. Оно проявилось почти во всех древнерусских памятниках, в летописях и поучениях. Наиболее полно оно отразилось в послании Преп. Кирилла Белозерского московскому великому князю Василию Димитриевичу. Это послание, отражая общий взгляд и князей, и народа, и Церкви на подвиг княжеской власти, как бы изнутри освещает княжение Св. Александра. Оно открывает его собственный взгляд, как и взгляд его современников, на всю его внешнюю государственную деятельность. Поэтому, хотя и написанное значительно позже, оно является ценным памятником, выявляющим миросозерцание Св. Александра.
«Ты же сам, Бога ради, – писал Преи. Кирилл из своей далёкой озёрной пустыни, – внемли себе и всему княжению твоему, в нём же тя постави Дух Святый, пасти люди Господня, яже стяжа честною си кровию. Якоже бо великиа власти сподобился если от Бога, толиким большим и воздаянием должен еси. Въздай же убо Благодетелю долг, святыа его храня заповеди, всякаго уклоняясь пути ведущаго в пагубу. Якоже бо кораблех есть, сегда убо наёмник, еже есть гребец соблазниться мал вред творит плавающим с ним; егда же кормчий, тогда всему кораблю сътворяет пагубу; такоже и о князех. Аще кто от бояр согрешит, не творить всем людям, но токмо себе единому; аще же ли сам князь, всем людем, иже под ним сътворяет верд. Ты же со многою твёрдостию храни себе в добрых делах... Возненавиди всякую ласть, влекущую тя на грех: не приложен имей благочестия помысл и не возвышайся временною славою к суетному шатанию.
Занеже ни царство, ни княжение, ни иная каа власть не может нас избавити от нелицемернаго суда Божия; а еже возлюбити ближняго яко себе и утешити души скорбящая и озлобленныя, много поможет на страшнем и праведнем суде Христове».
В другом послании – к князю Андрею Димитриевичу Можайскому-Преп. Кирилл поучает князя не только о том, чем он должен жить и руководствоваться, но даёт наставление в делах управления княжеством.
«И ты смотри того властелин отчине поставлен, люди своим унимай от лихово обычая; судии бо судили праведно, как пред Богом право, поклёпов бы не было, подметов бы не было, судий бо посулов не имали, довольны бы были уроки своими; судя праведно без зды спасени будут и царство небесное наследуют. И ты, господине, внимай себе, чтобы корчмы в твоей вотчине не было; занеже то велика пагуба душам. Такоже и мытов бы у тебя не было, понеже деньги неправедныя, а где перевоз, туто пригоже дати труда ради. Такоже и разбоя бы и татьбы не было и аще не уймутся, ты их вели наказывать своим наказанием, чему будут достойны. Такожде унимай от скверных слов, и аще не потщишся всего того унравити, всё то на тебе взыщется понеже властель есть своим людем от Бога поставлен. А крестьянам не ленись управы давати сам: то выше тебе от Бога вменится молитвы и поста... Ко церкви ходити не ленись... а в церкви Божией стойте со страхом и трепетом, помышляюще в себе аки на небеси стояще. Занеже церковь наречётся земное небо, в нём же совершаются Христовы таинства... Аще кого видеши от вельможи твоих или от простых людей беседующа в церкви, и ты им возбраняй. Занеже глава есть и властель от Бога поставлен, иже под тобою крестьян».
В этом древнерусском понимании княжеской власти очень знаменательно её «оцерковление». За исполнением князем обычных государственных дел – судов, установлением мытов, устройством перевозов – признается религиозное значение. В основе этого отношения к власти лежит сознание, что мир не оторван от полноты бытия, заключённого в церкви, но как-то уже сопричастен этому бытию и может и должен усилиями людей входить в Церковь, т. е. оцерковляться. Поэтому религиозный долг каждого человека, но особенно облечённого властью – князя – заключается в том, чтобы, по возможности, сделать ещё неоцерковленный мир сопричастным Церкви. В этом сознании Древней Руси была заключена глубоко православная мысль, что церковным и религиозным может быть и чисто мирское дело, творимое посреди греховного мира. Праведное исполнение своего дела ставилось для мирянина князя даже выше чисто религиозного делания, как об этом говорит и Преп. Кирилл Белозерский: «То выше тебе от Бога вменится молитвы и поста».
Поскольку это служение совершалось в миру, оно было связано с греховной порчей, которая неотъемлема от мира. Средствами государственного управления служат война, кары и казни. Благословение Церкви никогда не давалось именно этим средствам, как таковым. Церковь благословляла государство и его цель – служить оградой от зла на земле, хранить правосудие, принимая и войну, и казнь как печальные, но неизбежные последствия греховной порчи мира. Поэтому Церковь, поучая князей «наказывать своим наказанием, чему будут достойны», освящает не самый факт наказания, но ту цель, которой это наказание служит, т. е. правосудие.
Церковь всегда освящает государственное служение за его цель и побуждения. Во вне государственная деятельность, исходящая из религиозных побуждений, может не отличаться от государственной деятельности, основанной на совсем иных стремлениях. Князь мог заботиться о правосудии, следить за порядком, закрывать корчмы, «унимать людей от лихого обычая» из желания укрепить княжество, дать ему внешнюю силу и мощь, прославив этим своё имя. С современной точки зрения такой правитель, дающий благо своей стране, был бы назван праведным. Церковно православный взгляд Древней Руси был совсем иным. Поучая Василия Димитриевича – крепко и «грозно» править своим княжеством, Преп. Кирилл Белозерский убеждает его «не возвышаться временною славою к суетному шатанию». Не внешняя мощь княжества, не его слава, не богатство были последней целью и первым побуждением, а Правосудие, устроение государства на основе божественной Правды, – спасение вверенных князю Богом людей. Дело правления становилось оцерковленным только тогда, когда князь имел перед собою эту цель. Только при этом условии дела мирского управления могли вмениться ему во спасение.
Вне этого церковного понимания княжеского служения нельзя понять ни Св. Александра Невского, ни его дел, ни его святости. Вся его государственная деятельность – войны, поездки в ставку, смирение перед ханом, борьба с Новгородом, устроение земли – была именно мирским делом, которое ему и было вменено Богом «выше молитвы и поста».
Св. Александр сам смотрел на своё служение так, как его выразил в своём послании Преп. Кирилл, ибо его жизнь и была осуществлением в жизни заветов и указаний Церкви о долге князя.
Как это видно и из приведённых посланий, Церковь благословляла прежде всего повседневный княжеский труд. Государство идёт своими мирскими путями. Поэтому Церковь, благословляя или осуждая его общее устремление, даёт ему свободу действовать по своим мирским законам, не предписывая общих правил о заключении союзов, войне или мире, установлении договоров с соседями. Только в редкие трагические минуты истории, как, например, перед Куликовской битвой, она прямо даёт указания власти, почти что посылает её на общее историческое дело или же, наоборот, удерживает от него. Но и тогда эти прямые указания даются всегда конкретно, именно на данное дело, в зависимости от того, соответствует ли оно Божьей правде. Из этих указаний нельзя вывести общего правила. Митрополит Кирилл благословил Св. Александра на поездку к Батыю, Св. митрополит Алексий сам ездил в Орду, Преп. Сергий Радонежский послал Димитрия Донского на бой с татарами. В их поступках не было противоречия. Изменилась обстановка, изменилась историческая задача, изменилось соответственно и указание Церкви.
Наоборот, постоянная задача князя – управление своим княжеством – всецело определено Церковью. Здесь можно найти множество советов и увещеваний, касающихся самых повседневных и обычных дел управления.
Именно оттого, что по церковному пониманию княжеской власти, которое было свойственно и самому Св. Александру, главным делом князя было не столько защита внешних границ, сколько внутреннее устроение княжества на основах правды, Владимирский период придаёт особую полноту всей деятельности Св. Александра.
Его княжеский труд заключался в построении храмов и укреплений, в постройке городов и в упорядочении внутренней жизни страны, главным же образом в установлении правосудия.
По словам жития, Св. Александр, возлюбив правосудие, «о нём е и боляр своих часто наказуя притчами от божественных писаний». Во многом его деятельность направлялась на улучшение и укрепление церковной жизни. Поэтому и известия о борьбе церковной власти за упорядочение и восстановление церковной жизни уясняют внутреннее состояние Суздальской земли и дополняют краткие сведения о княжеских труда Св. Александра.