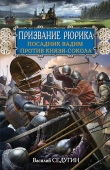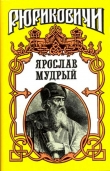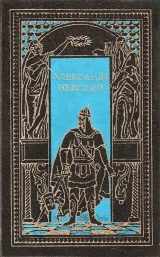
Текст книги "Александр Невский. Сборник"
Автор книги: Н. Чмырев
Соавторы: Францишек Равита,В. Кельсиев,Л. Волков,В. Клепиков,Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц)
Вскоре после этой свадьбы вышла замуж старшая дочь Ярослава Анна за французского короля, но её свадьба состоялась во Франции.
IX
Княжение великого князя Ярослава – одна из самых блестящих страниц истории древней России. Правда, вначале это княжение было несколько омрачено борьбою с оставшимися в живых братьями Ярослава: Судиславом Псковским и Мстиславом Тмутараканским, а также с племянником Брячиславом Полоцким, но вскоре побеждённый Судислав умер, а с Мстиславом и Брячиславом Ярослав помирился, оставив за собой северную и западную Русь от Днепра. Юго-восточную, с княжеским столом в Чернигове, он предоставил Мстиславу, а Брячиславу дал города Ветебск и Усвят. В 1035 году Мстислав умер, и Ярослав овладел всей Русью.
Отношения между Ярославом и Мстиславом в последние годы жизни последнего были вполне дружественные, и братья вместе ходили на ляхов, от которых они вернули Руси червенские города. Расширяя пределы Руси на север, на запад и восток, Ярослав построил, как оплоты русской твердыни, на северо-востоке, на Волге, Ярославль, в Червонной (Галицкой) Руси также город Ярославль, сохранившийся, как и Ярославль-Волжский, до сих пор, а на северо-западе, у Чудского озера Юрьев, который был назван так потому, что в святом крещении Ярославу дано было имя Юрий. И хотя Ярослав был усердным христианином, тем не менее летописец, по привычке народной, называет его преимущественно его прежним, языческим именем, и это имя укреплено за ним историей.
Завоёвывая дикие племена литовцев, финнов и ятвягов, облагая их данью и укрепляя землю свою крепостями, Ярослав вместе с тем старался установить добрые отношения с тогдашними государствами и сблизиться с ними. Отчасти это достигалось путём браков. Как выше сказано, старшая дочь Ярослава Анна вышла замуж за французского короля, а Елизавета – за норвежского принца, из двух же других дочерей одна вышла за венгерского короля, а другая – за польского, одного из преемников Болеслава, скончавшегося вскоре после окончательного поражения Святополка.
Внутри страны Ярослав водворил порядок и приказал составить сборник законов – «Русскую Правду». Земля росла и богатела, росли и богатели сёла и города, особенно Новгород и Киев.
Тогдашний Киев сравнивали с Царьградом. Двор Ярослава прославился блеском величия. Западноевропейские государи усердно искали дружбы великого князя киевского: Олаф святой, король норвежский, Андрей венгерский и другие приезжали в Киев, прося помощи и защиты у Ярослава.
Мудрый князь, ревностный в вере и любивший книги, распространял христианство и просвещение среди своих подданных, строил усердно храмы и монастыри, заботясь об украшении их лучшими византийскими мастерами, об улучшении на Руси церковного пения. При нём были созываемы соборы русских епископов для разрешения вопросов церковного управления. При Ярославе же построены знаменитые храмы Святой Софии в Новгороде и Киеве, и по его же указанию переведены многие книги с греческого языка на славянский, причём при киевском храме Святой Софии было устроено книгохранилище для общенародного пользования. Он заботился об увеличении числа приходов и об обеспечении иереев. При Ярославе жили в Киеве преподобный Антоний Печерский, вернувшийся с Афона после утверждения Ярослава на великокняжеском столе и основавший Киево-Печерский монастырь, ныне лавру, и бывший отрок Бориса святой преподобный Моисей Угрин, который, возвратясь из польского плена, поселился в пещере у святого Антония.
И святая православная церковь окрепла и возвеличилась на Руси в правление Ярослава, прозванного Мудрым.
Умирая, Ярослав завещал своим сыновьям жить в мире. Он говорил им: «Скоро не будет меня на свете; вы, дети одного отца и матери, должны не только называться братьями, но и сердечно любить друг друга. Знайте, что междоусобие, бедственное для вас, погубит землю, а согласие ваше утвердит её».
Но завещание Ярослава не исполнялось его сыновьями, внуками и правнуками, и созданная трудами Ярослава сильная страна, раздираемая междоусобиями, мало-помалу теряла своё могущество. Одолеваемая с запада Польшею, с востока она поддалась татарам и более 200 лет несла татарское иго. Но светильник веры православной, зажжённый на Руси святым равноапостольным великим князем Владимиром, не угасал и согревал надежду на лучшие дни, и эта надежда оправдалась в последующей истории.
Давно уже прошли годы княжения Ярослава. Но и до сих пор жив в памяти народа образ этого князя-печальника, князя-собирателя, князя-просветителя родной страны, известного в истории под именем «Ярослава Мудрого».
Николай Алексеев-Кунгурцев
Брат на брата
1. ПОСЛЕДНИЙ ТЫСЯЦКИЙ
Близился вечер 17 сентября 1374 года.
Краски заката играли на маковках московских церквей.
Было ещё довольно светло, но в келье умирающего старца-монаха Чудова монастыря – полутьма: слишком скупо пропускает свет маленькое, переплетчатое, слюдяное оконце.
Тускло мерцают лампады. К одной из них протянулась рука и затеплила тонкую свечку жёлтого воска.
Огонёк вспыхнул и слегка озарил сырые стены, простые, деревянные, некрашеные лавки и такой же стол. Человек, затепливший свечу, был молод и богатырски сложен; лицо его – красивое, безбородое выражало печаль; но часто в глазах мелькала искорка нетерпеливого ожидания.
Рядом с ним виднелась фигура священника в рясе из бязи и в епитрахили, наклонившегося над старцем с жёлтым морщинистым лицом и седой бородой, которая закрывала грудь. Отходящий в вечность лежал на лавке на подостланном монашеском подряснике, прикрытый монашеской же ряской.
Как ложе, так и вся обстановка кельи свидетельствовали о скудости.
А между тем умирающий мог бы обставить себя со всею роскошью, какая была достижима в то время: у дверей его жилища, обшитых драгоценным алым сукном, стояла бы стража с секирами, тысячи слуг были бы в его распоряжении. Ото всего этого он отказался, стремясь лишь к молитве и уединению, и запёрся в тесной келье, в которой теперь и умирал, лёжа на узкой лавке.
Старец был тысяцкий. Это звание уцелело с того времени, когда славяне жили «вечевым порядком». Граждане выбирали себе начальника, который должен был предводительствовать их народной дружиной. При князьях обязанность тысяцкого потеряла свой смысл, но всё же они, тысяцкие, занимали почётное положение, – быть может, были первыми после князя, – имели своё войско и некоторую власть над гражданами.
Тысяцкого звали Василием Васильевичем Вельяминовым. Он презрел мирскую суету, удалился от власти и света и принял монашество. Однако звание тысяцкого, несмотря на постриг, осталось за ним.
Наследником Василия Васильевича был его сын – Иван, тот самый молодой человек, который затеплил свечу.
Священник был духовник старца, отец Михаил, более известный под прозвищем Митяя, из села Коломенского.
Он только что приобщил больного Святых Тайн, и Василий Васильевич лежал спокойно, недвижный, с закрытыми глазами.
– Умирает? – шёпотом спросил Иван Вельяминов Митяя.
– Кажись, отходит, – ответил духовник и, раскрыв Требник, приготовился читать отходную.
В это время умирающий пошевелился, веки дрогнули и приподнялись. Он уставил мутный взгляд на сына и едва слышно прошептал:
– Ваня!
Иван опустился на колени у отцовского ложа и наклонил голову.
Тысяцкий с величайшим усилием поднял руку и положил на голову сына. Это движение, вероятно, утомило его, потому что он некоторое время лежал молча и переводил дух.
В келье стояла глубокая тишина, прерываемая только глубокими вздохами больного.
Наконец умирающий собрался с силами.
– Благослови... тебя... Господь... – снова зашептал он. – Прощай... Ваня... отхожу к Отцу... нашему... Сын, помни... живи... так... как Христос повелел... Соблюдай заповеди... Божии... люби ближних... Духа... зла... гордыни... отгоняй. Силён... Ваня... враг рода человеческого... Знаю, нрав... у тебя... горячий... Смиряй себя... Помни... наперёд всего... душу блюди... в чистоте... Один ты... остаёшься... так Бог тебе... заступник... и покоритель... Не прогневи... Его... Ваня...
Василий Васильевич смолк и плотнее откинулся на подушку. Последние силы его покинули, глаза закрылись, на лицо лёг землистый оттенок, грудь начала подниматься медленно и неровно.
Иван чувствовал, как холодеет лежавшая на его голове рука отца.
Митяй перекрестился и начал читать отходную.
В келью неслышно вошли несколько монахов и, опустившись на колени, стали молиться.
У молодого Вельяминова сердце рвалось от боли, но в то же время где-то в тайниках души коварный голос шептал: «Отец умирает... Теперь ты тысяцким будешь».
Он сам пугался этой мысли.
«Время ль о сём думать?»
Хотел весь отдаться своей грусти и не мог. Беспокойная змейка честолюбия не унималась.
Внезапно умирающий приподнялся и широко открыл глаза. Он смотрел прямо перед собой и, быть может, созерцал то, что оставалось невидимым для окружающих.
Взгляд был радостен и светел.
Затем старец упал на подушку и вытянулся.
Глубокий вздох вылетел из груди, и больше она не поднялась.
Отец Митяй закрыл Требник и промолвил, крестясь:
– Царство небесное.
Иван, плача, припал к недвижной груди отца.
Он скорбел, скорбел неподдельно, а в мозгу проносилось:
«Теперь я – тысяцкий!»
Несколько часов спустя умерший уже лежал на столе под образами.
Чтец-монах уныло, нараспев, читал псалмы; двое других монахов трудились в сенях, при свете фонарей, над «колодой» для покойника, которая нужна была непременно уже к утру: назавтра должно было состояться погребенье – в те времена не принято было выжидать, как ныне, трёх дней.
Молодой Вельяминов хотел провести последнюю ночь с тем, кто при жизни звался его отцом.
Он присел в уголку на лавочке и в грустном раздумье смотрел на колеблющееся пламя свечей.
Теперь он был один, совсем один на свете... Мать давно умерла, братьев, сестёр он не имел. Не было даже дядей и тёток, двоюродных братьев и сестёр Один!.. Это его и пугало, и радовало. Радовало, что он свободен, как ветер! И пугало, когда ему вспоминалось, что один в поле не воин. Но тут же он успокаивался при мысли:
«А с кем воевать?»
Будущее казалось ясным. Он станет тысяцким, будет в почёте и власти.
Даже свои ратные люди будут... А разве этого мало? Сам – что князь...
И честолюбивые думы наполняли голову, отгоняя грустные.
От зажжённых лампад и свечей в келье было жарко и душно Юношу клонило ко сну; он перемогался, но сон морил.
Он негодовал на себя.
«Нешто можно спать в такую ночь?»
Но природа брала своё. Дрёма охватывала.
Он прижался к уголку. Г олова стала клониться.
Мечты и тоска слились в одно. И это «одно» было чем-то смутным. Чем-то смутным и неопределённым.
Но потом блеснул свет, перед которым померкли свечи. Словно кто-то унёс их в высь недосягаемую. Они двигались медленно, а следом за ними уносились грёзы Ивана Вельяминова.
И вдруг свечи померкли. И наступил мрак.
Что-то сверкнуло во мраке; точно стрела молнии проблеснула и смеркла.
И опять тьма, но полная жизни Точно тысячи незримых духов вьются кругом.
Даже слышен шум их крыльев. Даже видно, как светится в темноте серебристое оперение.
«Что за диво? Куда я попал?» – спросил себя Иван.
А шуму всё больше... Сверканье крыльев всё сильнее.
«Али это призраки? Знаменье!»
Вдруг яркий сноп лучей прорезал мрак, свет был так силён, что его не могло вынести зрение.
Серебристые духи пали ниц. И откуда-то с выси, вернее, из выси высот, послышалось пение, от которого «таяло сердце».
– Слава в вышних Богу... – пели сладостные голоса.
И в это время юный Вельяминов услышал шёпот.
Он узнал, кто говорит: его отец.
– Сладко тебе, сыне... – лился шёпот, – уже ли от этой сладости уйдёшь? Гони лукавого... Я – в обители горней... Судил меня Господь милостью не по грехам моим... Приходи ко мне.
– Батюшка, оставь меня с собой! – как бы восклицает Иван Васильевич.
– Поживи, заслужи. Пути Господни неисповедимы.
– Как мне жить?
– Сие Христос заповедал. Гони лукавого... Он вьёт гнездо в твоём сердце...
Шёпот смолк.
Постепенно затихло пение.
Снова мрак.
Тишина жуткая, таинственная.
Что-то проблеснуло багряное... Померкло – и вдруг разлилось целым морем пламени. Огненные языки вздымались, как волны... Всё выше, выше; казалось, они достигнут до неба – чёрного, без проблеска.
Потом огненная пучина раздалась, словно раскололась. Из середины поднялся гигантский, блистающий трон.
Страшен был сидящий на нём.
Его глаза метали молнии. Венец из кроваво-красного пламени покрывал голову.
Лицо было черно, как земля. Алые губы искривлены зловещей улыбкой.
Задрожал от ужаса Иван.
– Кто ты? – спросил он замирающим голосом.
В раскатах грома послышался ответ:
– Имя мне – Сатана. Я твой помощник и повелитель... Служи мне...
И вдруг захохотал, и огненные волны всколыхнулись от его хохота:
– Ты уже мой!
И откуда-то снизу, из-под пламенного покрова как вздох тысячи тысяч глухо донеслось:
– Ты – наш.
Волосы зашевелились на голове Вельяминова.
Он хотел перекреститься – рука не повиновалась ему.
– Боже! Спаси, – воскликнул он... и проснулся.
Чтец-монах стоял перед ним и с испугом смотрел на него.
– Чтой-то ты, батюшка, как кричал, – сказал он.
– Привиделось такое, что просто страсти, – ответил Иван, вытирая холодный пот.
– А ты помолись: это лукавого навожденье.
Монах снова принялся за чтение.
Вельяминов встал и подошёл к телу отца. Он приподнял ткань, закрывавшую лицо покойника. Василий Васильевич как будто спал, выражение лица было безмятежно-спокойное.
Сын прильнул устами к холодному лбу отца.
– Батюшка! – зашептал он. – Обещаюсь тебе не впадать в соблазн. Получу власть – буду добрым господином... Как отец буду для рабов своих... Голодного – накормлю, бесприютному дам пристанище... Все несчастные будут ближними мне... Не дам поселиться в сердце моём злобе и корысти... Смирю гордыню мою...
Он шептал, и что-то вроде умиления наполняло его душу. Лились слёзы тихие, умиротворяющие.
Иван Вельяминов говорил искренно; он действительно хотел так жить, как клялся над безжизненным телом отца. Ему казалось, что он сможет исполнить свой обет.
II. ПО ВОЛЕ КНЯЖЕСКОЙ
Тысяцкий был слишком важным лицом в Москве, чтобы его смерть прошла незамеченной. Поутру о кончине Василия Васильевича знал уже весь город, и к Чудову монастырю спешили и стар и млад, и знатные князья да бояре, и простолюдины.
Перед кельей почившего старца колыхалась целая стена разного люда, а внутри келейка была полным-полна.
Стечение народа было тем более значительным, что ожидался приезд великого князя московского Дмитрия Иоанновича.
Для юного Вельяминова это утро было началом его торжества. На него уже все смотрели как на преемника умершего тысяцкого. Бояре рассыпались перед ним в любезностях и, хваля добродетели покойного, не забывали похвалить и самого Ивана; обращаясь к нему, они уже прибавляли почётную частичку «ста», на которую имели право только люди «больших чинов»: другие должны были довольствоваться лишь прибавкой «су», а то даже и на неё не могли рассчитывать[6]6
Частица «ста» всегда прибавлялась к имени боярина 1-й степени и окольничего; боярину 2-й степени прибавлялась частица «су»; остальных именовали без прибавки.
[Закрыть].
– Сделай милость, Иван-ста Василич, уважь, в мой домишко загляни, – приглашал его какой-нибудь седобородый боярин.
И это «ста» и само приглашение приятно щекотали самолюбие юноши.
Когда он выходил из своей кельи, стоявший на дворе люд приветствовал его низкими поклонами:
– Здравствуй, батюшка Иван Васильевич!
Все головы обнажались как по приказу.
Высоко вздымалась при этом грудь Ивана, глаза радостно блестели. В эти мгновения он забывал даже утрату отца; грусть сменялась чувством удовлетворённого мелкого тщеславия.
Вельяминов тихо разговаривал с каким-то боярином, когда извне донёсся шум голосов.
– Верно, великий князь! – воскликнул Иван Васильевич и побежал к выходу.
За ним гурьбой пошли бояре; поп Митяй поспешно облёкся в ризу и с крестом в руках вышел вслед за другими.
Странным человеком был Митяй. Несмотря на то что он состоял только священником небольшой церкви села Коломенского, то есть был скромным сельским пастырем, змейка честолюбия свила себе прочное гнездо и в его сердце. Часто он мечтал о почестях, о власти и, сознавая, что едва ли ему возможно этого добиться, негодовал на судьбу. Что-то горделивое было в его красивом лице. Быть может, основой его гордости было то, что он действительно выделялся по уму, по образованию из ряда других служителей алтаря того времени, в большинстве едва грамотных.
Он знал кое-что по-гречески, имел возможность читать поучения святых отцов и, обладая прекрасною памятью, некоторые знал наизусть, как, например, сочинение святого Дионисия Ареопагита о небесной иерархии.
Кроме того, он был красноречив, и на его проповеди народ стекался толпами.
Поэтому отец Михаил чувствовал себя выше других, а тщеславие подсказывало, что он мог быть не простым попом.
Он жаждал случая выделиться, отличиться чем-нибудь.
Иван Васильевич не ошибся: подъезжал великий князь Димитрий Иоаннович. Он ехал верхом на белом коне покрытом богатым чепраком. За ним следовали также верхами несколько приближённых бояр.
Когда Димитрий Иоаннович остановил коня, Иван Васильевич подбежал и поддержал князево стремя.
– Тоскуешь, чай? – сказал великий князь, легко спрыгнув с седла. – Что поделать! Божия воля. Жаль его очень – хороший был старичок. Ну, веди меня в келийку.
В сенях перед кельей его встретило монастырское духовенство и Митяй.
Пользуясь преимуществом духовника покойного, отец Михаил никому не хотел уступить чести поднести великому князю крест для целования и окропить его святою водой, и, едва показался Димитрий Иоаннович, сопровождаемый Вельяминовым с боярами, он выступил вперёд и осенил крестом князя.
Великий князь благоговейно приложился к кресту, потом с любопытством взглянул на Митяя: он был очень богомолен и знал всех духовных лиц Чудова монастыря, но лицо отца Михаила было ему незнакомо.
– Ты что, батюшка, верно, недавно в сей обители? – спросил он.
– Я не отсель, великий княже. Я из села Коломенского... Духовник я покойного... – с низким поклоном промолвил Митяй.
– Так... То-то мне и лик твой не знаком, – сказал Димитрий Иоаннович и ещё раз окинул взглядом отца Михаила.
Ему понравился этот высокий священник с красивым, умным лицом, медлительной, тихой речью.
– Пойдём помолимся о почившем, – сказал князь.
Все прошли в келью.
Прозвучали скорбные слова панихиды.
Потом гроб подняли и понесли в собор. В числе нёсших был сам Димитрий Иоаннович.
На заупокойную обедню и отпевание в храм прибыл сам владыка – святой митрополит Алексий. Он был уже очень стар – ему шёл девятый десяток, – но, хотя стан его сильно согнулся, хотя руки старчески дрожали, глаза были ясны, как у юноши, и светились кротостью и умом.
Торжественно раздавались по храму слова молитв.
Усердно молился коленопреклонённый великий князь. Усердно молился и Иван Васильевич. Но его молитве мешали суетные думы.
Он жаждал скорейшего окончания богослужения, чтобы, когда прах отца будет скрыт земным покровом, услышать из уст княжеских утверждение в высоком звании тысяцкого.
«Превыше всех бояр стану!» – бродила в голове Вельяминова тщеславная мысль.
Закончилась литургия, за ней последовало короткое отпевание; простились с тем, кто недавно ещё был московским тысяцким.
Глухо ударили молотки, заколачивавшие гроб.
«Земля еси ив землю отыдеши...»
Молчание царило в храме...
Святой Алексий, муж учёнейший, в совершенстве знавший греческий язык и знакомый с латынью, смотрел сосредоточенно-спокойно на гроб и всё повторял про себя классическую фразу, полную глубокого смысла и так хорошо сознаваемую и передаваемую русским народом:
«Hodie tibi, eras mihi».
И, может быть, у каждого молящегося в мозгу шевелилась та же мысль, только, конечно, выражалась она не на мёртвом языке, а на живом:
«Сегодня тебе, завтра мне».
И у всех, даже у врагов покойного (и он имел врагов! кто не имеет их!) тихой грустью щемило сердце.
Иван Васильевич плакал, как женщина. В этот – и, быть может, только в этот миг – оставили его честолюбивые помыслы.
Он страдал, невыносимо страдал душевно.
Он глубоко верил, что отец его будет блаженствовать в обители высших, что оплакивать судьбу почившего нечего – он счастлив, но ему-то, Ивану, человеку из плоти и костей, была невыносима разлука.
Он готов был разбить себе голову о дубовую крышку гроба-колоды.
В минуту его величайшей скорби к нему приблизился Димитрий Иоаннович и положил руку на его плечо.
– Ты не изводись, – сказал великий князь, – всем нам то же будет... Тело что? – тлен, прах... А душа у него была чиста. Господь возлюбил его... Он в обителях райских за нас грешных теперь молится... Ты не сокрушайся – «там» свидитесь... А пока ты жив, я тебя не забуду. Я дам тебе вотчину богатую, в бояре возведу... Ладно ль? Вестимо, тысяцким ты не будешь, потому зачем, правду-то сказать, тысяцкие? Но всем ты от меня обеспечен будешь... Не убивайся, молодец!
И князь, ласково потрепав его по плечу, отошёл.
Иван Васильевич и точно перестал сокрушаться. Грусть как рукой сняло. Слова князя вернули его на землю и ударили как ножом в сердце.
«Вестимо, ты не будешь тысяцким...» Это был приговор, страшный приговор для юного Вельяминова.
Всё его существо было потрясено.
«Отец в обителях райских... Ему, конечно, хорошо. А я живу... Почему я не могу быть тысяцким, ежели он был? «Зачем тысяцкие?» Зачем?! Да мне это надобно. Мне!»
В своём волнении он не слышал, как заколотили последний гвоздь в крышку гроба.
Но зато хорошо слышал Митяй. Он, испросив благословение у владыки, предстал на амвоне печальный и безмолвный.
Все глаза обратились к нему.
Он выжидал. И только когда прозвучал последний удар молотка, заговорил...
Речь его лилась, как ручей с отлого холма: не быстро, но неудержимо. Он хотел сказать её для князя, но когда начал говорить, то в душе его поднялось и закипело всё лучшее, что в ней таилось. И речь его была поистине вдохновенной.
Он говорил, – и был искренен в это время, – что человек не должен «прилепляться» к земному, что настоящая отчизна людская не здесь, на тёмной земле, а там – за пределами, не доступными оку человеческому. И не только оку, но и уму. Разве поймёт даже великий ум человеческий райские блаженства, которые заключены в созерцании Божества? Разве это достижимо? Только светлыми душами может быть понято это блаженство. А много ли их, светлых душ? Убивающий плоть пустынник стремится не к убийству своего тела (это делают и самоубийцы), а к возвышению духа над телом. Но подвижник, питая душу, хранит и тело своё. Потому что и оно не только «очаг страстей», но и подобие Божие. Он, святой, не станет уродовать себя – он не выколет себе глаз, он не лишит себя слуха – потому что Господь сотворил человека не бестелесным, и каждый, посягающий на жизнь тела, посягает и на определение Божие... Почему отшельники и святые люди долго живут? Восемьдесят, сто лет – заурядный возраст для подвижников. Ответ ясен: потому, что они приближают свою плоть к первоначальной чистоте, к той чистоте, в которой явился первобытный человек, к чистоте Адама до его грехопадения. Святые не убивают, но восстанавливают плоть такою, какою она должна быть, если исключить всё то, что мешает её естественному развитию, то есть всякие излишества, роскошь, лень...
Долго говорил отец Михаил, и каждое слово его находило отклик в сердцах молящихся.
Многие плакали, на глазах Димитрия Иоанновича блестели слёзы.
Всем было и грустно и сладко, потому что в эти мгновения, в душе мелькнул божественный свет. Дух жаждал очищения, стремился на свою небесную родину.
Один только человек составлял исключение среди молящихся.
Это был Иван Васильевич.
Он стоял бледный как смерть, с воспалёнными сухими глазами. Едва ли он слышал речь Митяя. Для его души не мелькнул проблеск божественного света: в ней была злоба и мрак. Он чувствовал себя обиженным, оскорблённым.
Когда настала пора нести гроб к месту вечного упокоения, Вельяминов шатался, как хмельной.
Это приписали его горести по умершему отцу. Его жалели:
– Эх, убивается, бедный!
– Изводится. Да ведь и то сказать – отца родного хоронит.
На могиле великий князь вновь пожалел его, подтвердил своё обещание «не забыть его», но снова повторил, что чин тысяцкого он решил уничтожить, как совершенно излишний.
Слова князя слышали окружающие бояре, и отношение их к молодому Вельяминову разом переменилось. Куда делись их медовые речи! Их заменило ледяное молчание да насмешливые улыбки.
Кое-кто перешёптывался, кивая в сторону Ивана Васильевича.
Всё это заметил Вельяминов, и злоба с удесятерённой силой закипела в сердце.
«Добьюсь своего, не мытьём, так катаньем... – думал он, стиснув зубы. – А не станет по-моему, так отплачу же я князю-ворогу».
А Димитрий Иоаннович между тем, не предчувствуя, что рядом с ним стоит заклятый враг, спокойно беседовал с владыкой, и когда могила была засыпана, сделал знак Митяю подойти.
– Красно говоришь ты, батюшка, – сказал ему великий князь, – почаще слушать тебя хотелось бы... Как тебя звать, отец?..
– Михаилом, государь княже...
– Умилительно говоришь... Тебе не в селе Коломенском сидеть... Мы сие устроим...
И, ласково кивнув ему головой, Димитрий Иоаннович принял благословение от святого Алексия и удалился с погоста.
Дольше всех оставался у могилы Иван Васильевич; он упросил распорядиться поминками, которые были устроены в его доме у Покрова, одного из своих приятелей, а сам остался у могильного холма и, когда все ушли, кинулся лицом на землю и зарыдал озлобленно, отчаянно.
– Батюшка! Слышишь ли меня? – взывал он. – Меня обидели, отнимают твоё наследие.
Но безмолвна была могила. Только ропот берёз, шелестевших пожелтевшей листвой, смешивался с причитаниями юноши.