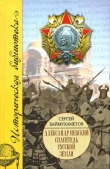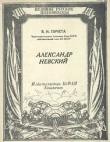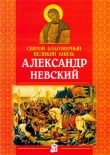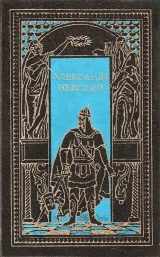
Текст книги "Александр Невский. Сборник"
Автор книги: Н. Чмырев
Соавторы: Францишек Равита,В. Кельсиев,Л. Волков,В. Клепиков,Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 41 страниц)
X. ОРДЫНСКИЕ ЗАМЫСЛЫ
Когда Узбеку доложили об убийстве великого князя всея Руси великим князем тверским, он только плюнул с досады, – так ему надоела эта борьба москвичей с тверичами.
– Пусть их режутся, – сказал он. – Юрий отца убил, Дмитрий отомстил за отца. Хоть бы все они перерезались, право, стало бы легче.
– Так никаких распоряжений насчёт Дмитрия? – спросили его.
– Никаких.
Тверичи и рязанцы поняли это так, будто Узбек доволен убийством Юрия, и мигом закричали по всей Орде, что Дмитрий в большой чести у царя и что москвичи с новгородцами теперь пропали.
Тверичи бродили по Орде с песнями, с ликованием, задирая москвичей и новгородцев, которые сильно трусили, – особенно когда возникло дело Иванца и Романца, двух Юрьевых отроков, убийц Михаила Тверского и Константина Романовича Рязанского. Иванец был уже маленький седенький человек, с реденькой бородкой, с мышиными глазками, сухой, сутуловатый, скромный на вид, подобострастный, но такой же большой гуляка, как Романец, – дюжий, белобрысый человек, с широкими плечами и сильно развитыми мускулами. Юрий всюду брал этих двух молодцов, – во-первых, потому, что они были ему преданы душой и телом, а во-вторых, он знал за ними такие дела, за которые их мало было повесить. Первым движением их, когда они узнали, что их покровитель погиб, было броситься к Чол-хану и сказать, что они принимают мусульманскую веру. Чол-хану это показалось подозрительным, и он стал допрашивать Иванца и Романца. Они раскрыли ему множество тёмных дел Юрия, и из показаний их вышло, что некоторые новгородские бояре, несколько рязанских да один московский померли не свой смертью. Тверичи, прознав про это, стали требовать для Иванца и Романца пытки, надеясь, что под пыткой те ещё много чего расскажут о Юрии. Однако пытка раскрыла такую массу интриг и замыслов, и доказала такую непримиримую ненависть к татарам и Юрия и Дмитрия, что в Орду были созваны все представители улусов, и началось совещание, как поступить с Дмитрием. Дмитрия обвиняли и в том, что он сел в переговоры со своим тестем Гедимином, – и только понял Грозные Очи, что сделал большую ошибку, убив своего противника. Удар топора выпустил тайну на свет Божий – и она сделалась его обвинительницей. Вновь Орда повернулась к новгородцам и москвичам. Дмитрий не спал, не дремали и бояре его, а хан всё откладывал окончательное решение его дела.
Марина тем временем тихо угасала, но вместе с нею угасала и Баялынь. Внезапное известие о смерти Юрия и дикий, безумный смех Марины, раздавшийся сразу после этого, – всё это так сильно подействовало на болезненную Баялынь, что у неё началась горячка, и как ни кружили около неё волхвы багдадские и ганзейские доктора, она вскоре умерла. Смерть Баялыни была смертным приговором Дмитрию Г розные Очи и его приятелю Александру Новосильскому. Чол-хан, тогдашний любимец и правая рука Узбека, первый потребовал казни тех князей, во-первых, как самоуправцев, нарушителей воли царской, во-вторых, как людей, сильно приверженных к христианству и склонных к измене Орде с Литвой, с которой воевали степняки в верховьях Дуная.
Дмитрия Михайловича заковали точно так же, как и отца, надели на него и на Новосильского колодки, судили, и 15 сентября 1325 года те же самые Иванец и Романец, в сопровождении Чол-хана, вырвали на реке Кандраклее у них сердца.
А тело Юрия Даниловича велено было отвезти на Русь и похоронить его в Москве. Хоронил Юрия Даниловича сам преосвященный Пётр, митрополит киевский и всея Руси, и тогда же заложил он у двора, построенного ему Иваном Даниловичем, первую каменную церковь московскую: Успения Пресвятой Богородицы. Вскоре и сам Пётр скончался и был похоронен в Москве, куда перенёс престол митрополичий из Владимира.
Новый митрополит, поставленный для русской церкви в Цареграде, грек Феогност, поехал уже прямо в Москву к Ивану Даниловичу. Сам Иван Данилович (у которого в этом же году родился сын Иван, впоследствии великий князь и отец Дмитрия Донского) был тогда в Орде, где тягался с Александром Михайловичем за великое княжение всея Руси, – и было горько ему, что Чол-хан держит руку тверских. Очень не понравилось Ивану Даниловичу высокомерие и бойкость тверского его соперника – и понял он, что борьба с Тверью только кровью может кончиться.
А в Прасковьиной веже были плач и рыдание. Священник читал отходную умиравшей Маринке.
– Ласточка ты моя, касаточка, цветочек ты мой лазоревый! На кого ты меня, старую, оставляешь? На кого ты меня, сироту, покидаешь? Зачем твоя душенька от нас отлетает, старую меня забывает? – рыдала Прасковья.
Русалка тоже причитала, но делала это машинально, потому что обряд требовал. Со смертью Дмитрия и Баялыни она замкнулась в себе и всё воспринимала равнодушно. Она была возведена Узбеком в звание царевны, но и это её ничуть не обрадовало, и в конце концов старуха и девушка выпросили себе у Узбека как особую милость поселиться в вежах старика мурзы Чета – тот принимал христианство и ждал удобного времени, чтобы креститься и перебраться на Русь.
А Чобуган хмурился, кусал усы; ему было невыносимо тяжело. С каждым днём пропадала у него вера в Орду; он не мог равнодушно слышать христианского напева и в веже своей, под войлоками, стал держать крест с частицею животворящего дерева.
XI. УСПЕНЬЕВ ДЕНЬ 1327 ГОДА
Давным-давно замечено, что все великие события на свете происходят от малых причин: участь тверского княжества решилась в день Успения Пресвятой Богородицы, 14 августа 1327 года, по милости дьякона Дюдко и пьяной бабёнки Аринки, жившей в самой дрянной избушке, на самом дрянном конце стольного города Твери.
«Кто празднику рад, тот со свету пьян». Для Аринки каждый день был праздник, а Успенье и подавно; она уже с вечера выпила столько браги и мёду у разных покровителей, сильно развеселилась и плясала перед татарами, тоже подвыпившими, несмотря на мусульманство. Аринка плясала, пела и до самого утра не могла протрезвиться. Но тверичи в этот день были угрюмы. Каждый, кто шёл в церковь, особенно старательно запирал дворовую калитку, спустив предварительно собак с цепи, и у каждого под плащом были топор, меч или нож.
Целую неделю до горожан из боярской думы доходили вести нехорошие. Щелкан хвалился, что только его добродетелями и старанием возведён на великокняжеский престол всея Руси Александр Михайлович, что только им Тверь и держится, но что он вместе со своим дядей Узбеком не доверяет русским князьям, и потому в Орде решили управлять Русью татарами. Пусть только шевельнутся ваши князь, – говорил Щелкан боярам пусть только попробуют, мы всех их перебьём, а князьями на Руси сделаемся мы сами.
– Да наши князья, – говорили Щелкану тверские бояре, – народ всем покорный.
– Кабы покорный они были народ, – возражал желчный Щелкан, – давным бы давно в бусурманскую веру перешли.
– Не трогай ты нашей веры, посол царский, – говорили ему великий князь, и бояре, и владыка тверской Варсонофий. – Мы в эту веру бусурманскую не пойдём.
Собирались бояре у великого князя, собирались у владыки, у тысяцкого собирались торговые сотни, между собой переговаривались, и никогда в Твери так ярко не горели свечи перед иконами, никогда пост так строго не соблюдался и никогда не сыпали так искрами оселки и напилки оттачивая ножи, мечи и топоры.
Всё мог стерпеть, всё мог вынести русский народ: поруганье жён, дочерей, сестёр, постоянное избиение русских князей в Орде, но насильного обращения в мусульманство он бы не вынес. Тысяцкий оповестил горожан, чтобы, не подавая виду и не затевая драки, были бы на всякий случай готовы к ярморочному дню; а между тем татары, более на словах грозившие мусульманством, чем серьёзно думавшие об обращении русских в веру Магометову, вели себя на Твери буйно и нахально.
Щелкан приехал в Тверь с огромной свитой. За их содержание и проезд должны были платить великие князья всея Руси. Это бы ещё ничего, но вечно грязные, вечно пьяные татары портили на улицах всё, что могли испортить, сшибали коньки с крыш, замки в воротах ломали, за скотом гонялись, собак били, прохожим давали подзатыльники. Тверичи всё терпели, потому что терпеть от татар вошло уже в привычку, покуда баба да дьякон не разрубили гордиев узел.
Народ шёл в церковь угрюмый, смирный, сторонился татар, не отвечал ни на пинки, ни на брань, ни на насмешки. Арина, чуть ли не единственная женщина на этой далёкой улице, просила у прихожан на выпивку, а татары, сидевшие у ворот и на заборах, смеялись над ней и что-то кричали по-своему. Арина улыбалась им, раскланивалась, а прохожие все шли к небольшой бедной церковке Покрова Пресвятой Богородицы, и вдруг в толпе раздался крик. Арина стояла бледная, выпучив глаза и с развалившимися жидкими косами.
Какой-то татарин, сидевший у ворот и державший хворостину, смеясь, ударил её по кике, – кика слетела, Арина закричала, прохожие остановились в ужасе.
– Батюшки светы!.. – кричала она, схватившись руками за голову. – Христиане православные, опростоволосили меня, опростоволосили перед целым миром! Что же это будет? Пропала моя голова!
Она подняла с земли камень и запустила в татарина; татары, не знавшие, что сорвать с женщины головной убор – это значит, в глазах русских, смертельно оскорбить её, хохотали, а один из них бросил в лицо бабёнки ком грязи.
Арина взвизгнула и пустила в татарина ещё камнем; камень попал в плечо одному низенькому старому татарину – тот вскрикнул, одним прыжком очутился возле Арины и вцепился ей в волосы.
– Батюшки светы, народ православный! Режут мучители!
Толпа стояла молча... Вдруг из неё выдвинулся молчаливый Суета и, сказав: «Беспутница!» – снял шапку, перекрестился на крест церкви, видневшейся в конце улицы, ровным шагом подошёл к Арине и таскавшему её за волосы татарину, поднял кулак, опустил его на шею татарина – и тот как сноп повалился на землю, закативши глаза.
В толпе татар раздался дикий вопль – и несколько человек выскочило на улицу. Только размахнулся один высокий рыжий татарин на Аринина защитника, как тот пырнул его ножом в брюхо, поддал коленкой, и татарин свалился, Арина бросилась к татарину, выхватила у него саблю и треснула по плечу другого.
Вновь раздался крик татар, ворота их двора растворились, и несколько длинных стрел прожужжало мимо русских. Русские топоры поднялись – и навстречу им замелькали длинные татарские копья с крюками.
Какой-то старик с топором в руках крикнул: «За мною, христиане православные!»– и бросился к воротам татарского двора. Человек двадцать кинулось за стариком. Тяжёлые русские мечи и топоры рубили татарские копья и оттесняли татар от ворот. Татар было человек двадцать, русских до двухсот, но в таком узком переулке силы их были равны. Не прошло и пяти минут схватки, как передовая стена русских сменилась другой, уже вооружённой щитами, в шлемах и панцирях. Везде распахивались ворота, отовсюду бежали вооружённые люди, а ничего не ожидавшие татары отступали со своими копьями и саблями. С заборов и крыш сыпались на них стрелы и камни.
– За дом Святого Спаса! – кричали русские. – За веру христианскую, за народ православный! Вот вам собаки-бусурманы!
В маленькой церкви Покрова Пресвятой Богородицы зазвучал набат, ему вторил набат в соседней церкви Святителя Николая, и так пошло по всему городу, – и отовсюду, из всех ворот, из всех закоулков, сыпались вооружённые русские, становясь на перекрёстках, делая завалы и засеки.
В это же время, на другом конце города, на самом берегу Волги, из ворот очень красивого двора выходил отец дьякон соборной церкви Спаса Преображения Дюдко и вёл за собою на водопой кобылу.
Дюдко ростом был с знаменитого измайловского тамбурмажора, в плечах косая сажень. Когда хотели узнать, крепко ли что сделано, выдержит ли лук и не порвётся ли тетива, не сломится ли древко боевого топора, – звали Дюдко; крепко ли сваи вбиты – спрашивали его: он был единственным авторитетом. Ко всему тому он был человек очень смирный, кроткий и тихий. В силу ярлыка, данного митрополиту Петру, двор Дюдко был свободен от татарского постоя. Это не нравилось Щелкану и его приближённым, потому что дворы соборного духовенства были из лучших в городе.
Но кроме того, что двор Дюдко, поставленный в лучшей части города, близ великокняжеских хором, вечевой площади, боярских дворов и каменного дома тысяцкого, возбуждал зависть татар, ещё пуще их задорила историческая Дьяконова кобыла.
За небольшие деньги купил Дюдко эту кобылу ещё жеребёнком у одного ливонского рыцаря. Кобыла эта была из породы нормандских лошадей, тяжёлых на ходу, копытом закрывающих тарелку и возивших железных рыцарей на войну. Дюдко вырастил её и строил на её счёт множество планов.
По жеребёнку от неё думал он дать в приданое своим дочерям, и в случае войны с басурманами сам на неё сесть, для чего и заказал себе огромный боевой топор, пуда в три весом.
Каждый день выходили татары смотреть, как дьякон водит кобылу на водопой. Давно уж задумали они подтибрить эту кобылу – и, как на грех, именно в Успеньев день, 15 августа, решили это сделать.
Едва взошло солнце из-за Волги, как загремели засовы дьяконских ворот и Дюдко босиком, творя крестное знамение и кланяясь на все четыре стороны, вышел с кобылой. Не успел он сделать и пяти шагов, как вдруг раздался татарский крик, – и между ним и кобылой скользнуло несколько человек. Один из них на бегу пересёк саблей недоуздок, другой вскочил на кобылу и ударил её пятками. Взлелеянная в стойле кобыла, выходившая на улицу только со своим хозяином, испугалась, взвилась на дыбы, ударила задом и сшибла татарина, который скатился назад. Кобыла ударила ещё раз, откинула его сажени на две в сторону и как вкопанная стала на месте, тяжело дыша и дико поводя глазами, налившимися кровью. Другой татарин вскочил на неё, но в ту же минуту Дюдко взмахнул руками: одна татарская голова стукнулась о другую, третий со стоном и вывихнутою челюстью повалился на землю. Четвёртого Дюдко поймал за шиворот и бросил его как кошку на остальных. Дюдко пошёл грудью на оставшихся и закричал оглушительным басом:
– Сюда, христиане православные, не давайте изобидеть церковь Божию!
Взял Дюдко свою кобылу одной рукой за холку, а другой рукой и ногами стал отбиваться от татар, те падали как снопы около богатыря-дьякона, но вставали с ножами в руках; дьякон прислонился спиной к кобыле, ударил одного татарина левым кулаком, правой выхватил у него нож – ив одно мгновение рассёк ему шею от уха до уха. Злобно гикнули татары, – и растворился занятый ими двор боярина Куска, и несколько человек татар с длинными копьями побежали к месту схватки. В ту же минуту, заслышав голос дьякона, дьяконица спустила с цепи шестерых огромных псов и растворила им калитку; татары дрогнули перед новым неприятелем, от которого и бежать было некуда. Они рубили псов саблями, кололи ножами, – псы только рычали и стервенели.
Вдруг через голову дьякона, мимо уха его, зажужжали стрелы. Одному татарину вышибло глаз, другому стрела в голову впилась, – на помощь дьякону шёл пономарь Вавила, гнусивший что есть мочи: «С нами Бог, разумейте языцы и покоритеся».
– Томиловна, – крикнул дьякон, – дай мне сюда топор!..
Он отступил вместе с кобылой к своей калитке; та калитка растворилась, дьяконица подала ему топор и снова захлопнула её.
Отовсюду уже татар валило видимо-невидимо, их остроконечные шапки мелькали, копья светились; они кричали, что русские хотят избить их.
– Да воскреснет Бог и разойдутся враги его! – заорал громовым голосом дьякон, влезший с топором на кобылу, – и голос его поднял всю пристань: всюду замелькали железные шлемы, боевые топоры, красные щиты из жёстких сыромятных кож, засверкали в воздухе обоюдоострые мечи.
Вдруг среди крика, бестолкового боя набата раздался серебристый и протяжный, резкий звук, знакомый каждому тверичу, – это ударил вечевой колокол со спасовской колокольни.
«Вот оно – начинается!» – подумал каждый в душе.
Татары переглянулись: им стало страшно; вечевой колокол никогда не звонит по пустякам; где раздаётся его серебристый голос, там дело перестаёт быть личным и уже речь идёт не о дьяконе Дюдко и не о пьяной бабе Арине, а о целом Тверском великом княжестве. Вечевой колокол редко звучал в те времена.
С каменного помоста, на котором висел у собора этот колокол, сняв шапку и крестясь, сходил Парамон Семёнович, тверской тысяцкий...
Распахнулись ворота хором великокняжеских, занятых Щелканом, и оттуда выбежал его переводчик, обусурманившийся русский, Мустафа; за ним сломя голову летело человек двадцать татар, телохранителей царского посла.
– Стойте, стойте! – кричал Мустафа. – Посол царский не велит звонить! Как ты смеешь звонить без воли царского посла?
Тысяцкий медленно сходил с помоста, как будто не слыша и не видя никого.
– Вязать его!.. – приказал Мустафа, подбегая к тысяцкому и кладя ему руку на плечо. Татары стали снимать ремни.
– Пойди, Мустафа, к господину послу царскому и скажи ему, что пусть он сам на вече придёт и даст отчёт христианам православным, зачем он дозволяет своим татарам грабить и кровь проливать людей невинных, верных слуг царских.
– Вязать его!.. – кричал Мустафа. – Что же вы его не вяжете?
Он оглянулся, татары были окружены русскими.
– Отвести их назад, – сказал тысяцкий, – и пальцем их не трогать. Проводите их Щелкану с моим ответом.
Весь в парче, в сияющих латах, в золочёном шеломе, показался князь с детьми боярскими. Рука об руку с ним шёл владыка Варсонофий. Бояре шли со своими отроками, соборный протопоп шёл с крестом, а со всех сторон валило видимо-невидимо народу. Поклонившись князю и владыке, тысяцкий впереди них взошёл на помост и стал у колокола. Князю и владыке принесли вызолоченные кресла, бояре сели по верхним ступеням.
Тысяцкий опять ударил в колокол; все сняли шапки, перекрестились и опустились на колени.
Начался молебен. Протискиваясь сквозь толпу, добрался до помоста Мустафа с бумагой в руках и, не снимая шапки, принялся подниматься по ступеням. Его остановили.
– Ты сам знаешь, – сказал ему тихо один боярин, – что когда Богу молятся, так всякое дело откладывают.
Мустафа начал ругаться, но, несмотря на то что он называл христианство свиной верой, никто не прерывал его, никто будто не слышал, и как он ни кричал, как ни бранился, как ни грозил гневом ханского посла – молебен шёл своим порядком. И когда князь и бояре приложились к кресту, а соборный протопоп окропил народ святой водой, только тогда два дюжих отрока взяли Мустафу под руки, взвели его на помост и поставили на среднюю ступеньку, как он ни рвался на самый верх.
– Ты не горячись, – сказал ему великий князь, – наверху место только послам царским, а ты послов посол, если тебя сюда пустить, то господина твоего, Щелкана, куда же мы поставим, разве на колокольню посадим! Что за письмо принёс?
– А то, – сказал Мустафа, – что если вы сейчас не разойдётесь, так Чол-хан велит вас всех перебить, а Тверь вашу выдаст московскому Ивану Даниловичу или сам сделается тверским князем, а вместо ваших бояр ордынских князей поставит.
– Это всё тут написано? – спросил вечевой дьяк, принимая свиток из рук Мустафы.
– Тут написано по-татарски, а вот и перевод, – сказал Мустафа.
– Читай, – сказал дьяку князь.
Дьяк начал:
– «Собаке нечестивому, свиноеду, крамольнику, противнику великого царя, господина моего Узбека хана, посол его Чол-хан посылает тот лист, говоря: ежели ты, собака, бывший тверской и всея Руси великий князь Александр, сейчас же верных царёвых слуг и великой басурманской веры поборников избиение не прекратишь, собачьего крамольного собрания не разгонишь, всех виноватых не перевяжешь, пятьсот рублей серебра не принесёшь, оружия не отдашь и на двор ко мне на мой суд и на милость не придёшь, то я сейчас же всех вас перебить прикажу, город ваш истребить, жён и детей в полон взять велю!»
Дьяк прочёл это письмо твёрдо, громко, во всеуслышание и, поклонившись, отдал князю.
– Моё слово такое, – сказал князь. – Поди ты к послу и скажи ему, что если ему жалко крови человеческой, так пусть он сейчас же усмирит татар и сдастся мне в плен! Держать я его буду как следует; обиды ему и татарам его мы никакой не сделаем, а я завтра же еду в Орду и предстану пред ясные очи самого великого царя, расскажу ему, что здесь его посол делает. И скажу царю, что все мы – его слуги верные, но издеваться над холопами его мы не позволим и за веру нашу постоим!
– Точно, точно! – раздались из толпы голоса.
Мустафа плюнул, повернулся и пошёл в великокняжеские хоромы. Все молчали.
– Эх, беда будет! – сказал шёпотом князю епископ.
– Знаю, – отвечал князь, – но не выдавать же мне людей православных.
Ворота хором распахнулись, из них вышли Чол-хан и Мустафа. Чол-хан заговорил по-татарски, Мустафа переводил.
– Я велю татарам, – сказал Чол-хан, – бить вас до тех пор, пока ни одного не останется. Кто верен Хану, тот переходи на мою сторону: с этой минуты – я вам князь!..
Вече молчало. Чол-хан отошёл в сторону – и из распахнувшихся ворот посыпались стрелы. Тысяцкий ударил в колокол, а Александр Михайлович провозгласил:
– За Спаса всемилостивого, за храмы Божии, за веру христианскую, за землю Русскую, за Тверь – славный город!
Он быстро сошёл в толпу. Ворота хором захлопнулись, но поверх них продолжали лететь стрелы татарские. Русские, собравшись в кучу и накрывшись щитами, пошли выбивать ворота.
Помост опустел, остался только тысяцкий у колокола, да соборный протопоп с причтом молились. Затем и они сошли.
Колокола гудели, слышны были крики, вопли; началось поголовное избиение татар – и правых, и виновных! Избивали купцов хивинских и бухарских, давно живших в Твери, избивали татарок, всегда сопутствовавших мужьям в походах и поездках.
Кровь лилась. Погреба и подвалы с мёдом и с пивом были разбиты, пьяный народ свирепел, грабил по дороге – и всем, даже своим, доставалось. Дьякон Дюдко всюду являлся на своей кобыле, работая страшным топором, потом пал он, пала его кобыла; до конца стоял молчаливый Суета, весь облитый кровью. Тверская чернь обшаривала все подвалы, закоулки, отыскивая татар; в двух-трёх местах вспыхнул пожар; а Чол-хан всё думал, что это только начало, что сейчас пристанет к нему простой народ, что это не народ против татар идёт, а князья да бояре. Смело и храбро бились его татары, стрелы носились тучами в воздухе.
Уже солнце заходило, когда татарам пришлось запереться в хоромах погибшего в Орде великого князя, а Чол-хан всё не сдавался.
– Сдавайся, Щелкан! – кричали ему бояре.
Ответа не было; из каждого оконца сыпались стрелы и выдвигались копья.
– Сдавайся, Чол-хан, – говорили ему его приближённые, – наши все побиты.
– И мы погибнем, – отвечал он, – а не посрамим чести ордынской. Пророк уже ждёт нас и причислит к лику мучеников за его святую веру.
Закатилось солнце; город был пьян от мёда и крови Из сеновалов княжеского двора тащили сено, солому, – высоко взвивалось пламя по потемневшему небу и трещали стропила. Рухнуло старое здание – ни одного татарина не осталось в городе. Улицы были заполнены пьяными и трупами. Мало кто спал в эту ночь, всюду слышались песни, крики, ругательства... Точно бред какой нашёл на Тверь – ив бреду этом многие видели проклинающую старуху.