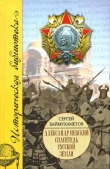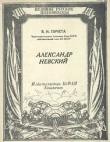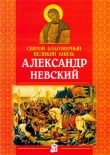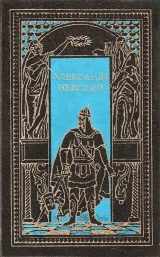
Текст книги "Александр Невский. Сборник"
Автор книги: Н. Чмырев
Соавторы: Францишек Равита,В. Кельсиев,Л. Волков,В. Клепиков,Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)
В Южной Руси княжеская власть и земский строй существовали одновременно и разъединённо и так и не слились, не образовали единства. В Северо-Восточной Руси княжеская область поборола земский строй и подчинила его себе. В Новгороде же, обратно Суздалю, земский строй усилился за счёт княжеской власти. Эта самостоятельность Новгорода наложила на него свой особый отпечаток, сказалась во всём складе новгородской жизни.
Возвышение Суздаля столкнуло его с Новгородом. В Северной Руси оказалось два средоточия. Крепкий своей княжеской властью Суздаль и богатый, свободолюбивый Новгород. В облике Суздаля и Новгорода – глубокая разница. Суздаль – мужик залешанин, крепкий своей связью с землёй, медленным, но верным ростом из болот. В Новгороде есть крепость горожанина торговца, упрямого и свободолюбивого.
Новгород стал на пути Суздаля. Началась постоянная борьба суздальских князей с Новгородом. Эта борьба не похожа на южные усобицы. Это была борьба двух воль, двух упрямых стремлений.
Такова была историческая обстановка на Руси к началу 13-го века – времени рождения Св. Александра Невского. На юге – разрушающийся Киев, на севере – Суздаль и Новгород.
Св. Александр связан и с Суздалем, и с Новгородом. Поэтому его образ в детских и юношеских годах встаёт на фоне двух исторических картин: сермяжного, строгого, размеренного Суздаля и буйного, пёстрого Новгорода. И уже только в зрелых годах мы видим Св. Александра в ханской ставке в глубинах Азии, на перепутье русской истории, когда ему пришлось княжить в совсем новых, небывалых условиях и искать новых, неизведанных прежде путей.
ГЛАВА I
Св. Александр Невский родился 30 мая 1219 года в уделе своего отца – Переяславле-Залесском.
Над впадением Трубежа в глубокое и волнистое Клещино озеро Переяславль белелся своим каменным собором Спаса Преображения – постройкою Юрия Долгорукого – четырёхугольным с тяжёлою главою на тонком барабане, с высокими узкими окнами, массивным и тяжёлым, но в котором уже сквозит будущая стройность суздальских храмов. Город окружали земляные валы и деревянные стены детинца. За стенами взгляд захватывал светлый круг озера, кайму поёмных лугов и леса и перелески, наступавшие на низменные и болотистые берега. У города на холме стоял Никитский монастырь. За три четверти века до рождения Св. Александра Невского переяславский купец Никита, стяжавший себе неправедное богатство, раскаялся в сотворённых неправдах и обидах, оставил дом и имущество и ушёл в этот монастырь спасаться на столпе. Там он прославился под именем Никиты Столпника.
Отец Св. Александра – князь Ярослав Всеволодович – сын Всеволода Большое Гнездо и внук Юрия Долгорукого – был типичным суздальским князем. В его образе уже слагается облик будущих скопидомных собирателей земли – московских князей. Некоторые черты особенно сближают Ярослава с его дядей Андреем Боголюбским. В их характере и во всём их образе чувствуется кровная, родовая связь. Они оба наиболее ярко воплотили особенности своего рода.
Основной чертой суздальских князей было глубокое и коренное благочестие. Они глубоко чувствовали красоту церковных служб, церковного пения и храмостроительства. Каждый из них оставил по себе храмы, которые он любил крепкой любовью, как своё творение и как свой дар Богу. Эта любовь сквозит в самих описаниях построения храмов. «Христолюбивый Князь Андрей уподобился царю Соломону и доспе в Володимере церковь камену соборную святыя Богородицы, пречудну вельми и всеми розличными виды украси ю от злата и сребра и пять верхов ея позолоти, дери же церковныя трои золотом устрой, каменьем, дорогим жемчугом украси ю многоценным и всякими узорочьи удиви ю, и всеми виды и устроением подобна бысть Соломонови святая святых». Андрей Боголюбский приходил по ночам в любимый Боголюбский храм Рождества Пресвятой Богородицы, зажигал свечи и долго стоял посреди полутёмной церкви, любуясь её росписью, полом, измощенным мрамором красным, разноличным, блеском изукрашенной драгоценными камнями и жемчугом ризы на чудотворной иконе. Перед утренней Андрей первый приходил в церковь и сам затеплял свечи и лампады. Часто он вставал ночью до петухов и приходил слёзно молиться перед иконой. То же благочестие отличает и Ярослава. О нём летопись говорит как о просветителе Корелии, где он крестил «мало не вся люди». И весь быт княжеской семьи, в которой родился Св. Александр, был проникнут глубоким и исконным благочестием.
Эта любовь к церкви и понимание церковного благолепия была у тех суздальских князей, которые в своей политике выступают кремнёвыми, подчас чёрствыми владетелями. Только в церкви раскрывалось и размягчалось их сердце. Окружающая жизнь была иной. И они обращали к ней иное лицо. Пролежавши ночь перед иконой со слезами умиления, Андрей или Ярослав выходили утром из храма властными и суровыми князьями-самодержцами.
Суздальские князья-хозяева держали землю крепкой рукой, и для многих эта рука была тяжёлой. В них чувствуется тяжёлая, но верная поступь, знающая, куда она направляет шаги. Они умели смиряться и выжидать. Но, выжидая, они не забывали. Их отличает незабывчивость, подчас злопамятность. В своих войнах они предпочитали медлить, утомлять противника, пользоваться распутицами, разливами рек, холодами. Но, раз уверившись в победе, они шли решительно и становились беспощадными к врагам. На большинстве суздальских князей и, главным образом на Андрее и Ярославе, лежит печать медлительности, тяжести, расчётливого взгляда.
Но эта медлительность не была равнодушием или апатичностью. Под этой сдержанностью лежит большая страстность, большое властолюбие. Андрей в молодости любил врываться в самую гущу сечи и рубился, не замечая, что с него сбивали шлем. Вся его жизнь – это прорывы страстности и честолюбия через внешнюю оболочку выдержки. Вспышки необузданной натуры и сгубили его.
Ярослава отличает та же страстность. В свои молодые годы он вполне отдался ей, пошёл на Мстислава с новгородцами на старшего брата, не слушая доводов своих бояр и самонадеянно отвергнув предложение мира. Липецкий разгром и изгнание из удела послужили ему уроком на всю жизнь. Он сделался выдержанным и расчётливым.
Глубоко верующий, благочестивый, суровый и замкнутый, с прорывами гнева и милосердия, – таким встаёт перед нами образ отца Св. Александр.
О его матери – княгине Феодосии – известно очень мало. Летописные сказания противоречивы даже в указаниях того, чьей она была дочерью. Её имя изредка и кратко упоминается в летописи и всегда только в связи с именем мужа или сына. Житие называет её «блаженной и чудной». У неё было девять человек детей. Через житие Св. Александра она проходит тихой и смиренной, отдавшей себя своему женскому служению.
Св. Александр вырастает из своего рода. Вместо неподвижной, медленной тяжести характера отца и дедов в нём есть ясность, лёгкость сердца, быстрота мысли и движений. Но он унаследовал от них серьёзность взгляда, сдержанность и умение переживать и таить в себе свои думы. Во всей своей деятельности он является преемником суздальских князей, ни в чём не ломает родовых традиций, лишь преображая их благоуханием своей святости.
Прямые сведения о детстве Св. Александра очень скудны. Но летописные сведения, намечающие внешние вехи его жизни, рассказ жития и сведения о воспитании княжичей восстанавливают обстановку его детства.
До трёх лет Св. Александр, как и все княжичи его времени, жил в тереме, при матери. В этих годах, по-видимому, была детская тишина, отгороженность от мира. Кругом были только княгинины покои, внутренний быт семьи и церковь.
По достижении трёх летнего возраста над Св. Александром был совершён обряд пострига. После молебна священник, а может быть и сам епископ, первый раз обстриг ему волосы, а отец, выведя из церкви, впервые посадил на коня. С этого дня он был взят из княгинина терема и сдан на попечение кормильцу или дядьке – ближнему боярину.
После пострига начиналось воспитание, которое вёл кормилец. Воспитание заключало в себе две стороны: обучение грамоте и письму по Библии и Псалтири и развитие силы, ловкости и храбрости. Княжича сызмала брали на лов. Со своего коня он видел облавы на туров, оленей и лосей. Потом, когда он подрастал, его приучали поднимать с рогатиной медведя из чащи. Это была опасная охота. Но и впереди княжича ждала опасная жизнь. Молодые князья рано узнавали жизнь со всей её суровостью и грубостью. Иногда уже шести летних княжичей брали в поход. Поэтому для них с молодых лет, наряду с играми, благостью церковной жизни и тишиной терема, были ведомы война, кровь и убийство.
То постепенное познавание жизни, которое совершается в годы детства, имеет неизгладимое значение на всю последующую жизнь человека. Миросозерцание начинает складываться именно в детские годы.
Две стороны суздальской жизни должны были оказывать особое влияние на выработку миросозерцания молодых князей.
Во-первых, это была церковь и церковная жизнь. Княжеский терем внутренним ходом сообщался с церковью. С самых ранних лет князья ежедневно ходили на раннюю обедню и на все другие церковные службы. Вся жизнь княжеской семьи определилась кругом богослужений. Церковное благолепие было главной заботой. Вся красота жизни сосредотачивалась в церкви. Поэтому и для молодого князя церковь была первым откровением иного мира, отличавшегося от всей окружающей жизни. «Занеже Церковь наречётся земное небо», – это свойственное всей Древней Руси ощущение церкви входило в создание с ранних лет. Вся внешняя обстановка церкви – красота храма и икон, горящие свечи и лампады, облачения, курящий фимиам – было для княжича самым ярким впечатлением детства.
Последующее воспитание не разрушало этого первого детского впечатления. Княжич обучался письму и грамоте по Библии и Псалтири. Он постоянно слышал жития святых. Древнерусская письменность указывает, насколько библейский мир был реален для Руси. На старинных иконах события Ветхого и Нового Заветов изображены на фоне русских городов и русской природы. Таким же было и русское миросозерцание. В нём не было отрыва жизни от Библии. При появлении чего-либо непонятного и нового Древняя Русь пыталась найти объяснение в Писании. Так, например, неизвестно откуда пришедшие татары были для Руси библейскими народами, вышедшими из «пустыни Ефровския, их же загна тамо (скдия) Гедеон».
Эта цельность церковного миросозерцания сказывалась и в воззрениях на жизнь и долг князя. Церковь была мерилом жизни. Многие из князей самым грубым образом попирали церковное учение. Но всё же и у них было церковное сознание добра и зла. Древняя Русь не создала внецерковных ценностей. Церковь входила с детства в жизнь как высшая ценность и так сопутствовала человеку до самой его смерти.
Второй особенностью суздальской жизни, накладывавшей отпечаток на князя с молодых лет и дававшей ему особое восприятие предстоящей ему государственной деятельности и власти, было сближение княжеского двора со всем княжеством.
Ко времени Св. Александра суздальский удельный княжеский двор уже совмещал в себе хозяйство и был княжеской семьи с управлением княжества. Грань между государственными делами и делами хозяйственными помещика-вотчинника уже стиралась. Поэтому княжич, постепенно выходя из замкнутости терема на княжий двор, начинал узнавать жизнь не только двора, но и всего княжества. Для него всё княжество, с сидевшими на волостях боярами и тиунами, казалось расширенным княжеским двором.
Это первое детское восприятие в известной мере также оставалось на всю жизнь. В князьях складывалось новое, для Киевской Руси неизвестное понимание своей власти над княжеством как над своим хозяйством и достоянием. В них выковывалась твёрдая воля к единодержавию и к стяжанию земли, которая так ярко проявилась у московских князей.
Эти два главных влияния суздальской жизни наложили сильный отпечаток и на Св. Александра Невского. Во всей своей жизни он не только не нарушает, но, наоборот, наиболее ярко и полно проявляет древнерусское суздальское миросозерцание. И начало этого миросозерцания восходит к первым детским годам в Переяславле.
Житие указывает на способности Св. Александра, проявившиеся ещё в детстве. Он быстро научился читать и писать, пристрастился к чтению и целыми часами сидел над книгами. Он был силён, ловок и красив. Поэтому во всех играх, на лове, а потом и на войне он был всегда первым, как и за чтением Псалтири.
Житие повествует, что ещё мальчиком он был серьёзен, не любил игр и предпочитал им Священное Писание. Эта черта осталась у него на всю жизнь. Св. Александр – это ловкий охотник, храбрый воин, богатырь по силе и сложению. Но в то же время в нём есть постоянная обращённость во внутрь. Из слов жития видно, что эта резко его отличающая особенность – совмещение двух, казалось бы, противоречивых черт характера – начала проявляться ещё в годы раннего детства.
Но эти детские годы в Переяславле были очень кратки. Св. Александру рано пришлось выйти в жизнь. Причиной этому послужил переезд его вместе с отцом из Переяславля в Новгород.
ГЛАВА II
Суздальские владения на западе доходили до границ новгородских земель. Переяславское княжество лежало на пути из новгородских городов Волока Дамского и Торжка в Поволжье. Владея из Переяславля Зубцовом, Тверью и Коснятином, суздальский князь мог запереть путь новгородским караванам, шедшим вниз по реке Нерли за хлебом, и прекратить подвоз хлеба в Новгород. Начавшаяся борьба с западом заставляла Новгород искать помощи на востоке. Поэтому новгородцы были в некоторой зависимости от Суздаля и должны были с ним ладить. Начиная с XIII го века они всё чаще и чаще начали брать на княжение молодых князей суздальского рода.
Призвание суздальских князей раскололо сам Новгород на две партии. Одна признавала необходимость союза с Суздалем для борьбы с западом. К ней примыкали многие новгородцы, лично заинтересованные в союзе: торговавшие с Суздалем или посылавшие караваны на Волгу. Другая партия упорно стояла за новгородскую волю и видела в суздальских князьях угрозу этой вольности. Эта партия держала сторону южнорусских князей, менее властолюбивых и более удалённых от Новгорода, не пытавшихся вторгаться в новгородские дела. От победы то одной, то другой партии на вече зависела смена князей. Когда на княжении сидел суздальский князь, его властолюбие и обиды усиливали южнорусскую партию. Когда в Новгород приходил южнорусский князь, нападения врагов и все невыгоды ссоры с Суздалем давали перевес партии суздальской.
В 1220 году новгородцы «показаша путь» своему князю Всеволоду Мстиславовичу – южнорусскому князю – и послали владыку и посадника к великому князю суздальскому Юрию, старшему брату Ярослава, прося его о князе. Великий князь послал в Новгород своего молодого сына Всеволода.
Положение молодого суздальского князя в Новгороде было очень трудным. Он должен был одновременно исполнять приказания своего отца и ладить с новгородцами. К тому же на Новгород со всех сторон поднимались войной его западные соседи. Раздираемый приказами отца, мятежами новгородцев и наступающим врагом, от которого он должен был защищать Новгород, Всеволод пришёл в отчаяние. В 1220 году, зимней ночью, он тайком от новгородцев со всем своим двором и дружиной убежал из Новгорода в Суздаль. Ввиду наступающих отовсюду недругов бегство Всеволода озадачило и опечалило новгородцев. Они должны были снова просить себе князя от самого сильного соседа – великого князя суздальского. Их старейшины приехали к Юрию Всеволодовичу, говоря: «Аще не хощешь у нас держати сын свой, то вдай нам брата своего». Юрий согласился. В 1222 году Ярослав с княгиней Феодосией, сыновьями Феодором и Св. Александром и дружиной приехал из Переяславля на новгородское княжение.
Новгородский князь жил с семьёй и дружиной не в самом Новгороде, а в княжьем селе Городище, в трёх вёрстах от стен города. Эта новая обстановка Городища, в которой жил Св. Александр, немногим отличалась от Переяславля. Городище было куском Суздальской земли, перенесённой в Новгород. Князь был здесь хозяином и распоряжался в себе по своей воле, не спрашивая новгородцев. Его окружали свой двор и своя дружина. Поэтому и жизнь молодых княжичей шла по-старому. Продолжалось начатое в Переяславле обучение; ловы в лесах, по Мете и Ловати; отъезды в охотничьи сёла и богомолья по многочисленным монастырям, разбросанным вокруг Новгорода: к святому Антонию Римлянину, на Хутынь, к Спасу Нередице, в Свято-Варваринский, в Перынский, в Свято-Юрьевский, в Аркажский.
Всё же переезд в Новгород был большой переменой в жизни Св. Александра. В Переяславле весь удел был расширенным княжеским двором. Выезжая из него, князь повсюду был хозяином. Княжий двор переносился в волости, и волости приходили на княжий двор. Здесь, в Новгороде за пределами Городища кончался суздальский двор и начинался иной мир, живший по своей, враждебной Городищу воле. Жизнь в Городище была для княжичей продолжением суздальской жизни, но выезды в город и подчас буйное вторжение города в Городище и самый вид богатого и пёстрого Господина Великого Новгорода глубоко отличались от залесской тишины Переяславля.
Окружённый земляными валами, Новгород широко раскинулся на обоих берегах Волхова своими пятью концами: Загородским, Наревским и Людиным на Софийской стороне и Славянским и Плотницким на Торговой. Каждый конец и каждая улица жили своей особой жизнью, управляемый кончанскими, сотскими и улицкими старостами. Каждая улица имела свои предания, свои старинные семьи, издавна связанные с улицей и верховодившими в ней. Памятниками этих семейных преданий были раскинутые по всему Новгороду среди деревянных изб и хором каменные храмы, воздвигнутые богатыми и почётными семьями в своих улицах.
Средоточием этих далеко разбросанных улиц и храмов был Софийский детинец, – общее достояние всего Новгорода, его главная святыня – Святая София, на верность которой новгородцы целовали крест. Узкие, кривые улицы и проулки отводили с разных сторон к каменным башням детинца с церквами и часовнями над проездными воротами, по имени которых самые ворота назывались Богородскими, Спасскими, Покровскими и Владимирскими. За воротами в Новгородской твердыне детинца, над всеми церквами и палатами возвышалась белая громада Св. Софии. Это тяжёлый, пятиугольный храм, неповторимый во всём новгородском зодчестве. Ни один зодчий не посмел строить храма по подобию Св. Софии – она была едина, непревзойдённа в Новгороде. Внутри храма с тёмного свода смотрел строгий образ Спасителя с полусжатой десницей. Царьградские иконописцы, расписывавшие храм при епископе Луке Жидяте, три раза писали десницу благословляющей, но три раза она сжималась. Тогда они услышали голос: «Писари, писари, не пишите Мне благословляющую руку, но пишите сжатую; Аз в сей руце Новгород держу; а когда рука Моя распрострётся, тогда будет граду сему кончание». К нему примыкал «дом Святой Софии» – архиепископские покои со службами. И в Св. Софии, и в каменных башнях детинца, и в постройках владычного двора до наших дней сохранилась крепость и строгая массивность Новгорода.
На другом берегу Волхова, прямо напротив детинца, было другое средоточие Новгорода. Здесь был Ярославов двор и торг с храмом Св. Николая Мирликийского, с звонницей вечевого колокола и вечевой степенью-помостом, – место шумного и бурного новгородского веча, нередко кончавшегося побоищами.
На Торговой стороне от Ярославова двора и находившегося на нём храма Св. Параскевы Пятницы, заложенного заморскими купцами, посылавшими свои товары за море и вымаливавшими здесь избавление от морских напастей, шёл вдоль берега Волхова пёстрый и шумный Новгород-торговец, с лавками и лабазами. Здесь было два иностранных двора с иностранными церквами: «Варяжской божницей» Св. Олафа и «немецкой ропатой» Св. Петра, склады и дома готского и немецкого торговых домов. Эти иноземные миры, занесённые в самый центр Новгорода, заключались опять новгородским храмом Св. Иоанна на Опоках. При этой церкви было купеческое братство «Ивановское сто»: Новгородская первая гильдия.
В этом пёстром мятении торговища и белой неподвижности пяти софийских куполов за рекой было соединение двух начал новгородской жизни, затейливо сплетённых новгородцами в единый образ.
В Св. Софии была степенность и размеренная важность. Здесь во владычиных покоях собирался «совет господ» под председательством князя или владыки, состоявший из степенных и старых посадников, тысяцких, сотских, концевых и бирючей. Здесь же три раза в неделю «во владычне комнате» садились думать 10 «докладчиков», разбиравших судебные дела, по боярину и житьему человеку от конца, под страхом денежной пени за неявку. Святая София собирала из всех концов Новгорода самых знатных и почтенных людей. Она знала строгую иерархичность новгородских званий с гордой замкнутостью и сознанием своей важности на каждой ступени. Здесь было ясно, кто правит Новгородом. Во главе стояли бояре – владельцы земель и денег, ссужавшие купцов деньгами, но сами считавшие торговлю недостойным для боярина занятием. Пониже – «жить и люди», более мелкие бояре. Ещё ниже – купцы разного богатства и разного почёта и жившие в новгородских землях мелкие помещики-своеземцы. Потом «чёрные люди», ремесленники и мелкие торговцы. И совсем уже внизу – смерды, половники, закупы и одерноватые холопы, рассеянные на новгородских землях.
Торговище тоже собирало новгородцев из всех концов на общее вече. Но здесь нет ни степенности, ни сановитости Св. Софии. Здесь движение толпы, шум и выкрики, быстро проявляющееся возмущение. Иногда Св. София выходила унимать Торговище. При кровопролитных драках владыка в облачении с духовенством шёл разнимать дерущихся. Но иногда Торговище нападало на Св. Софию.
В обычное мирное время Св. София на «совете господ» правила Новгородом. Она решала все дела, вела переговоры с иноземными державами, собирала вече, рассылая бирючей по всем концам и держала вечников в своих руках. Это вече, собранное Св. Софией, происходило чинно, насколько это было возможно при большом стечении людей. Со степени к вечу обращались посадский и тысяцкий, а вечевые дьяки записывали постановления, сидя в особой вечевой избе у края помоста. В то время Св. София накладывала свою степенность и иерархичность на весь Новгород. Боярин и купец были выше «меньших» людей. Меньшие люди с почётом расступались перед ними.
Но во время неурядиц Торговище овладевало городом. Вече собиралось само собой, по звуку набата. Здесь не слушали ни посадника, ни тысяцкого, не заботились о записях дьяков. Тогда уже Торговище погружало Новгород в свой шум и кипение. Иерархичность и степенность кончались. Меньшие люди избивали своих бояр, иногда даже владык, грабили имущество и дома людей «больших». В этом восстании Торговища было стихийное движение. Св. София размеряла свои действия и подчас шла на уступки. Торговище не знало расчёта.
В этой сумятице новгородской жизни до сих пор трудно решить, кто был хозяином Новгорода: степенный ли Совет господ, правивший в нём, или вече меньших людей, в короткие дни своих восстаний свергавшее этот Совет и проявлявшее свою волю.