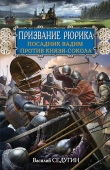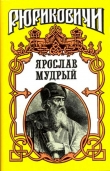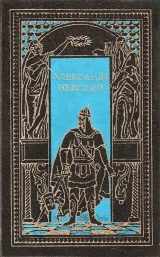
Текст книги "Александр Невский. Сборник"
Автор книги: Н. Чмырев
Соавторы: Францишек Равита,В. Кельсиев,Л. Волков,В. Клепиков,Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 41 страниц)
ГЛАВА VIII
После того как татары повернули от Игнач Креста на юг, Св. Александр мог ясно увидеть всю трудность положения Новгорода. Длинная упорная борьба не кончилась, но только начиналась.
На востоке была разорённая земля, восстановляемые города и постепенно возвращающиеся из лесов жители – тяжесть разорения, угнетение татарских баскаков и постоянная боязнь нового нашествия. Помощи оттуда быть не могло. Каждое княжество было слишком занятой своей бедой, чтобы отражать нашествия от других княжеств.
Между тем в течение последних десятилетий против Новгорода стоял другой враг, натиск которого постоянно отражался с помощью Суздаля. Это был мир латинского средневековья, авангардом своим – Ливонским орденом меченосцев – утвердившийся на берегах Балтийского моря и надвигавшийся на новгородские и псковские пределы.
Краткая история возникновения этого ордена и его наступления на Русь такова.
Во второй половине 12-го века в Ливонии для проповеди христианства высадился монах Августинского ордена Мейнгард. Его проповедь вызвала ожесточённое сопротивление. Тогда Мейнгард, возведённый в сан ливонского епископа, прибег к мечу. Он воздвиг в окрестностях Икскуля несколько замков. По смерти Мейнгарда его преемники продолжали обращение и завоевание.
Один из преемников Мейнгарда, Альберт фон Буксгевден, построил в 1201 году на берегу Двины у впадения её в море город Ригу с кафедральным собором во имя Св. Марии. Видя трудность борьбы с язычниками, он решил создать монашеский рыцарский орден тамплиеров, подобный существовавшему уже в Палестине. В 1202 году папа Иннокентий III издал буллу, утверждавшую статут нового ордена. Альберт стал набирать тамплиеров. Спешная вербовка отразилась на составе ордена. Меченосцы мало соответствовали намерениям папы и ливонского епископа. На призыв Альберта, наряду с убеждёнными и верующими рыцарями, отозвались искатели приключений, рыцари с тёмным прошлым, самозванцы, сыновья бременских и любекских купцов, ландскнехты. Большинство стремилось только к наживе и грабежу в дикой стране. Увлечённые борьбой, Альберт и магистр ордена не могли разбираться в людях, ни в их намерениях, ни в их прошлом. Всё это наложило на Ливонский орден особый отпечаток. Образ его жизни мало походил на монашеский. Первый магистр ордена Винно фон Горбах был убит своим же рыцарским братом, а убийца повешен в Риге по приговору орденского суда. Вскоре сами ливонские епископы ощутили на себе беспокойную и непокорную силу ордена. Другой рыцарский орден – Тевтонский, – существовавший в Пруссии и состоявший из знатных и родовитых рыцарей, связанных дисциплиной и строгими обетами, смотрел на ливонских меченосцев с презрением и недоверием.
Дикие языческие племена ливов не могли сопротивляться меченосцам, ни их броне, ни твердыням их замков, постепенно воздвигавшихся по всей земле. Вскоре ливы были покорены. Потом настала очередь литовцев. До тех пор часть литовских племён платила дань полоцким князьям, а полоцкие миссионеры обращали литовцев в православие. Здесь, в литовских лесах, произошла первая встреча меченосцев с русскими. Но полоцкое княжество в то время было слабо. Альберт хитро обошёл недалёкого полоцкого князя Владимира. Проповедь католичества и завоевания в Литве продолжались без особого сопротивления Полоцка.
После литовцев меченосцы обратились на Эстонскую Чудь. Здесь они встретились с новгородцами. Новгород оказался сильнее и упорнее Полоцка. Он не захотел уступить своих владений меченосцам. Началась длительная, то замиравшая, то снова разгоравшаяся, война Новгорода с меченосцами. Успех в этой войне склонялся то на одну, то на другую сторону. Новгородцы несколько раз разбивали орденских братьев. В 1217 году они взяли приступом город Медвежью Голову. В следующем году они осаждали столицу ордена Венден.
Эти успехи Новгорода побудили меченосцев обратиться за помощью к Дании. В 1219 году датский король Вальдемар высадился на Балтийском побережье. Но, завоевав Эстию, он объявил её датским владением. Орден вынес спор на решение папы, и Гонорий III решил его в пользу датского короля. Эти разногласия на некоторое время всецело захватили орден и помешали дальнейшим завоеваниям.
Вскоре король Вальдемар во время междоусобной смуты был взят в плен собственным вассалом. Орден опять усилился. В 1224 году, после длительной осады, меченосцы взяли новгородский город Юрьев и перебили всех сидельцев. Новгород заключил с меченосцами мир, уступив им все земли к западу от Чудского озера.
Всё это время орден пополнялся новыми рыцарями и увеличивался. Он постепенно утверждался в завоёванных землях, и границы его надвинулись к рубежам Руси и Литвы. Он освободился от власти бременского архиепископа, которому был раньше подчинён, и стал самостоятельным. После долгих переговоров он соединился с Тевтонским орденом.
Так постепенно, против русских городов, на низких песчаных берегах Балтики и в эстонских и ливонских лесах вырос целый мир западного католического средневековья, с каменными стенами, с башнями городов, с полумраком высоких готических соборов, со всем укладом средневековой жизни.
В то же время другой авангард Европы – шведы наступали на север, угрожая Ладоге.
Борьба с Западом велась в течение всех первых десятилетий 13-го века. Момент ослабления Руси – одиночества Новгорода – совпал с усилением натиска с Запада.
Начало 13-го века может быть названо вершиной всего средневековья. К этому времени окончательно сложились королевства Европы, долго восстававшей из хаоса нашествия варваров. Определился новый быт и уклад жизни. Создалась иерархичность средневековья. В вершине всего здания утвердился папский престол, победивший и язычество и сопротивление светской власти. В Европе именно к этому времени окончательно сложилась и расцвела великая цельность и монолитность средневековья, его размерная уставность, подчинённость всего миросозерцания единому высшему началу.
Эта внутренняя крепость и внутренняя победа сказались в стремлении к распространению во вне, к расширению своих внешних пределов. Поэтому как раз начало 13-го века ознаменовано походами Европы на Восток. Эти войны и внешне и внутренне исходят из Рима, из папской курии. Папы побуждали эти походы и буллами благословляли выступающих для завоеваний. Внутренний смысл этих походов был в утверждении власти Рима, в насаждении средневековой цельности и уставности в тех странах, которые по своему облику и культуре были глубоко чужды средневековью и католичеству.
В 1204 году крестоносцы взяли Византию и утвердили там латинское царство. В это же время усилился натиск на Польшу, Галич и Литву. Создались Ливонский и Тевтонский ордены. Началось наступление Швеции.
Поэтому продолжительные войны Новгорода как западной окраины Руси не были частными и случайными пограничными войнами. Это было сопротивление жестокое и упорное целой исторической волне. Новгородские князья сознавали себя защитниками Православия и Руси. И это сознание исторической важности сопротивления было свойственно всему новгородскому ополчению, встречавшемуся с рыцарями. Во всей культуре средневековья русские ощущали чуждый и враждебный мир. Они сознавали его монолитность, его иерархическую подчинённость католичеству. Они окрестили его именем «латинства», которое в течение нескольких веков применялось ко всей Европе, ко всему разнообразию её проявлений, в конечном итоге восходивших к средневековому католическому единству.
Как новгородский князь Св. Александр Невский преемственно воспринял историческую миссию защиты Православия и Руси от Запада. Выступить на эту защиту ему пришлось в годы самого высшего напряжения борьбы и одновременно наибольшего ослабления Руси. Весь первый период его жизни прошёл в борьбе с Западом. Татары остались за суздальскими лесами. Перед ним непосредственно стоял лишь западный враг. Борьбой с этим врагом было поглощено всё его внимание. И в этой борьбе прежде всего выступают две четы: трагическое одиночество и беспощадность.
Несмотря на все ужасы татарских нашествий, западная война была более ожесточённой. Здесь шла борьба на смерть или на жизнь. И это отличие враждебных волну шедших с Запада и с Востока, объясняет два совершенно различных периода жизни Св. Александра: различие его западной и восточной политики.
Татары лавинами находили на Русь. Тяжко давили её поборами и произволом ханских чиновников. Ио татарское владычество не проникало в быт покорённой страны. Само татарское царство, как и все азиатские кочевые царства, было мозаичным. Оно втягивало в себя многие народы, подчиняло единой власти, окладывало данью, карало неповиновение. Но оно в конечном итоге не утверждало насильственно своего быта. Несмотря на грандиозный размах завоеваний, на сосредоточенность воли, направленной на внешние деяния, в татарском царстве отсутствовала внутренняя сила. И поэтому, быстро возникшее, оно сравнительно быстро и распалось. Татарские завоевания были лишены религиозных побуждений. Отсюда их широкая веротерпимость. Татарское иго можно было переждать и пережить. Татары не покушались на внутреннюю силу покорённого народа. И временным повиновением можно было воспользоваться для укрепления этой силы при всё растущем ослаблении татар.
Совсем иным был наступавший с запада мир средневековья. Внешний размах его завоеваний был бесконечно меньше, чем татарские нашествия. Но за ними стояла единая целостная сила. И главным побуждением борьбы было религиозное завоевание, утверждение своего религиозного миросозерцания, из которого вырастал весь быт и уклад жизни. С Запада на Новгород шли монахи-рыцари. Их эмблемой был крест и меч. Здесь нападение направлялось не на землю или имущество, но на самую душу народа – на православную Церковь. И завоевания Запада были подлинными завоеваниями. Они не проходили огромных пространств, но захватывали землю пядь за пядью, твёрдо, навсегда укреплялись в ней, воздвигая замки. Восток бурным наводнением заливал землю. Но когда его волны отливали, прежняя почва снова выступала наружу, почти не тронутая разливом. Воды Запада медленно просачивались в самую глубь почвы, которую они заливали, напитывали её собой, меняя её сущность. Завоёванные Западом области теряли свой облик и становились западными.
Поэтому в наступлении шведов и ливонских меченосцев на лишённый поддержки Новгород было трагическое отсутствие иного исхода, кроме неравной борьбы без пощады. Это сознание жило в Новгороде. Весь первый период жизни Св. Александра именно и заключается в этой отчаянной борьбе. Годы, непосредственно следовавшие за нашествием Батыя, были годами ожидания готовящегося нападения.
ГЛАВА IX
В 1240 году, в глухое летнее время – в самую страду полевых работ, – в Новгород пришла весть о нападении с севера. Зять шведского короля Фолькунг Биргер[20]20
В описаниях Невской битвы Биргер часто именуется Яром. Он получил этот титул лишь в 1247 году, то есть через семь лет после битвы с русскими на Неве.
[Закрыть] вошёл на ладьях в Неву и высадился с большой ратью в устье Ижоры, угрожая Ладоге.
Неравная борьба началась. Враг был уже в новгородских пределах. Св. Александр Невский не имел ни времени послать к отцу за подкреплением, ни собрать людей из далеко разбросанных новгородских земель. По словам летописи, он «разогрелся сердцем» и выступил против шведского войска только со своей дружиной, владычным полком и небольшим новгородским ополчением.
Перед выступлением он пришёл в Софийский храм, пал на колени перед алтарём и со слезами начал молиться Св. Софии, говоря: «Боже хвальный, Боже праведный, Боже великый и крепкый, Боже превечный, сътворивый небо и землю, и постави пределы языком и жити повелевый не приступав в чюжаа части», и услышав воспеваемый в это время псалом, сказал: «Суди, Господи, обидящим мя и возбрани борющимся со мною, приими оружие и щит, возстани в помощь мне».
Окончив молитву, он встал и поклонился архиепископу. Архиепископ благословил его и отпустил с миром.
Св. Александр, выйдя из храма, обратился к своему ополчению, укрепляя его и говоря: «Не в силах Бог, но в правде; помянем песнопевца Давида, глаголюща: сии во воружии, а сии на конех, мы же во имя Господа Бога призовём, ти спяти быша и падоша».
Потом он сел на коня и повёл свою рать из Новгорода на север: «И поиди на них во ярости мужества своего, в мале вой своих, не дожда многа вой своих, с великою силою, но упова на святую Троицу».
Идя вверх по течению Волхова, Св. Александр привёл свою рать под стены Ладоги, лежавшей на порогах Волхова, среди сосновых лесов у берегов сумрачного Ладожского озера. Это был посад Новгорода, его оплот на севере – памятник сурового и простого новгородского зодчества в северных областях, с церковью Св. Климента и гостинными рядами, защищённый низкими стенами из круглого булыжника и плитняка, с круглыми угловыми башнями и продолговатыми щелями в стенах для метания стрел.
Дойдя до Ладоги, Св. Александр присоединил ладожское ополчение к своей рати и через леса пошёл к Неве на шведов, стоявших станом у своих ладей при устье Ижоры.
Сеча произошла 15 июля, в день памяти Св. Равноапостольного великого князя Владимира.
Этой сече, в ночь перед ней, предшествовало чудо. Среди ижорских старейшин был некто Пелгусий – христианин, в крещении нареченный Филиппом. Среди своего языческого племени он вёл благочестивую жизнь, строго соблюдая посты. Выследив шведские станы, он пошёл со своим полком навстречу Св. Александру, чтобы поведать ему о силе и расположении врага. В ночь перед сечей он остановился у самого берега и провёл её в бдении, наблюдая за морем.
На восходе солнца он услышал шум и увидел шедший по морю насад[21]21
Ладью.
[Закрыть]. В нём стояли в червлёных одеждах, положив друг другу руки на плечи, Свв. страстотерпцы Борис и Глеб; гребцы же в насаде сидели словно одетые мглою. Св. Борис сказал: «Брате Глебе! вели грести, да поможем сроднику своему великому князю Александру Ярославличю».
Пелгусий, увидев видение и слыша голос святых, стоял объятый страхом, пока насад не скрылся. Тогда он поскакал навстречу Св. Александру и, увидев его, рассказал ему с «радостными очима» о видении, Св. Александр ответил ему: «Сего не рци никому, о, друже!»
К 11-ти часам дня солнце рассеяло лежавший на лесах туман. В это время Св. Александр ударил на шведов.
Нападение было неожиданным. Оно застало шведов в их стане. Все же шведы упорно оборонялись: «Бысть бой силён зело, ужасен и стрешен». Бились в одиночку, среди стана и ладей. Сам Св. Александр, пробившись к Биргеру, ранил его копьём в лицо.
Летопись упоминает имена шести новгородцев, отличившихся в сече, и описывает их подвиги.
Гавриил Олексич, увидев шведского королевича, которого приближённые влекли из битвы к ладьям, погнался за ним и вскочил на доски сходни. Подбежавшие шведские ратники столкнули его с конём в воду. Выбравшись невредимым на берег, Олексич схватился опять со шведами и посреди их полка убил шведского воеводу и епископа.
Другой новгородец Сбыслов Якунович рубился одним тяжёлым топором и многих удивил своей храбростью.
Яков Половчанин, ловчий князя, рубился мечом и «мужествовах крепко, и похвали его князь».
Новгородский воевода Миша напал на шведов с пешей дружиной и изрубил три ладьи.
Княжий отрок Савва прорубился на коне через шведов к златоверхому шатру Биргера, стоявшему посреди стана, и подрубил столб. Шатёр рухнул к великому смятению шведов.
Другой княжий отрок Ратмир в пешем бою был окружён целой толпой врагов и долго оборонялся от них один, пока не пал от многих ран.
Житие передаёт, что ангелы пришли на помощь новгородцам, как в древнее время при нашествии Сенахериба, царя Ассирии, на Иерусалим. За Ижорой, там, где нс проходило новгородское войско, были найдены тела убитых шведов, павших от ангельских мечей.
Сеча кончилась к вечеру. Остатки шведской рати сели на ладьи и ночью ушли в море.
По словам летописца, тела убитых шведов наполнили три ладьи и несколько больших ям, а новгородцы потеряли убитыми всего двадцать человек. Можно думать, что летописец неправильно передаёт соотношение убитых в сече, но, во всяком случае, его рассказ выражает сознание великого значения этой сечи для Новгорода и всей Руси. Натиск шведов был отражён. Слух о победе прошёл по всей стране. Новгород, объятый перед тем страхом и тревогой за исход неравной борьбы, возликовал. При звоне колоколов Св. Александр вернулся в Новгород. Архиепископ новгородский Спиридон с духовенством и толпы новгородцев вышли ему навстречу. Въехав в город, Св. Александр проехал прямо к Св. Софии, «хваля и славя Святую Троицу» за одержанную победу.
ГЛАВА X
Летом 1240 года Св. Александр при звоне колоколов и ликовании народа въехал в Новгород. Зимой того же 1240 года он с матерью, женой и всем княжьим двором уехал в Суздаль, поссорившись с новгородцами.
Эта распря на фоне общего несчастия Руси и постоянной угрозы врагов кажется непонятной. Но прежняя борьба Новгорода с князем, скрытая внешними событиями, продолжалась ещё со времён Ярослава. Пока угроза была лишь угрозой, Новгород жил своей обычной вольной жизнью. Только когда враг подходил к рубежам, смолкал вечевой шум, наполнялись храмы и Новгород искал защиты у князя. Только в дни походов воля князя и воля Новгорода сливались воедино. Когда наступал мир, после короткого ликования победы, они снова становились враждебными.
Св. Александр, по-видимому, не был ослеплён невской победой. Эта победа была только началом длительной войны. Её признаки сказывались во всём. Во время похода новгородцев к Неве меченосцы совершили набег на Псков. Поэтому Св. Александр готовился к дальнейшей борьбе. Для него Новгород продолжал оставаться на военном положении, как и при выступлении в поход.
Но, видимо, новгородцы не понимали, что война не кончилась невской победой и что наступление шведов лишь первое нападение Запада, за которым последуют другие. В попытках Св. Александра к усилению своей власти князя-предводителя рати они увидели прежнюю враждебную им княжескую суздальскую волю. Сама слава Св. Александра и любовь к нему народа делали его в глазах новгородских бояр ещё более опасным для новгородской вольности. Это непонимание страшного часа Руси вызвало у Св. Александра раздражение и досаду. На этой почве произошла распря, вызвавшая мятеж. Тогда Св. Александр поклонился Св. Софии и отъехал в Переяславль.
В этой распре правым оказался Св. Александр.
Ещё летом 1240 года, в то время как Св. Александр с новгородским ополчением отражал на Неве шведов, меченосцы вместе с медвежанами, юриевцами, велиадцами и князем Ярославом Владимировичем взяли Изборск – оплечье Пскова на западе, лежащий на взлобье высокого холма, над двумя озёрами, против литовских и ливонских лесов. Узнав о взятии своего пригорода, псковичи вышли всем городом под Изборск. Произошла злая сеча. Псковский воевода Гаврила Бориславлич был убит. Меченосцы погнали псковичей; многих убили, а многих захватили в плен. Гонясь за псковичами до самого города, они зажгли посад. Сгорели многие церкви. Меченосцы разграбили иконы и всю утварь церковную и опустошили сёла вокруг Пскова. Они простояли под Псковом неделю, города не взяли и, захвативши многих псковичей в плен, ушли. Но мира не наступило. В самом Пскове нашёлся перебежчик, Твердило Иванкович. Он захватил власть в городе и при поддержке меченосцев начал воевать новгородские сёла. Многие из псковских бояр, противившихся немцам, с своими семьями бежали из-под власти Твердила в Новгород.
Той же зимой, уже по отъезде Св. Александра, меченосцы опять пришли в новгородские владения Чудь и Водь, опустошили их, обложили данью и воздвигли город Копорье на самой Новгородской земле. Оттуда они взяли Тесово и подошли на 30 вёрст к Новгороду, избивая под дорогам новгородских гостей. На севере они дошли до Луги. В это время на новгородские рубежи напала Литва. Меченосцы, Чудь и литовцы рыскали по новгородским волостям, грабя жителей и отбирая лошадей и скот; предстоящей весной смердам нечем было пахать.
В этой беде новгородцы отправили к Ярославу Всеволодовичу послов с просьбой о князе. Но новгородцы не верили, что молодой князь выведет их из небывалых бед. Они снова послали к Ярославу архиепископа Спиридона с боярами, умоляя его отпустить на княжество Св. Александра.
Ярослав согласился. Зимой 1241 года Св. Александр после года отсутствия снова въехал в Новгород, и «рады быша новгородцы». Общие беды и невзгоды крепко связали Св. Александра с Новгородом. Через всё житие Св. Александра проходит любовь к буйному, часто непокорному Новгороду, несмотря на ссоры и разногласия, а иногда и открытую борьбу. Для Новгорода Св. Александр был одним из тех немногих князей, которых он любил и чтил, как своего князя. И эта любовь, скрывавшаяся подчас за недовольством и ропотом веча, как свеча, горящая под нагаром, иногда вдруг вспыхивала и горела ярким светом. Так было в дни тяжкой болезни Св. Александра, так было и в дни надвигавшейся общерусской беды.
Св. Александр, приехав в Новгород, застал его сумрачным и примолкшим. Вечевой колокол смолк и распри временно утихли. Спешно строились укрепления, стягивались ополчения и церкви наполнялись молящимися.
По приезде Св. Александр собрал ополчение из новгородцев, ладожан, корельцев и ижорян, напал на воздвигнутое на Новгородской земле Копорье, разрушил город до основания, перебил многих меченосцев, многих увёл в плен, других отпустил – «бе милостив паче меры», – а перебежчиков вожан и чудь велел казнить.
В ответ на это нападение орденские братья, несмотря на зимнее время, напали на Псков и, разбив псковичан, посадили в город своих наместников.
Услышав об этом, Св. Александр «велми оскорбе за кровь християньскую и, не умедлив нимало, но разгоревся духом и своею ревностью по Святей Троице и по Святей Софии, и поим с собою брата своего и вся воа своя, и прииде к Новугороду и поклонися святей Софии с молбою и плачемь».
Во главе новгородского и низового войска Св. Александр с братом Андреем пошёл на орден. По дороге он взял приступом Псков и орденских наместников отослал закованными в Новгород. Из-под Пскова он двинулся дальше и вошёл во владения ордена.
Вступив в орденские земли, Св. Александр пустил полки в зажития. Меченосцы напали на передовой полк новгородцев и изрубили его. Домаш Твердиславович, брат новгородского посадника, «муж добр», был убит. Из всего полка лишь немногие успели убежать к своему князю.
При известии о вторжении Русских, магистр собрал весь орден и подчинённые ему племена и выступил к рубежам. Узнав, что на него идёт большая рать, Св. Александр отступил из орденских владений, перешёл через Чудское озеро и поставил свои полки на русском его берегу, на Узмени у Вороньего камня. Наступил уже апрель, ко всё ещё лежали снега, и озеро было покрыто крепким льдом. Готовился решительный бой. На новгородцев шёл весь орден. Немцы шли «похваляясь», уверенные в своей победе. Из рассказа летописи видно, что вся новгородская рать сознавала глубокую серьёзность боя. В этом рассказе – в напряжённом ожидании битвы – есть ощущение лежащей за спиной Русской земли, участь которой зависела от исхода сечи. Исполнившись ратного духа, новгородцы сказали Св. Александру: «О, княже наш честный и драгий; ныне приспе время положити главы своя за тя». Но вершина этого сознания решительности боя заключается в молитвах Св. Александра, которые приводит летопись: Св. Александр вошёл в церковь Св. Троицы и, воздев руки и помолившись, сказал: «Суди, Боже, и разсуди прю мою от языка велеречива: помози, Господи, яко же древле Моисеови на Амалика и прадеду моему, князю Ярославу, на окаянного Святополка».
В субботу (5 апреля) на восходе солнца рать меченосцев в накинутых поверх доспехов белых плащах, с нашитыми на них красным крестом и мечом, двинулась по льду озера на новгородцев. Построившись клином – «свиньёй» – и сомкнув щиты, они врезались в русскую рать и пробились через неё. Среди новгородцев началось смятение. Тогда Св. Александр с запасным полком ударил в тыл врага. Началась сеча, «зла и велика»... и трус от копей ломленье и звук от мечного сечения... и не бе видети озеру, покрыло бо есть всё кровью». Чудь, шедшая вместе с орденом, не устояв, побежала, опрокинув и меченосцев. Новгородцы гнали их по озеру семь вёрст, до другого берега озера, называемого Супличским. На широком ледяном пространстве бежавшим некуда было скрыться. В битве пало 500 меченосцев и множество Чуди.
Пятьдесят рыцарей было взято в плен и приведено в Новгород. Многие утонули в озере, провалившись в полыньи, а многие израненные скрылись в лесах.
Как во времена невской битвы, современники видели Божий полк в воздухе, помогавший новгородцам.
Св. Александр со славою въехал в Псков. За конём его шли пленные рыцари. Игумены и священники и множество народу, с образами и хоругвями, вышли ему навстречу.
Св. Александр проехал прямо в собор Св. Троицы, где был отслужен молебен.
Летописец, заканчивая описание этой сечи, восклицает: «О, невегласи Псковичи, аще забудете великаго князя Александра Ярославича, или отступите от него, или от детей его, или от всего роду его, уподобитеся Жидомъ, их же препита Господь в пустыни крастельми печёными, и сих всех забыша благ Бога своего, изведшаго из работы Египетскиа Моисеом; се же вам глаголю: аще кто приидет напоследок род его великых князей, или в печали приидет к вам жити во Псков, а не примите его или не почтите его, наречётся вторая Жидова».
Разгром на Чудском озере тяжело поразил орден. Меченосцы выставили против русских всю свою силу, и вся эта сила была разбита. Тем же летом магистр прислал в Новгород послов с предложением мира. Орден отказывался от своих завоеваний в новгородских владениях и предлагал обмен пленных меченосцев на захваченных им в плен новгородцев и псковичей.
Борьба с Западом не окончилась Невской и Чудской битвами. Она, возобновлялась ещё при жизни Св. Александра, продолжалась несколько столетий. Но Ледовое побоище сломило вражескую волну в то время, когда она была особенно сильна и когда, благодаря ослаблению Руси, успех ордена был бы решительным и окончательным. На Чудском озере и на Неве Св. Александр отстоял самобытность Руси от Запада в самое тяжёлое время татарского полона. Обе эти сечи были битвами, которые не принесли ни мира, ни полного освобождения, но которые обозначают собою глубокий перелом, направляют историческую жизнь народа в иное русло.
Память об этих битвах долго жила в Новгороде и в Пскове. Более трёхсот лет на всех ектеньях поминались павшие в сечах на Неве и на Чудском озере.