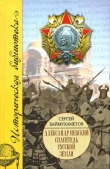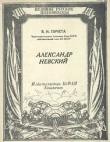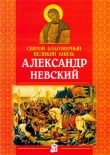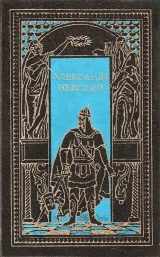
Текст книги "Александр Невский. Сборник"
Автор книги: Н. Чмырев
Соавторы: Францишек Равита,В. Кельсиев,Л. Волков,В. Клепиков,Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц)
XIV. ЧЕСТОЛЮБЦЫ
Всех опечалила кончила святого Алексия, кроме Митяя.
Его честолюбие, ранее тайное, сразу вырвалось наружу. Он, ссылаясь на условное благословение покойного святителя, назвал себя наместником митрополичьего престола, самовольно надел белый клобук и первосвятительскую мантию с источниками и скрижалями, взял владычий посох, печать, казну, ризницу митрополита, поселился в митрополичьем доме и начал судить самовластно дела церковные.
Он был высокомерен и даже груб.
Ещё не имея посвящения, но дерзко облачившись в первосвятительские одежды, Митяй осмеливался требовать к ответу епископов.
Ему, как митрополиту, служили владычные бояре и так называемые отроки, священники присылали в его казну оброки и дани.
Честолюбие его, казалось, могло бы быть удовлетворено. Но на самом деле вышло не то. Он нашёл кару в своей собственной гордыне. Он перестал выносить малейшее противоречие, малейший косой взгляд. Всё должно было падать перед ним ниц и смиряться. Но его поступки вызвали нарицание со стороны многих.
Конечно, и святой Сергий не мог не порицать самовольства и гордыни Митяевой.
Узнав об этом, Митяй пришёл в ярость. Он поносил святого, грозил уничтожить его обитель, когда станет митрополитом, говорил, что Сергий завидует ему и хочет сам занять митрополичий престол.
Когда слова отца Михаила дошли до преподобного, он только заметил пророчески:
– Не получит он желаемого престола владычного, понеже гордостью обуян... Не узреть ему и Царьграда...[13]13
Четьи-Минеи и Никон. Лет. IV, 234.
[Закрыть]
С отъездом в Византию Митяй не спешил, так как желал, чтобы прежде этого великий князь приказал русским святителям посвятить его, Митяя, в епископский сан.
Димитрий Иоаннович готов был исполнить желание своего любимца.
Был созван собор епископов. Воля князя была законом: епископы готовы были посвятить отца Михаила согласно с Номоканоном.
Но нашёлся человек, который восстал против такого решения.
Это был Дионисий, епископ суздальский.
Он был умён и, быть может, честолюбив не меньше Митяя. Ему думалось, что митрополичий престол достойнее отдать кому-нибудь из епископов, а не архимандриту Михаилу, который совсем недавно подстригся в монахи, и притом по летам сравнительно молодому.
Шевелилась мысль и о том, почему бы не сесть на митрополичий престол самому ему, Дионисию.
Как бы то ни было, он поднял голос против посвящения отца Михаила.
– В нашей церкви русской испокон веку в обычай и в закон вошло, что епископов ставит токмо митрополит... Так должно быть и ныне.
Митяй возражал, но кое-кто из епископов согласился с Дионисием, а затем, к большому неудовольствию отца Михаила, на сторону епископа суздальского склонился и великий князь.
Решили так: не посвящать отца Михаила в епископы, а ехать ему в Царьград и там принять, если вселенский патриарх пожелает, не только епископскую благодать, но и сан русского митрополита.
Это не входило в расчёты Митяя: он всё же оставался по степени благодати ниже многих из тех, кем повелевал или, по крайней мере, хотел повелевать.
Епископский сан ему был нужен для того, чтобы хоть несколько оправдать своеволие, с которым он надел мантию: ведь благодать почиет одинаковая, что на епископе, что и на митрополите. Разница только во внешних знаках сана и в степени власти над пасомыми.
Отец Михаил рвал и метал. Преосвященный Дионисий ликовал.
Оба они, конечно, и не сознавали, какая пропасть лежит между ними и почившим владыкой Алексием со смиренным троицким игуменом Сергием.
Первые двое жаждали власти и влияния, вторые – только спокойствия духа и угождения Богу.
Первые, несмотря на духовный сан, были люди «к земле приверженные», вторые – стремились к небу.
Святой Алексий если и ценил сан митрополита, то только потому, что, будучи главой русской церкви, можно было делать много добра.
Святой Сергий прямо отказался от первосвятительского престола, считая, по своему смирению, себя недостойным этого.
А архимандрит Михаил сам добивался первосвященнического сана, не рассуждая, достоин или нет занять его, стремился к нему только ради удовлетворения своего самолюбия, только ради «благ земных».
Епископ Дионисий, противостоявший ему, сам хотел этой чести и завидовал Митяю.
Помыслы его были тоже «земными».
Митяй не простил Дионисию его противодействия.
Как-то он потребовал его к себе.
Тот приехал, но гневный.
– Почему ты до сих пор не был у меня на поклоне? – спросил отец Михаил.
– Почему? Зачем мне быть у тебя? – насмешливо ответил Дионисий. – Я епископ, а ты архимандрит; как же ты можешь повелевать мною?
Митяй задрожал от злости.
– Стану митрополитом, так не оставляю тебя и попом! – воскликнул он.
– Ладно, я ещё прежде этого поеду к вселенскому патриарху и позову тебя на суд. Тебе, может, из-за твоего своевольства не увидеть и престола митрополичьего.
Они расстались открытыми врагами.
Митяй передал эту беседу князю и сообщил, конечно, об угрозе суздальского епископа.
– Не уедет. Не пустим, – успокоил Димитрий Иоаннович своего духовника.
Он приставил стражу к жилищу Дионисия.
Однако тот упросил заступиться за него преподобного Сергия.
Святой игумен упросил великого князя, и под поручительство преподобного епископ был выпущен на свободу.
Не оправдал Дионисий доверия святого инока и великого князя: тайно выехал из Москвы в Константинополь.
Следом за ним поспешил в путь и отец Михаил, пробыв наместником уже полтора года.
Князь отпустил его с лаской и в знак особой милости дал ему несколько белых хартий, снабжённых великокняжеской печатью, чтобы он воспользовался ими в Константинополе сообразно с обстоятельствами: или для написания грамоты от имени Димитрия, или для займа денег.
В путь отправился Митяй с большой пышностью: сам великий князь, все старейшие бояре, епископы проводили его до Оки. В Грецию отправились с ним три архимандрита, один московский протоиерей, несколько игуменов, шесть митрополичьих бояр, два толмача и, как выражается летописец, целый полк разных людей под главным начальством «большого» великокняжеского боярина Юрия Васильевича Кочевина-Олешинского.
Путь был долгим и небезопасным. Великого князя очень беспокоила судьба его духовника.
Но вскоре его внимание привлекла гроза, которая надвигалась на Русь: ополчались татары.
XV. КНЯЖИЙ ЛЮБИМЕЦ
Вернёмся теперь к давно оставленным нами Андрею Алексеевичу Корееву, верному Матвеичу и его племяннику Андрону.
Долог и труден был их путь до Рязани по осенней непогоде. Но как бы то ни было, они добрались благополучно, если не считать того, что нежное лицо Андрея загрубело от воздуха и одежда его, прежде довольно щегольская, загрязнилась и порядочно поистрепалась на ночлегах где и как попало.
С трепетно бьющимся сердцем приближался юноша к стенам Рязани.
«Что-то будет? Как-то дядюшка встретит. Брат отца, своя кровь...» – думал он, въезжая в ясный полдень в ворота города.
Он думал, что будет трудно разыскать дядю, но оказалось наоборот: первый же встречный указал его хоромы неподалёку от княжьих.
– Он, знать, здесь большой человек, – не то подумал вслух, не то спросил старик Матвеич.
– И-и! первейший. Правая рука Князева, – последовал ответ. – А вы откуда?
– Из Москвы.
– Из Москвы-ы?! Чудно.
– А что?
– Нет, так. Наш князь Москву не больно любит... Епифан-от Степаныч теперя дома: видал я, как он из церкви вернулся.
Прохожий пошёл своим путём-дорогой, а наши путники двинулись к палатам Епифана Степановича.
Ближний боярин князя Олега Рязанского, Епифан Степанович Кореев, смачно обедал – любил старик побаловать себя сладким куском! – когда слуга доложил:
– Спрашивают тут твою милость.
– Кто такие? – с неудовольствием спросил хозяин.
– Не ведаю... Один будто из господ, только поистрепавшись, а двое хлопов. Хотели тебя немедля видеть, да я не смел пустить.
– И ладно. Не вставать же для всякого из-за обеда. Скажи, коли надобность ко мне, пусть подождёт.
С этими словами он отпустил слугу.
И ещё добрый час жена Епифана Степановича выбирала ему на «тарель» – большая редкость в то время даже у богачей – лучшие куски. Наконец он приказал подать себе квасу и лениво добавил:
– Позови этого... ну, приезжего...
И тут же сказал жене:
– Ты уйди, мать.
Она вышла.
Старый Кореев был мужчина лет под шестьдесят, тучный, крепкий, краснощёкий, с чуть заметною проседью в тёмно-русых волосах. У него были маленькие, заплывшие жиром глаза, часто вспыхивавшие хитрым огоньком, широкое, несколько скуластое лицо, обрамленное тёмною бородой, и целая шапка волос, набегавших на виски и редких на темени.
В ожидании пришельца он имел вид спесивый и недовольный.
Андрей Алексеевич, дожидаясь, когда его примет дядя, рисовал в своём воображений сцену свидания и расспрашивал Большерука про Епифана Степановича.
Тот отвечал очень коротко:
– Нравен малость... А ничего... Известно, боярин...
Юный Кореев нарочно не сказал докладывавшему холопу, кто он, желая поразить Епифана Степановича радостною неожиданностью.
Он готов был кинуться к дяде в объятия, расцеловать его.
Ведь родной брат отца!
Сердце юноши жаждало тёплой привязанности.
Когда холоп наконец позвал его в покои, следом за Андреем Алексеевичем увязался Матвеич на том основании, что дяденька может не признать племянника.
Молодой человек вошёл в светлицу с улыбкой, но она разом скрылась при виде недовольного и холодного лица дяди.
Он остановился посреди комнаты. Большерук выглядывал из двери.
– Что надоть? – промолвил хрипло Епифан Степанович.
Андрей Алексеевич почувствовал, что робеет.
– Я, видишь ли, к тебе... По тому самому, что я тебе племянник... – пробормотал он.
Старый Кореев широко открыл глаза и подался вперёд.
– Как ты сказал? – воскликнул он.
– Племянник твой...
Епифан Степанович заметно изумился, потом окинул внимательным взглядом убогую одежду юноши и, приняв равнодушный вид, проговорил:
– А у меня и племянника-то никакого нет.
– Как нет! – раздался голос Матвеича, и верный слуга влез в комнату. – Вот те раз, нет! Меня, чай, признаешь? Матвеич я, ключник братца твоей милости Алексея Степаныча... А это его сынок Андрей Лексеич. Как же не племянник?
Старый Кореев поглаживал бороду и соображал: «Может, и в самом деле братнин сын. Старик будто знаком... А только парень, по всему видать, голяк. Кормиться ко мне, чай, приехал... Знаю я роденьку».
– Брат Лексей у меня точно был... Да помер... А ты, парень, уж как-то больно чудно, словно с неба свалился... Народ же ноне разный бывает... Опять же и вид у тебя... – сказал дядюшка, барабаня пальцами по столу и презрительно косясь на племянника.
Юноша стоял обескураженный. Но Матвеич разом смекнул, в чём дело.
– Вид, оно верно... Да где ж в дороге купишь? А денег есть... На-кось, – промолвил он, вынув кошель, и, раскрыв, показал его старому Корееву.
Потом добавил обиженным тоном:
– Не объедать тебя племяш приехал.
Тут впервые Андрей Алексеевич познал магическую силу золота.
Лицо Епифана Степановича разом прояснилось, глаза забегали.
– Да разве я потому, что объедать? – заговорил он, словно оправдываясь. – Нешто я для родного когда пожалею? Ни в жисть. А токмо нельзя же и так. Пришёл человек незнаемый и говорит: я твой племяш. Стало быть, и верить? Я человек старый, видал виды. Опаска завсегда нужна... Теперь я вот смекаю, что и в лице у него с покойным Алёшей есть сходственность... Вот уж который год, как в землю убрался. Идёт время...
Он принял грустный вид.
Затем внезапно добавил:
– Ты скидай кожухчик свой, племянничек... Да поцелуемся...
Он встал и распростёр объятия.
Немного спустя Андрей Алексеевич сидел уже за столом, уставленным яствами, и рассказывал дяде о своих злоключениях.
Дядя вздыхал, качал головой и, подливая племяннику наливки, говорил:
– Мы тебя здесь устроим.
Потом выплыла к столу и тётушка Анна Петровна – жена хозяина дома.
Беседа пошла родственная, задушевная.
Матвеич и Андрон в то же время угощались на кухне.
– Я тебя к князю введу, мне это ничего не стоит, – сказал в разговоре дядя, – а только тебе надо приодеться. Да вот как раз (он хлопнул себя по лбу), хорошо на память пришло, у меня есть чуга[14]14
Ч у г а – узкий кафтан без воротника и с короткими рукавами.
[Закрыть] новёшенька... Малость только тебе перешить. Хочешь, продам? Возьму, что мне стоила. Не наживать же с тебя.
Андрей Алексеевич охотно согласился.
На этой чуге дядюшка нажил с племянника ровно в полтора раза больше её стоимости.
Через несколько дней юный Кореев был представлен князю Олегу.
Он стал бывать в княжьих палатах ежедневно, но князь мало обращал на него внимания, пока не произошёл один случай.
Стояла уже глубокая зима, когда сковались реки и снег залёг на полях и в лесах толстым слоем, а морозы трещали такие, что дух захватывало.
К стуже русскому человеку не привыкать. Он даже любит крепкий морозец и подшучивает над ним.
Старый князь Олег, – несмотря на преклонный возраст, богатырь телом, – не был исключением.
Мороз не заставил его отказаться от любимого развлечения: медвежьей травли. Князь любил поднять медведя и взять его на рогатину. На сей раз медведь залёг недалеко от города: тем более трудно было устоять Олегу, чтобы не побаловать себя.
Рано утром в назначенный день отправились на охоту князь, несколько приближённых, в числе которых находился старый Кореев и Андрей Алексеевич, увязавшийся за дядей.
Доехали до опушки, там слезли с коней и пошли по сугробам.
Князь Олег, старец с лицом патриарха, казалось, помолодел. Держа рогатину в руке, он шёл впереди всех и беспрестанно спрашивал у мужика-проводника, скоро ли берлога.
Наконец он успокоился: проводник, остановясь у снежного сугроба, навеянного к пню, остановился и сказал:
– Здесь зверь.
Стали вонзать копья в снег, чтобы поднять медведя.
Долго не удавалось.
Потом сугроб словно дрогнул, разом рассеялся, и огромный медведь, взбешённый, страшный, с приставшими комьями снега к косматой шерсти, с рёвом поднялся из берлоги.
Все отпрянули, кроме князя Олега, который спокойно ждал зверя.
Медведь заметил неприятеля и, вытянувшись на задних лапах и помахивая передними, пошёл на князя, переваливаясь как утка.
Князь стоял неподвижно.
Зверь совсем близко. Слышно его хриплое, порывистое дыхание.
Вдруг Олег поднял рогатину и вонзил в медведя.
Оружие глубоко впилось. Удар был верен. Кровь оросила снег.
Медведь заревел, полез дальше, всё глубже всаживая в себя рогатину и стараясь переломить её лапой, что не позволял ему сделать охотник, зорко следя за его движениями.
Но притупился ли от лет взгляд князя рязанского, утратилась ли былая ловкость, только он сделал неловкий поворот.
Послышался треск ломающейся рогатины.
Медведь насел на Олега и подмял под себя.
Все испуганно ахнули.
Не потерялся только один Андрей Алексеевич. Одним прыжком очутился он рядом с медведем, поднял обеими руками свой бердыш, с которым никогда не расставался, и страшным ударом раскроил череп медведю.
Зверь тяжёлой массой рухнул на снег.
Старый князь лежал без чувств. Его подняли, потёрли виски снегом и осмотрели. Было несколько ран, но не опасных: кости были целы.
Придя в себя, князь пожелал видеть своего избавителя.
Он обнял юношу и поцеловал.
– Отныне ты будешь другом моим, – сказал он. – Первым после меня станешь в княжестве Рязанском.
Олег сдержал слово. Несмотря на молодость, Андрей Алексеевич занял место ближнего боярина князя. С ним князь часто советовался и осыпал милостями.
Время быстро пролетало.
Юный Кореев уже мог бы вернуться на родину и отнять вотчину у опекуна, но медлил с возвращением: не хотелось покидать князя, полюбившего его как сына, да и привязался он к семье дяди.
Мало видевший ласк, сирота полюбил Епифана Степановича. Тот казался ему таким добрым, истинно родным.
Старый Кореев часто говаривал:
– Ты считай меня заместо отца. Полюбился ты мне.
Порою он даже точно заискивал перед молодым племянником.
Неопытный и доверчивый юноша принимал всё за чистую монету, и привязанность его с каждым днём возрастала.
Раз как-то Матвеич, поймав Андрея Алексеевича наедине, сказал:
– Юлит старый... Ты смотри не очень-то того. С опаской.
Молодой Кореев только подивился такому предостережению.
Часто он думал, что как хорошо сделал, приехав в Рязань. Там, дома, были только косые взгляды отчима да порою ложная ласка, а здесь он нашёл искреннюю ласку и родную семью.
Что он служил чужому князю, это его не беспокоило. Олег, казалось, был верен Димитрию Иоанновичу, а, кроме того, Андрей Алексеевич ведь не приносил клятвы служить рязанскому князю. Он мог свободно «отъехать», когда хотел.
На душе юноши было мирно и спокойно.
Даже мстительные замыслы относительно Некомата оставили его.
Молодой Кореев был очень незлобив от природы и, если способен был причинить кому-нибудь зло, так только разве в минуту крайнего раздражения.
«Бог с ним, – решил он, – на чужое позарился – своё потеряет».
Он и не думал, что эта мысль уже сбылась, что Некомат почти нищий мечется из княжества в княжество, из Руси в Литву, вечно боится за свою жизнь и проклинает судьбу и кается в содеянном.
Если бы Андрей Алексеевич встретил в это время своего опекуна, то, вероятно, простил бы его.
Не знал он и того, что окружающие его люди вовсе не такие добрые и ласковые, какими пытаются притвориться.
Юноша не знал, что князь рязанский, открывая перед ним якобы все помыслы, глубоко таит свою ненависть к великому князю московскому и уже ведёт переговоры с Литвой, где в то время место умершего Ольгерда занял жестокий Ягелло. Старый Олег был не чета Михаилу Тверскому. Наученный опытом, он понимал, как трудно тягаться с Москвой. Он притворялся другом Димитрия, а втайне строил козни и выжидал удобного случая, чтобы скинуть личину.
Юноша не знал, что все эти ласковые вельможи потому только благоволили, что к нему милостив князь. Они заискивают, низкопоклонничают перед ним, но в душе ненавидят «мальчишку».
Юноша не знал, наконец, что сам такой добрый дядя завидует ему. Если бы он мог проникнуть в думы дяди, когда тот бродит ночною порой как тень по покоям, одолеваемый бессонницей, то он бы огорчился и испугался.
Ему тогда открылось бы, что первый враг его – дядя.
Епифан Степанович не находил себе покоя с тех пор, как его племянник попал в милость к князю.
Его ела зависть.
– И надо мне было его принять к себе да к князю вводить!.. Ведь он оттёр меня, оттёр... Хитрющий мальчишка!
Так рассуждал старик Кореев, забывая, что только случай помог его племяннику выдвинуться.
– И как он ловко меня обошёл! Дяденька да дяденька... А теперь и ступай к нему на поклон. За свою глупость кланяйся безбородому парнишке. Ну, да всё до поры до времени. Княжая-то любовь переменчива. Придёт и моя пора, и он мне поклонится. Хотелось бы мне очень у князя супротив него поработать... Сшибить, значит...
Но планы козней, какие он строил, все выходили неудачными.
Надобно было так устроить, чтобы исподволь и незаметно: чтобы и князю невдомёк, что со зла говорит, да чтобы и племянник не узнал.
Лучшим средством в конце концов ему показалось действовать через других.
Он повёл игру осторожно.
То с тем, то с другим посмеётся над племяшом:
– А пустая ещё у него голова! Какой он княжий советник. Ему бы голубей гонять.
А этот – «тот или другой» – уж в свою очередь постарается разнести:
– Вот что сам дядя родной говорит...
А после, может быть, и до князя дойдёт.
Олег, может быть, только поморщится.
Но ведь поморщится раз, поморщится два, а там и покосей взглянет на Андрея Алексеевича.
Быть может, в княжьей голове даже мелькнёт:
«Ив самом деле, какой он советчик?»
Пускал дядюшка в ход и другое средство.
Нет-нет да кому-нибудь и шепнёт про племяша скверную небылицу и сам же тут прибавит:
– Мне не верится... Да и ведь душа болит: родной племянник, своя кровь. Да как не поверить? Человек сказывал верный.
И пойдёт кружить сплетня.
И вновь поморщится старый Олег.
А юноша в простоте сердечной ничего не подозревал. Продолжал думать, что вокруг него все добрые, славные.
Он не замечал даже того, что князь с ним становится холодней.
Тем тяжелей ему было, когда грянул гром с безоблачного неба.
Конечно, безоблачным оно только ему казалось.
XVI. ВЕРНЫЙ РАБ
1380 года застал Андрея Алексеевича всё там же, в Рязани, и всё в прежнем положении якобы княжьего любимца.
Протёкшие со времени его приезда годы наложили на него свой след: теперь он выглядел богатырём-мужчиной, но взгляд его по-прежнему оставался умным и приветливым, душа – незлобивой и доверчивой.
Зато и дядя с приспешниками тоже не изменились, они сплели вокруг молодого Кореева целую сеть интриг, которой не замечал только сам Андрей Алексеевич.
Он даже думал, что князь Олег по-прежнему расположен к нему. Правда, старый князь выказывал ему некоторые внешние признаки внимания, но сердцем уже сильно остыл к нему. Подвиг, свершённый Андреем, с течением времени словно потускнел.
«Что ж особенного сделал он? По башке медведя бердышом хватил. Не он бы, так другой кто-нибудь сие свершил бы: нешто дали бы зверю сломать меня?» – думал порой князь. И эти мысли стали приходить к нему всё чаще. Он уже почти жалел, что так приблизил к себе Кореева.
– Человек он московский... Может, тут у меня соглядатничает... Надо бы его на верность попробовать...
Такой случай вскоре неожиданно как для Олега, так для молодого Кореева представился и разом перевернул всё.
Однажды Андрей Алексеевич застал князя чрезвычайно весёлым, смеющимся.
С Олегом сидел Епифан Степанович, находившийся тоже в прекраснейшем расположении духа.
Андрей Алексеевич с некоторым удивлением посмотрел на престарелого князя, которого редко видел не то что смеющимся, а даже улыбающимся. Обыкновенно он бывал серьёзен, почти угрюм.
Заметив взгляд юного Кореева, князь спросил:
– Что смотришь? Что я больно весел? Ещё бы, брат, когда великий князь-то твой московский, умник-то разумник, у нас вот где.
Он указал на сжатый кулак.
– В кулачок зажат! – в тон Олегу сказал старый Кореев.
Молодой человек только пожал плечами в недоумении.
– Не понимаешь? – с усмешкой спросил Олег. – Так я тебе скажу: на Русь идёт хак Мамай с великою силой.
– Боже мой! – воскликнул Андрей Алексеевич.
– Подожди. А с другой стороны идёт Ягайло тоже с силой немалой...
– Мало одной беды.
– Ас третьей – хе-хе! – я на Димитрия свет Иваныча нападу.
Молодой Кореев не верил ушам.
– Ты?!
– Конечно же я. Хватит прикидываться-то мне. Надо правду молвить: московский князь мой ворог старинный. Я смирился, да молчал до поры до времени. Он меня, чай, другом считает. А мне Рязань дороже его дружества. Хан Мамай обещал, как завоюет, всю Русь отдать мне с Ягайлом. Мы поделим... Татары уж у Дона... Ягайло перешёл рубеж... О сём я сам – хе-хе! – известил Димитрия: идёт, дескать, Мамай на тебя и на меня, и Ягайло тоже, но ещё рука наша крепка – справимся! Пусть попробует догадаться, что я ему ворог. До последнего не надобно ему сего знать. Как литовцы подойдут поближе, тогда иной будет сказ.
Андрей Алексеевич слушал князя в каком-то остолбенении.
Дядя смотрел на него и язвительно улыбался: он предвидел, что теперь племяннику «карачун».
Наконец молодой человек вымолвил побледневшими устами:
– Стало быть, ты вместе с неверными будешь бить христиан православных?
– Что ж, коли это на пользу Рязани, – пожав плечами, ответил князь.
– А греха-то не боишься? – пылко воскликнул Андрей Алексеевич. – Побойся Бога, стар человек!
– Молоденек учить меня, – угрюмо отозвался князь.
– Да, да... Где уж тебя учить. Прощай, княже! Я сейчас уезжаю.
– Если я тебя пущу.
– Я вольный человек, тебе креста не целовал.
– Это всё равно. Пустить тебя, чтобы ты пошёл Димитрия обо мне оповещать. Ловок! Нет, брат, пока всё не кончится, останешься ты у меня.
– Не останусь.
Олег сделал знак Епифану Степановичу.
Тот быстро вышел и вскоре вернулся с двумя дюжими молодцами, у которых были в руках копья.
– Возьмите-ка этого паренька. Ты, Епифан, устрой его как следует.
– Будь надёжен, княже!
Стражи взяли молодого Кореева за руки.
Он мог бы их обоих отбросить одним махом, но понял, сто сопротивляться бесполезно.
– Дашь ты Богу ответ, князь! – сказал он.
– Ладно, ладно, проваливай!
По его знаку юношу увели.
Дядя действительно распорядился как следует: по его приказанию племянника посадили в подклеть с одним окошком и толстою дубовою дверью. Туда бросили ему ворох соломы, поставили воды да кусок хлеба.
– Посиди, княжий любимчик! – насмешливо промолвил Епифан Степанович и захлопнул дверь.
Андрей Алексеевич стал узником.
Он кинулся на солому в изнеможении, разбитый страшным душевным потрясением.
– Злодеи, злодеи!.. – шептал он.
Сердце было полно скорби и негодования.
По временам ему хотелось кричать, неистовствовать.
Он вскакивал, озирался, как пойманный зверь, потом бессильно падал на солому.
– Боже мой, не дай злодеям свершить злое дело! – воскликнул он, воздев руки.
И, встав на колени, начал молиться.
Он молился долго и горячо. Молился не за себя, а за Русь, за князя Димитрия.
Жарка была его молитва и подействовала на него успокоительно.
В сердце воскресла надежда, почти уверенность, что Бог не допустит торжества «злых изменников».
У томительно-долгие потянулись часы заключения.
Настала ночь, но сон бежал от глаз узника; рассвет, скудно проникавший сквозь оконце, застал его бодрствующим, он полулежал, подперев рукой голову, в глубокой задумчивости.
В обеденную пору опять ему кинули хлеба, сменили воду; он забыл и думать о пище.
Обошёл кругом свою темницу... Толстые стены, дубовая дверь... Нет, не выбраться отсюда...
А у дверей, наверно, ещё страж.
Снова смерклось, наступала уже вторая ночь его заключения.
За дверью послышался говор.
– Нашёл время! – ворчливо сказал стражник. – На ночь глядя притащился.
– А ежели я раньше был занят? – ответил второй, и Кореев сразу узнал голос Матвеича. – А ты должен: у меня княжий пропуск. Вишь, печать!
– Разглядишь в этакой тьме. Да иди, только долго хороводиться не дам.
Послышался звук отодвигаемого затвора. Дверь приоткрылась, и кто-то вошёл. Кто – этого сразу разглядеть молодой человек не мог.
– Андрей Лексеич! Сердешный, – сказал верный раб.
Кореев кинулся к нему и замер в его объятиях.
– Времени терять нельзя, – зашептал Большерук. – Надевай-кась скорей...
Он снял с себя и накинул на Кореева широкий, длинный мужицкий армяк.
– Роста-то мы одного... Смекаешь... Шапку на... Да дай-кась я тебе бороду прицеплю... Из пакли сделал, вчера всю ночь сидел... В темноте он не разберёт.
Андрей Алексеевич понял, в чём дело.
Сердце его радостно забилось.
Но тотчас же охватило беспокойство за участь Матвеича.
– А как же ты? Тебе ведь беда будет.
– Э, родненький! Я стар человек, пожил. Коли и казнят – не беда... Тебе ещё жить надо, а мне...
– Почто я тебя губить стану? Я не пойду.
А сердце мучительно просило воли.
– Не пойдёшь, так я сейчас сторожа придушу и всё равно сгину ни за грош, – решительно промолвил старик.
Потом добавил:
– Андрон с двумя конями ждёт тебя за углом у твоего дома... А твоя казна вот, возьми.
Он сунул ему кошель.
– Ах, Матвеич, родимый, за тебя боязно!
– Не бойся, соколик. Ну, иди с Богом!
Старик перекрестил его.
– Скоро, что ли? А то и тебя здесь запру, – послышался окрик сторожа.
Большерук толкнул Кореева к дверям, а сам упал на солому.
Дрожащей рукой схватился юноша за скобу, распахнул дверь и вышел, низко наклонив голову.
Караульный тотчас же запер за ним дверь.
Обман удался.
Не спеша, чтобы не вызвать подозрений, тяжёлой старческой походкой побрёл он к своему дому среди сгустившейся темноты.
За углом чуть вырисовывались силуэты двух коней и всадника.
– Андрон! – тихо позвал Кореев.
– Я-сь! – откликнулся всадник.
Сбросить армяк и привязную бороду было делом одной секунды.
В следующую он был уже на седле.
– Дядька там? – спросил Андрон.
– Там... – ответил Андрей Алексеевич, и голос его дрогнул.
– Помоги ему Господь! Едем!
Выбрались за город единственными открытыми ночью воротами, где их было окликнули.
Андрей Алексеевич ответил, что холопы они боярина Епифана Кореева и посланы им по спешному делу.
Их не стали расспрашивать и пропустили, а лиц в темноте нельзя было разглядеть.
За городом поехали с возможной быстротой.
В душе Кореева было смешанное чувство радости и скорби. Он радовался свободе и печалился о верном Матвеиче.
Обман, конечно, не замедлил открыться. Страж, принёсший, по обыкновению, воды и хлеба, тотчас же узнал подмену.
Узнав о побеге узника, Олег пришёл в ярость. За Андреем Алексеевичем была послана погоня, но не имела успеха.
Участь Матвеича была решена коротко:
– Казнить!..
Старик был безмятежно-спокоен, когда его вели на казнь.
Он помолился, поклонился на все стороны и сам положил на плаху седую голову.
Сверкнул топор. Раздался глухой удар.
И верного раба не стало.