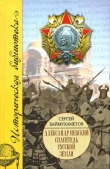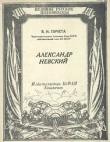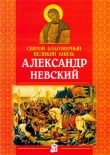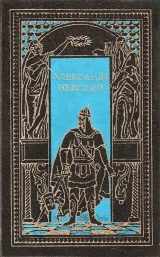
Текст книги "Александр Невский. Сборник"
Автор книги: Н. Чмырев
Соавторы: Францишек Равита,В. Кельсиев,Л. Волков,В. Клепиков,Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
VI. ПОП МИТЯЙ
После погребения последнего тысяцкого отец Михаил – он же Митяй – вернулся в село Коломенское.
Какою убогою показалась ему маленькая деревянная церковь, в которой он служил, после величественных храмов Чудова монастыря!
Каким тесным и жалким представлялось ему Коломенское после Москвы, – уже и тогда довольно обширной, – с её палатами бояр, с её церквами, блещущими золотыми маковками!
«Разве здесь мне место? – думал он однажды, стоя у окна в одной из горниц своего маленького дома и смотря на десятки в беспорядке разбросанных лачужек с потемневшими соломенными крышами. – Другие в Москве священствуют, а меня вон куда кинуло А нетто они ровня мне? Будь я в Москве, на глазах у великого князя, чего б я не добился... Протопопом-то, наверно, давно бы был... Эх-эх!..»
И сердце его усиленно билось от себялюбивых помыслов и от зависти к другим, более его счастливым.
«Великий князь сказал, что не забудет меня, что хочет почаще слышать... Дал бы Бог А только теперь уже которая седмица идёт с той поры, а нового мало...»
В это время он заметил молодого человека в подряснике, подъезжавшего к его дому в маленьком волоке[9]9
Волок – тележка на двух колесах.
[Закрыть] и оглядывавшегося по сторонам, как будто он что-то искал.
Митяй вгляделся и узнал в проезжавшем одного из митрополичьих келейников.
Затем он услышал, как келейник спросил какого-то прохожего:
– Где тут поп Михайло живёт?
– А вот и здеся, – донёсся ответ.
«Ко мне от владыки!» – мелькнуло в голове Митяя, и он поспешил в сени навстречу приезжему.
Вскоре келейник вошёл в дом.
При виде Митяя он сказал:
– Ты отец Михайло будешь? Собирайся сейчас и едем: владыка тебя требует.
– Зачем? – не без робости спросил поп.
– А уж это мне неведомо.
Через несколько минут Митяй уже мчался в волоке с келейником к митрополичьим палатам.
Когда он приехал, его тотчас же ввели к владыке.
Святой Алексий были не один: с ним находился Димитрий Иоаннович и несколько княжеских приближённых.
Почтительно поклонившись великому князю и приняв благословение от митрополита, Митяй остановился в нескольких шагах от них, склонив голову.
Он чувствовал на себе пытливые взгляды и слегка смущался.
– Подойди поближе, отец Михаил, – ласково промолвил великий князь.
И когда тот приблизился, продолжал:
– Не забыл я, как сладостно говоришь ты... Хочу почаще слушать..
– По воле княжеской, – промолвил митрополит, – перевожу я тебя из села Коломенского в Князеву церковь... И будешь ты духовником великокняжеским.
– Рад? – спросил, улыбаясь, Димитрий Иоаннович.
– Рад ли, рад ли? – только и проговорил дрожащим голосом Митяй. – Дух захватило.
Он лишь земно поклонился владыке и великому князю.
Святой Алексий зорко взглянул на нового княжеского духовника, и по лицу владыки словно пробежала тень.
Быть может, его чистое сердце подсказало, что только мирскими помыслами полна душа Митяя.
Великий князь вскоре его отпустил, приказав «собирать свой скарб не мешкая, чтобы дня через два и перебраться».
Возвращаясь домой, Митяй, что называется, нс чувствовал под собой ног от радости.
«Наконец-то!» – думал он.
Он понимал, что в его жизни наступает перелом, что он находится на пути к богатству и почестям.
Приближаясь к своему домику, он самодовольно подумал: «Скоро мы в палатах заживём!»
Снимая дома свою рясу из грубой, дешёвой ткани, он презрительно посмотрел на свою скромную одежду и подумал: «Чай, таких-то не станем носить. Нет, нам шелки теперь надобны».
Дьякон, уже слышавший, что за отцом Михаилом приезжали от владыки, подивился перемене, которая произошла в Митяе в продолжение немногих часов: глаза сияли, голова была гордо закинута. Он смотрел спесиво и ходил «гоголем».
– Уезжаю, дьякон, из вашего болота, – сказал он, – пора. И то зажился. Здесь ли мне место? Ну, да теперь всё пойдёт по-новому. Слыхал? – духовником я сделан великокняжеским.
Дьякон сделал удивлённое лицо.
– Да, – продолжал Митяй, – в княжеских палатах буду жить... Есть-пить с княжьего стола... Сильным я, дьякон, стану человеком.
– Нас, сирых, отец Михаил, своей милостью не оставь, – униженно кланяясь, сказал собеседник.
На это Митяй покровительственно заметил:
– Не оставлю.
Уйдя от отца Михаила, дьякон поспешил разнести весть по всему Коломенскому о счастье, выпавшем на долю Митяя.
В этот и в следующий день часто скрипели, отворяясь, ворота двора Митяя, впуская разнообразных гостей, приходивших поздравить «с Князевой и владычной милостью».
Перед Митяем заискивали, унижались.
Прежние враги его теперь пришли на поклон.
Митяй держал себя с посетителями свысока, слова ронял с таким видом, как будто делает великую честь слушающим.
Его сердце было переполнено радостным чувством удовлетворённого тщеславия.
Мечты его всё возрастали.
Уж ему теперь казалось мало быть только великокняжеским духовником. Он мечтал о большем.
Он надеялся приобрести влияние на Димитрия Иоанновича, стать его «правой рукой».
Счастье благоприятствовало Митяю.
Духовник, умный, начитанный, речистый, с каждым днём всё больше нравился великому князю. Димитрий Иоаннович заслушивался его проповедями, любил подолгу вести с ним душеспасительные беседы.
Часто Митяй – намеренно или нет – во время бесед брал в качестве примеров те или иные недавние события внешней или внутренней политической жизни государства, высказывая скользь своё мнение о них.
И великий князь каждый раз убеждался, что мнение Митяя здраво и разумно.
Раза два случайно Димитрий Иоаннович заговорил с ним о государственных делах, и Митяй дал хороший совет.
Великий князь оценил это и мало-помалу стал советоваться со своим духовником о делах, ничего общего с церковью и религией не имеющих.
Митяй действительно становился «правой рукой» князя.
Вскоре это стало ясным для всех, когда великий князь назначил его «печатником», то есть хранителем своей печати.
Это звание было очень почётным и высоким.
Тут-то Митяй и дал себе волю. Он зажил с княжескою роскошью. Прежде носивший рясы из крашенины, теперь не довольствовался и атласной, не имевший прежде во всём своём домишке двух хороших оловянных тарелок, теперь и «ел и пил на серебре».
Его, – недавно скромного сельского пастыря, одиноко проживавшего в маленьком домике иод соломенной крышей, – теперь окружала целая толпа слуг, богато одетых и послушных малейшему его знаку. На его конюшне стояли десятки великолепных аргамаков; его сани были обделаны серебром, а заморскому ковру, покрывавшему их, как говорили, «нет цены».
Пышно, слишком пышно жил отец Михаил.
Недаром же святой Алексий, когда до него доходили слухи о роскоши Митяевой жизни, сокрушённо вздыхал и укоризненно покачивал головой. От светлого ума не укрылось, что великокняжеский любимец печётся только о благах земных, что душа его далёк от Бога.
Наряду с тем, как возрастало расположение великого князя к своему духовнику, росло и высокомерие Митяя. Для просителей, для всякого ниже его стоящего люда он был недоступнее самого Димитрия Иоанновича.
Даже с боярами и приближёнными княжескими он держал себя несколько свысока.
Его не любили, многие даже ненавидели, но, зная его силу у великого князя, большинство заискивало перед ним.
Это, конечно, только подливало масла в огонь.
В конце концов он сам стал считать себя каким-то особенным, высшим существом.
Честолюбию человеческому нет границ.
Он, когда-то мечтавший, как о счастье, выбраться из села Коломенского в Москву, теперь уже не был удовлетворён даже высоким званием царского печатника.
Он метил выше и мечтал уже не более не менее как о первосвятительской митре.
VII. ВРАГИ И ИЗМЕННИКИ
Время, в которое пришлось жить и действовать Димитрию Иоанновичу, принадлежит к эпохе собирания земли Русской, раздробленной на множество уделов, терзаемой междоусобиями и слабой вследствие такого разделения.
Московское княжество уже крепло и первенствовало, но всё же были соперники, желавшие вырвать первенство из рук московского князя.
Такими соперниками были, например, Олег Рязанский и Михаил Тверской.
Оба видели усиление Москвы и старались сломить её могущество.
Князь Михаил Александрович Тверской был молод, умён и отважен; он ясно видел, что рано или поздно Москва может поглотить Тверь. Поэтому он всеми силами домогался отнять у Димитрия Иоанновича для себя великокняжеский сан и таким образом утвердить первенство за Тверским княжеством.
Независимо от этих причин, князь Михаил был ещё и личным недругом Димитрия.
Вражда началась сравнительно с маловажного события.
Тверская область, подобно многим другим, была раздроблена на мелкие уделы, подчинённые Твери.
После смерти князя тверского Симеона Константиновича возник спор, кому наследовать его область. Притязания предъявили – князь Василий Михайлович Кашинский и его племянник Михаил Александрович, княживший в Микулине.
Каждый доказывал свои права.
Чтобы решить спор, они прибегли к суду митрополита.
Владыка поручил рассудить их спор тверскому епископу Василию, который признал правым Михаила.
Однако в Москве это решение вызвало неудовольствие.
Великий князь Димитрий Иоаннович знал, что Михаил смел, властолюбив и имеет сильную поддержку в лице грозного Ольгерда, князя литовского, женатого на сестре Михаила. Поэтому он понимал, что новый князь тверской едва ли будет мирно сидеть в своём княжестве и спокойно смотреть на усиление Москвы.
Желательнее было видеть тверским князем Василия Кашинского.
Разумеется, обделённый дядя не был доволен решением третейского судьи и приехал в Москву с жалобой на неправильное решение епископа.
Димитрий Иоаннович принял сторону Василия.
Сведав об этом, князь Михаил Александрович покинул удел и уехал в Литву.
В его отсутствие Василий с князем Иеремией Константиновичем, с войском от Димитрия опустошили Михайлову область.
Но Михаил тоже не сидел сложа руки.
Ольгерд дал ему людей, и он неожиданно нагрянул с литовскою ратью.
Он быстро взял Тверь и пошёл к Кашину, где запёрся Василий, но епископ Василий сумел примирить князей.
Михаил Александрович получил старшинство над дядей и стал именовать себя великим князем тверским. Однако на этом дело не кончилось.
На тверского князя приехал с жалобой в Москву Иеремия Константинович, прося Димитрия Иоанновича распределить уделы Тверского княжества.
Великий князь московский этим поспешил воспользоваться.
Он сумел заманить в Москву самого Михаила и тут предписал ему отдать Городок князю Иеремии, но большего не смог добиться от упорного князя тверского.
Михаил уехал из Москвы озлобленный.
С этих пор вражда Димитрия и Михаила стала принимать всё более и более острую форму.
Ещё дважды, уступая просьбам своей жены, Ольгерд предпринимал военные походы против Московского княжества, разорял окрестности Кремля, уже тогда защищённого каменными твердынями. Но всякий раз вынужден был покидать пределы Руси. Дважды Михаил обращался за покровительством к ордынскому хану Мамаю и оба раза получал ярлык на великое княжение, но по воле Димитрия так и не воссел во Владимире[10]10
Великокняжеским городом считался в то время Владимир, а не Москва.
[Закрыть]. После второго посещения Мамая тверской князь явился на Русь с татарским послом Сарыхожем, звавшем Димитрия во Владимир слушать ханский ярлык.
Московский князь отказался:
– К ярлыку не еду. Михаила в Москву не впущу, а тебе, послу, в неё путь свободный.
После этого Сарыхожа счёл возможным только оставить ярлык у князя Михаила, а сам отправился в Москву. Здесь его приняли с честью, щедро одарили, и сочувствие татарского вельможи склонилось на сторону Димитрия.
Михаил, сознав своё бессилие, уехал в свой удел, засел в Твери и, злобясь на великого князя московского, разорил часть его владений, лежавших по соседству.
Дважды ослушавшись грозного Мамая, Димитрий Иоаннович сознавал, что этим навлёк на себя ханский гнев. Не было сомнения, что хан вторгнется на Русь и всё предаст огню и мечу.
Бороться с ним Русь ещё не была в состоянии.
Заботясь о судьбе своих подданных более, чем о своей личной, Димитрий Иоаннович решился на отважное дело: чтобы умилостивить раздражённого хана, он сам отправился к нему в Орду.
Народ, помня участь Михаила Ярославича Тверского, замученного татарами, плакал, провожая великого князя.
Но Димитрий был непоколебим. Святой Алексий сопровождал его до берегов Оки, здесь благословил великого князя и его спутников и расстался с ним, поручив его милосердию Божию.
Бог помог Димитрию.
В Орде он был принят Мамаем с почётом. Хан не только утвердил его в великом княжении, но согласился уменьшить дань. Очевидно, татары уже чувствовали силу князей московских и тем дороже ценили покорность Димитрия.
Таким образом, Михаил должен был оставить надежду стать великим князем.
Разумеется, это только ещё более его озлобило.
Он делал набеги во московские пределы, великокняжеские воеводы вторгались в тверскую область.
Забавляясь этими незначительными военными действиями, князь тверской лелеял ещё мысль сломить могущество Москвы.
Он снова прибег к помощи Литвы. Разорив с помощью литовцев несколько городов, он, однако, опять не достиг цели: встреченные в поле московским войском литовцы заключили мир и ушли к себе.
Михаил по-прежнему остался князем тверским.
Около двух лет прошло в мире между Тверью и Москвою.
Но тишина эта была перед бурей.
Михаил выжидал только удобного случая, чтобы обрушиться на великого князя.
Наше повествование относится именно к тому времени, когда буря готовилась разразиться.
Князь тверской зорко наблюдал за соперником и подумывал, не пора ли начинать борьбу.
Тут-то к нему и подоспели Некомат и Вельяминов, которых он тотчас же по их приезде принял. Он поступил так потому, что, во-первых, появление подданных Димитрия льстило его самолюбию:
– От великого князя ко мне отъезжают, стало быть, чуют, что и я князь сильный.
Во-вторых, перебежчики – или по крайней мере один из них – были в Москве не малыми людьми: сын тысяцкого что-нибудь да значил.
В-третьих, не принять их, значило, возможно, не узнать каких-нибудь важных новостей о своём исконном враге, – новостей, которые могли бы послужить во вред московскому князю и на пользу ему, Михаилу.
Когда Вельяминов и Некомат шли по княжеским палатам, сердца их бились учащённо.
Иван был бледен и нервно кусал губы. Руки его, державшие шапку, слегка дрожали.
Суровчанин шёл понурым и бледным не менее своего спутника. Где-то в глубине сердца шевелился неприятный червячок совести и мучительно сосал.
Оба понимали, что наступает решительный момент задуманного дела и что сейчас они совершат величайшее преступление – измену.
Но... отступать было уже поздно.
Княжий придворный ввёл их наконец в обширную светлицу с громадным образом в углу, украшенную дорогими коврами и пестро расписанным потолком; лавки были покрыты алым сукном, расшитым по краю золотою каймой.
В глубине комнаты, как раз против двери, стояло на некотором возвышении дубовое кресло с резными ручками. На нём сидел мужчина лет тридцати пяти, с умным лицом и живым, несколько жёстким взглядом серых глаз.
Это был князь тверской Михаил Александрович.
Рядом стояли два стражника в алых кафтанах, держа в руках блестящие секиры.
Позади толпились несколько ближних бояр.
Войдя, перебежчики покрестились на образ, потом поклонились князю, коснувшись пальцами пола.
Князь окинул их внимательным взглядом, потом проговорил звучным и мягким голосом:
– От Москвы отъехали?
– Да, – заговорил Вельяминов, – не можно служить у князя московского... Изобидел он меня до смерти. Сын я тысяцкого Иван Вельяминов... Бью тебе, княже, челом, прими под свою высокую руку.
Почти в тех же словах выразил свою просьбу и Некомат.
– Так вам московский князь не люб? – сказал Михаил Александрович с улыбкой. – Чаете, что я боле люб буду?
– Вестимо, ты не обидишь... А мы тебе верой правдой послужим, – сказал Иван.
– Головы своей не пожалеем, – добавил Некомат.
– Добро, – промолвил князь, – принимаю я вас к себе на службу...
Оба разом низко поклонились.
– Служите хорошо, а я вас не забуду... Надобно мне с вами потолковать. Сегодня за вечерней вы мне крест поцелуете А после вечерни вот он вас ко мне приведёт, – при этом князь указал на боярина, который вёл с ними переговоры. – Мы и потолкуем, как надо. Теперь, чай, с пути отдохнуть хочется. Он вас пока что сведёт в боковушку Там отдохните...
Кивком головы князь отпустил их.
Отведённое им помещение было довольно-таки неважным. Вельяминов, взглянув на голые лавки, невольно вздохнул о своём московском доме.
Некомат грузно сел и задумался. Лицо его было невесело.
– Что голову повесил? – спросил Иван.
– Так скучно.
– А ты не скучай. Всё устроится. Заживём с тобой! Князь ласков, чего ж больше?
Он утешал, но и самому ему было не по себе.
Порою мелькала тревожная мысль:
«Как-то здесь повезёт. А ежели так же, как в Москве?»
Он прогонял такие думы и старался строить планы один другого заманчивей.
– А главней всего – это подбить князя Михаила на войну с Димитрием... Теперь время – ой, время! – я всё князю расскажу, как надобно.
И он стал обдумывать, о чём поведёт вечером речь с князем.
Что касается Некомата, то он никаких заманчивых планов не строил. О будущем он вообще как-то не думал, а, напротив, размышлял о прошедшем.
«Как-то Пахомыч в усадьбишке хозяйствует. Чай, грабит, как может... Карман набивает... А может, Андрюшка вернулся?»
И невольно мысль его перенеслась к пасынку. Что-то болезненно защемило сердце.
«За что я его убить хотел? Правду сказать, парень ничего себе и добрый. Всему делу – корысть вина. Да ещё Пахомыч зу-зу да зу-зу... Захотел зла другому, а сделал себе... Вот теперь и в перебежчиках очутился».
Он вздрогнул.
– Скоро крест позовут целовать. Значит, делу крышка – прощай, Москва, сторонушка моя родимая! Ничего не поделаешь – будем Твери служить. Эх ты, жизнь наша!
Время тянулось убийственно медленно.
Оба почти обрадовались, когда зазвонили к вечерне. Во время неё, как и хотел князь, они поцеловали крест на верность и поклялись на Евангелии служить Михаилу верой-правдой.
Теперь из москвичей они стали тверитянами.
После вечерни их позвали к князю пить сбитень Михаил Александрович был один.
Он встретил своих новых подданных приветливо.
– Садитесь – в ногах-то правды нет, – сказал князь. – За сбитень принимайтесь да московские новости выкладывайте.
– Новостей не больно много, – промолвил Вельяминов, принимаясь за душистый медовый сбитень. – Одна только и есть, что теперь тебе самая пора Москву бить.
В глазах Михаила Александровича мелькнул огонёк Но он быстро принял спокойный вид и спросил равнодушно:
– Почему пора?
– Рано ли, поздно ли воевать тебе снова с Москвой придётся, – вставил своё слово Некомат. – Чем дольше тянуть время, тем Москва сильней станет. Димитрий-то Иванович давно на Тверь зубы точит.
– Это правда, – промолвил Иван. – А почему теперь пора воевать, сейчас скажу. Слыхал ты, что в Нижнем Новгороде приключилось?
– Нет. Пока не слышал.
– А слыхал ты, как татарва на реках Кише да Пьяной расправу чинила?
– Тоже нет.
– Так вот что. Приехали в Нижний послы Мамаевы и с ними татар человек тыща... Ну, и эти послы не поладили с тамошним князем Димитрием Константиновичем. Тот спросил великого князя, можно ль с татарами расправиться. Московский князь прислал весть, что можно.
Тогда Димитрий Константинович напустил чёрный народ на татар. Всех их нижегородцы и перебили, а главного посла, Сарайку, засадили в темницу, а немного спустя и его прикончили. Как смекаешь, любо Мамаю о сём было сведать?
– Чай, не любо. Ну, и задаст же он Димитрию Иванычу!
– Малость уж задал: его рать огнём выжгла волость нижегородскую. Да этого мало: Мамай только ждёт не дождётся, как на Москву кинуться.
– И доброе дело – кинулся бы.
– Надо только уськнуть, – проговорил Некомат.
– Да если б с другой стороны ещё Литву напустить, – вполголоса, словно в раздумье, промолвил князь.
– Да ещё ты ударишь... Нешто Москва справится? Конец ей был бы! – воскликнул Вельяминов, и глаза его заблестели.
– Очень ты, кажись, Димитрия Иваныча недолюбливаешь? – с полуулыбкой промолвил князь.
– Лютый он ворог мой! Головы я своей готов не пожалеть, только б ему отплатить. Княже! Послушайся доброго совета: пойди на Москву. Поднимем татар да Литву – разгромим нашего ворога.
Михаил Александрович сидел задумавшись.
Глаза его блестели, грудь дышала усиленно.
Он встал и прошёлся по комнате.
– А пойдёт ли Орда? – вдруг спросил он, остановясь перед Вельяминовым.
– Пойдёт. Голова моя порукой. В Москве только и ждут, что вот-вот она поднимется.
Князь помолчал, потом промолвил:
– Ладно, будь по-вашему: тряхнём Москвой.
– Ой, любо! – радостно воскликнул Иван.
Лицо Некомата оставалось равнодушным.
– Стой, уговор дороже денег: никому об этом ни полслова до поры до времени, – проговорил князь. – И вы меня маните к войне, вы же и помогайте. Валяйте-ка, поезжайте послами от меня в Орду.
– А что ж, хорошо, – сказал Вельяминов.
Суровчанин слегка поморщился.
– Да помните: уговорите хана – озолочу, а не сумеете – так лучше мне и на глаза не показывайтесь. Сам я, пока вы в Орде, поеду в Литву... Отовсюду на Москву тучи двинутся... Сломаем Димитрия. Ведь сломаем?
– Вестимо ж, – промолвил Иван.
– Ну, теперь идите к себе да отдыхайте. Когда в путь – скажу. И казны вы от меня получите, и людишек. Служите верой-правдой; сшибём Димитрия – вы первыми моими боярами будете.
Он отпустил их кивком головы.
Оставшись один, он долго ещё сидел в глубоком раздумье.
Вельяминов вернулся от князя очень довольным.
«Покается теперь Димитрий Иванович, что не сделал меня тысяцким», – думал он.
Некомат, наоборот, был очень не в духе.
– Поезжай к татарам! – вырвалось у него. – Нечего сказать, любо! Не того я ожидал.
– Э, брат. Зато исполним княжий приказ, так первыми людьми станем, – утешил его Иван.
Он строил воздушные замки.