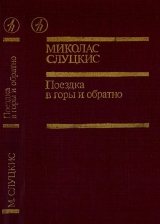
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 40 страниц)
Лионгина закусила губу, чтобы не выкрикнуть его имя, – это же позор, страшный стыд – звать не своего мужа! – но в приглушенных стонах звучало: Рафаэл!
Не в силах выдержать больше ни мгновения, она во всю мочь заорала: Ра-фа-эл! Голову осыпало осколками эха, но Лионгина улыбнулась. Волна мрака вздрогнула от ее крика. Заколыхалась и отодвинулась черная стена. В темно-синем бархате неба возник силуэт гор – караван верблюдов, бредущий и бредущий без отдыха! – а в гигантской чернильнице долины стали жиже густые чернила. Там, глубоко-глубоко внизу, замерцала светлая морось, будто кто-то рассыпал горсть желтого песочка.
Ожило и подножие горы. Словно птицы, сбиваясь в стаю и снова рассыпаясь, заметались там фонари. Птицы кричали человечьими голосами, лаяли собаками, но она, Лионгина, уже не слышала этого. Потеряв сознание, инстинктивно вцепилась она в выступающую из крутого склона глыбу, чтобы не свалиться туда, где уже никто не найдет.
– Я хочу умереть… умереть…
Боль между ребер вытолкнула Лионгину из сна не сна, забытья не забытья. Она увидела оклеенные обоями стены, заваленное одеждой кресло, отражающие свет лампочки стекла темных очков – снова эти очки! – и опять, охваченная жуткой немотой, погрузилась в кошмар. Ползла, проваливаясь, поднималась и снова ползла. Звезды нависли, как сливы на ветках, но она никак не могла дотянуться до них. Хотя бы одну подержать на ладони! Вспыхнув, они удалялись от нее, чтобы потом вновь опуститься над головой, маня холодным блеском. Теперь она поняла, почему убежала в горы, не позаботившись о подходящей обуви, – к звездам! Грудь палило жаром, спина стыла от ледяного холода. Сельский фельдшер поставил диагноз: сотрясение мозга, и еще подозревает он воспаление легких. Алоизас, застывший у стола, волновался все больше. Оторвал тяжелое тело от кресла, с трудом переставляя налитые свинцом ноги, словно это не она, а он весь день карабкался по каменным кручам. Который уже раз подходил к Лионгине. От нее несло отвратительной вонью чачи, которой хозяйка натерла ее вздрагивающее тело. Лионгина кричала от боли, когда ее мяли жилистые руки женщины в черном платочке. Мало того, сквозь тревожные, напоминающие о несчастье и чужих людях запахи, назойливо пробивался запах мужского пота, мешавший спокойно думать, спокойно подходить к ее кровати. Постанывая, будто поднимая тяжесть, Алоизас придвинулся вплотную. Одеревеневшей рукой откинул одеяло, не решаясь коснуться пышущего жаром, красного, словно с него содрали кожу, тела. Вся исцарапана, под грудью синяк. На остальное не смотрел – только этот черный сгусток под грудью… Лишь бы не треснуло ребро. Жгла мысль о ее здоровье и еще большая забота – о вставшей на дыбы жизни, которую, как ему раньше казалось, он прочно держит в руках.
Лионгина скрипнула зубами. Алоизас махровым полотенцем осторожно отер взмокшее, пылающее тело, почти физически ощущая, как петельки хлопковых ниток болезненно скребут ей кожу. И вновь ударил в ноздри чужой запах – запах притащившего ее на руках мужчины. Спохватившись, что она замерзает, снова укрыл, принялся подтыкать одеяло. Неловко, словно оберегая лицо от огня. Снова скрипнули ее зубы. Тело еще чувствовало чужие руки, железные и нежные. Они несли ее, завернутую в просоленный потом пиджак. Несли вниз по склону, с уступа на уступ, но ей мерещилось, что она плывет вверх, за ускользающими, становящимися все меньше звездами. Она продолжала мечтать о них в бреду. Временами ощущала себя легкой, как пушинка, порой – мешком с камнями, который волокут из последних сил. Посвечивая фонариком, выбирая тропу и криком предупреждая об опасностях, рядом прыгал Тамаз. Иногда мальчик хватал ее висевшими мертвыми сучьями ногу или руку и тянул в сторону. Эй, чертов сын, осторожнее! – хрипел знакомый, хоть и сильно изменившийся, будто исцарапанный острыми камнями голос. Говорить громче мешала скользкая, едва заметная опасная тропа, кенгуриные прыжки вниз. Из-под ног, как вспугнутые птицы, выпархивали камни и неслись под гору, будя скалы, деревья. Голос, раздавленный ее тяжестью, прерываемый его собственным дыханием, принадлежал Рафаэлу. И руки, держащие ее, принадлежали ему. Чьи же еще, если не Рафаэла? Его пиджак, его грудь, о которую она при каждом прыжке ударяется, как о летящий навстречу твердый мяч. Время от времени до сознания Лионгины доходило ее ласково-искаженно произносимое имя: Лон-ги-на, Лон-ги-на. Успокаивал, а может, подбадривал, потому что вдруг споткнулся и чуть не сорвался вместе с ношей. Споткнулся, но не дал земле прикоснуться к ней, только заплясала над головой сумятица звезд, мелькнул искрящийся факел, словно кто-то пытался им выжечь ей глаза. Рафаэл устал, страшно устал, шатаясь, как пьяный, тащил он свой груз меж черных стволов. По-собачьи взвывал, когда ветка хлестала по лицу или ушибал ногу о торчащий из земли корень. Шелест листвы возвещал, что селение уже недалеко. Вдруг он оторвал ее от себя и попытался положить на землю, хотя она протестующе застонала, ни за что не соглашалась отпустить его шею. Она не доверяла ему. Боялась, что бросит, ускользнет в темноту. Он тяжело дышал и скрипел зубами от усталости.
– Не хочу… вниз не хочу… вверх… только вверх…
– Слышишь, Тамаз? Вверх… Я т-тебе покажу вверх… За-замолчи! С-сил нет! – рявкнул Рафаэл и швырнул ее на мягкую моховую подушку. Ему позарез надо было свободно вздохнуть и выдохнуть. Надо было смочить языком пересохшее нёбо. Надо было опереться о дерево и постоять.
– …умереть… лучше умереть…
Он испугался, бросился извиняться, ломая и беспрерывно повторяя ее имя. Ведь, сорвавшись, она пролежала несколько часов. Одна-одинешенька, в холоде и мраке! И снова ей, взятой на руки, мерещилось, что она летит вверх, хотя повеяло запахами человеческого жилья, навозом и дымом кукурузных стеблей.
Прижатая к груди, уже не хотела умирать. Снова жаждала, чтобы легкость, которую она испытывала, отдыхая в крепких руках, никогда не кончалась. Приходя в сознание и вновь проваливаясь в бред, наткнулась наконец на сверкнувшие темные стекла очков. Путешествие в горы, едва начавшись, внезапно окончилось. И желание вновь нырнуть во мрак небытия пересилило попытку сознания зацепиться за слабый свет электрической лампочки.
– Успокойся, Лина, – впервые нечаянно назвал ее так Алоизас, когда она открыла глаза, и непривычно произнесенное имя на минуту задержало ее над бездной.
Пока отуманенным взором разыскала губы, странно выговорившие ее имя, пока поднимала, но так и не подняла руку, чтобы показать, мол, слышу, волна забытья вновь захлестнула ее. Лицо Алоизаса слилось со стеной, с шероховатым, усеянным опасными острыми выступами крутым склоном горы.
– Лежи, Лина, лежи, – повторял он, хотя в постели металось лишь ее израненное, изможденное тело, – душа, невесть каким огнем палимая, все еще витала где-то далеко-далеко.
Алоизас говорил, упрашивал, сам удивляясь, что ожидает ее шепота, который скорее всего вызовет еще большее смятение, ждет, как милости, взгляда, а может, эти шепот и взгляд заставят, хватаясь за голову, в ужасе выскочить из дома и беззвучно выть под холодным, отрезвляющим небом, чтобы как-то заглушить и тревогу за жену, и свое собственное смятение? А может, все это лишь скорлупа, его собственная скорлупа, под которой – доброта и комок боли, извивающийся разрубленной мальчишками гадюкой? Вокруг тысячи, миллионы камней, вся земля под здешним небом звенит камнем, но нет ни одного камешка, чтобы убить эту боль. И он говорил, чтобы прогнать ее, отгородиться, не слышать, как вопит в нем поверженное, оскорбленное достоинство, говорил, не в силах найти ответ на один-единственный и такой простой вопрос: как встретить день?
– Спи, Лина, не беспокойся ни о чем. Был фельдшер, сделал противостолбнячный укол, непременно нужно, тебя будто собаки подрали. Через каждые четыре часа хозяйка будет колоть пенициллин и стрептомицин, фельдшер опасается… – про воспаление легких Алоизас смолчал. – Я попросил дать тебе снотворное, старик не хотел, не надо, говорит, молодой организм сам биоритмы восстановит. Колено не разбито – ушиб, ничего страшного, только, может, ребро в худшем случае треснуло. Очень, очень опытный лекарь, пятьдесят лет врачует, даже роды принимает, так что ты ничего не бойся. Отдыхай себе спокойно, завтра приедет врач из районной больницы, а тебе, по мнению фельдшера, нужен только покой; если не будет симптомов ухудшения, в больницу тебя не отдам, поверь моему честному слову.
Медицинские термины и названия лекарств, постоянно перемежая звучно-пустые слова, немножко успокаивают. О главном компоненте диагноза – воспалении легких – Алоизас не говорит, так как душа Лионгины, пометавшись среди звезд, то и дело возвращается в плоть, и неизвестно, когда мелькнет безжалостное самоотречение.
– Умереть… скорее умереть!
Из тумана выплывают глаза, мало похожие на глаза, скорее – на подфарники потерявшего управление автомобиля. Логичные тирады Алоизаса напрочь сметаются этим прорывом в ужас – в бездну, где не за что зацепиться. Он и сам опрокинут. И пустой его голос отброшен, как дребезжащая жестянка. Если снова заговорит, скажет уже не так складно.
– Зачем умирать? Не надо пугать людей, дорогая, – хватается он за свой привычный, но уж очень неуместный сейчас высокомерный тон, чувствует это и, чтобы исправить положение, неожиданно для себя выпаливает – Постой! Может, позвать тебе Рафаэла?
И столбенеет, услышав собственные слова. Не представлял себе, как могут они вдвоем находиться у постели больной. Словно у гроба? Почему вдвоем? Один Рафаэл! Она тоже поражена, но ее уже нет – собирает силы еще для одного рывка, только неизвестно – к свету или мраку. Что еще может он сделать, чтобы прекратить затянувшееся самоубийство, чтобы не пахло тут больше еловыми ветками, как на похоронах?
– Ты все звала его во сне. Вот я и подумал… Конечно, он того стоит. Жизнь тебе спас! – опять переходит Алоизас на менторский тон, который должен приободрить его самого, поднять нац уязвленным самолюбием, над сдавливающей грудь конвульсией жалости к ней и к самому себе. – Может, собственной жизнью рисковал. Да, да, дорогая. Если бы не он, не знаю, где бы теперь была. Ты обязана его поблагодарить, Лионгина.
– Поблагодарить?
Подфарники на лице Лионгины гаснут. Безоглядно куда-то мчавшаяся, она на миг останавливается, вглядывается в себя – в свое саднящее тело, в свою страдающую, терзаемую противоречивыми желаниями душу. Еще разочек его увидеть… Живого и здорового. Смешно выговаривающего: Лон-гина. Прильнуть, чтобы никто не мог оторвать. Никто! Пусть я мерзкая… страшная! Эй, люди, выбросьте меня в мусорную яму, как дохлую кошку! Алоизас благороден и добр. Слишком добр ко мне…
– Сдохнуть… Лучше мне сдохнуть…
Глухо прохрипев это, она снова проваливается куда-то – обрывается ровная тропа, чтобы швырнуть ее вместе с Рафаэлом – и Тамазом в придачу – в колодец. В бездонный колодец. Стоп! – вскрикивает Рафаэл, придерживая ее одной рукой, а другой ухватившись за хилый стволик. Так вцепился, что пригибает деревце к земле, корневище, не выдержав, потрескивая, вылезает наружу. Алоизас щупает лоб Лионгины, озабоченно касается ладонью шеи. Откуда тут взялся Алоизас? Она смотрит на него помутневшими от ужаса глазами, будто подкрался убийца. Толкнет легонько Рафаэла, и деревце не выдержит…
– Все-таки я позову его. – Алоизас медленно направляется к двери, ожидая поощрения или запрета. Она не видит его – опустилась на колени у слабой струйки воды, рядом с лижущим влажную гальку то ли майским, то ли каким-то другим жуком. Вода – как отломанная от неба сосулька. Насекомое подняло желтые надкрылья, шевелит нежными крылышками, сосет чуть влажную землю. Ах, быть бы нам крылатыми, как этот жук… как птицы… как звезды…
Алоизаса познабливает. Холодно. Что это там? Бродят какие-то люди, лают собаки, разбрасывают искры факелы, и непонятно, что за обряд свершается – похороны, свадьба или еще что-то. Окруженный галдящей толпой, не похожий на себя, шатаясь, шагает с бесформенной ношей на руках Рафаэл.
– Оторвите! 3-задушит! Гурам, спасай! Теперь уже меня, ч-черт вас побери, спасайте! – из последних сил давится смехом Рафаэл, садясь прямо на землю. – Гурам, тащи ее за ноги. Поцарапалась, ушиблась, но жи-живая… Лезут в горы к-кому не лень. Да оторвите же ее от меня наконец!
– Пусть муж… Вот ее муж! – Чья-то цепкая рука, уж не хозяйки ли, тянет Алоизаса в середину круга.
Алоизас скребет пальцами щеки. Ни людей, ни собак. Только та же гора, повисшая над селением. Едва делает он шаг, черное страшилище встает на дыбы. В лицо бьют теплые и холодные струи – дыхание страшного зверя. Ящер быстро заглатывает все тепло, горло сжимает ледяной холод, странно, что не седеют инеем стволы яблонь и кусты роз. Скованный морозом, Алоизас не может выкрикнуть в пасть ящеру своего возмущения, своей ненависти. Чудовище все растет, закрывает небо. Это уже не зверь, не гора – слепая сила Вселенной. Непроницаемая гримаса извечного хаоса, на минуту превратившаяся в камень, землю и скупую растительность. Надоест притворяться вздыбившимся камнем – рухнет и раздавит крыши и яблони. Уж не мерещится ли мне, как Лионгине? Вставшая перед глазами Лионгина заставляет Алоизаса сдвинуться с места.
Надо идти, стучаться, подгоняет себя, издалека нацелившись на желтеющее окно флигелька. Там Рафаэл с Гурамом. Легче было бы вкатить по крутому склону валун, чем постучаться. Больше всего хотелось бы другого – биться головой о белесый круглый камень у забора, где днем так уютно сидеть, вперив взгляд в долину.
– Добрый вечер, генацвале, – приветливый голос заставляет его вздрогнуть. От стены беседки отрывается тень человека. Большая кепка, маленькое, как у белки, личико – так выглядит подошедший. Избавившаяся от страха мысль Алоизаса мигом подсказывает: их злополучный водитель! Уж лучше рухнули бы они тогда в пропасть! – Прошу прощения, что среди ночи желаю доброго вечера. Правда, что ваша жена заболела? Наш дом за селением! – Он машет рукой куда-то в сторону и вверх. То ли огонек там, то ли звездочка, не поймешь. Не дождавшись ответа, дергает Алоизаса за рукав.
– Ничего серьезного. – Алоизас не склонен делиться своими бедами с посторонними, однако прикосновение этого человека его не раздражает.
– Не сердитесь? Я снова со сливами. – В руках у парня мешочек.
– Значит, это ты… ты приносил? – Алоизаса качнуло, словно в него камнем угодили.
– Не волнуйтесь, уважаемый. Дедушка мой… Ему скоро сто. Это он велел. Чуть, говорит, дурак, жизни их не лишил… Ничего нет дороже жизни. Да мне и не трудно. Слово старшего для нас свято, генацвале.
Алоизас проглатывает горячий комок. Теперь легче переставлять ноги. Ничего нет дороже жизни? Ее жизни?
Желтое окно рядом.
Они молчали, будто в комнате пахло еловыми ветками и горящим воском. Сели неудобно – в ногах и головах кровати, друг против друга. Алоизас – белее белого, сидел прямо, черные очки мешали разглядеть его истинное состояние – покорность неизбежному и отвращение ко всему, в том числе к самому себе. Рафаэл откинулся в кресле, широко расставив ноги, усталость все еще давала о себе знать. Голова кренилась набок, словно он вот-вот заснет и свалится с кресла, однако на припухших губах блуждала слабая и необидная, но победная улыбка. Непроизвольная, она все же выражала и оправдание, и вызов. Красивый голос, уродливый шрам на щеке, а теперь вот еще эта улыбочка героя или чемпиона… Судьба развлекается, постоянно выделяя его из всех, подумал Алоизас. Словно не свое прожить родился – мучить и расстраивать жизнь другим. И в самом деле, что она, собственно, такое – его жизнь? Чувство превосходства, едва вспыхнув, тут же угасло. А твоя? Часть жизни Алоизаса – если не вся она – зависела в данный момент от этих толстых потрескавшихся губ, от их нелепой улыбочки, которая то вызов, то оправдание.
– Простите, что не даем вам отдохнуть. Я пригласил вас по просьбе Лионгины, – выдавил из себя, хотя уже говорил это во флигеле и по дороге. Сам не знал, зачем прикрывается ее именем. У нее затмение. Она не отвечает за свои поступки. Так что последствия прихода Рафаэла падут на его голову.
– Ясно, – буркнул Рафаэл. Его несколько раздражали и фраза эта, и двусмысленность собственного положения.
– Кто тут… кто? – послышался шепот, будто некто тянулся на цыпочках и, приложив к глазам ладонь, старался разглядеть точку в мерцающей дали.
Рафаэл сменил позу, но молчал, не понимая литовских слов. Заговорить пришлось Алоизасу:
– У нас гость, дорогая. Рафаэл. Завернул узнать, как твое самочувствие.
– Да, да, я тут, – откашлялся Рафаэл, внезапно ощутивший неловкость, словно явился незваным.
– Пришел? Пришел наконец? Я так ждала тебя. Не уйдешь? Не оставишь меня?
Алоизаса ее шепот игнорировал – нет, она не считала его препятствием – просто его словно не было.
– Он тут… тут… а ты говорил… бросит, как тряпку… говорил… – Лионгина обсуждала радостную новость с невидимым собеседником, может, с мелькнувшей тенью Алоизаса, оспаривала его воображаемые мысли. – Пришел… ты пришел, – снова хлынула нежность на Рафаэла.
Она шептала зажмурившись, не шевелясь под одеялом, однако радость узнавания не была продолжением бреда. И не видя, она чувствовала Рафаэла. По запаху, по дыханию, по бессвязным словам человека, внезапно попавшего в ловушку. И еще по слабому аромату вина, пробивающемуся сквозь запахи лекарств.
– Все б-будет хорошо. – Рафаэл дрогнувшей рукой погладил одеяло, не смея дотронуться до высунувшейся из-под него ступни Лионгины. Жест этот должен был продемонстрировать – прежде всего ему самому, – что он ничего не боится.
– Да, да, фельдшер не особенно пугал, – поддержал Алоизас как можно корректнее, однако покосившись на руку Рафаэла, пытавшуюся присвоить себе лишь одному ему принадлежащее право прикасаться к Лионгине, и потому слегка дотронулся до ее груди. – Все будет хорошо. Но прежде всего мы должны благодарить вас, товарищ Хуцуев. – Фамилия вынырнула, как черная рыба глубин. Не место ей было тут.
– Н-ну, что там! Я ничего особенного… – великодушно и слегка бравируя этим, отмахнулся Рафаэл. Это движение помогло ему почувствовать себя свободнее. – Мы в горах родились, выросли. Для нас не впервой по ним лазить. Но она, б-бедняжка, натерпелась.
Она. Куда бы ни поворачивался разговор и мысли мужчин, все упиралось в нее. Она! Слабая, как нить паутины на ветру, и сильная своим неодолимым стремлением к какой-то, может, и ей самой не ведомой цели.
Еще раз скрестив взгляды на ней, ровно, чуть ли не притворно спокойно, дышащей, оба поняли: под запорошившим ее сознание слоем пепла тлеет костер. Вспыхнет засыпанное физической немощью пламя и сожжет их вынужденное согласие.
– Алоизас, добрый мой Алоизас! – вспомнила она о муже, словно окончательно избавилась от бреда, и он придвинулся ближе. – Не отпускай его, хорошо? Обещай, что не отпустишь.
– Рафаэл не уходит. – Он больше не осмелился назвать его Хуцуевым. И удивился, что почти благодарен за сомнительное ее доверие.
– Рафаэл! Неси, Рафаэл… Держи крепче, чтобы я не боялась… – Ей снова нужен был Рафаэл, его голос снова пробивался сквозь мрак и холод. – Чтобы косточки хрустели… Вниз не хочу… Вверх… где нет ничего… даже воздуха… Рафаэл! Где ты, Рафаэл?
Рафаэл зашевелился в кресле, снова откинулся. Победная улыбка, едва коснувшись губ, исчезла в искривившей лицо недовольной гримасе.
– Я тут… тут. Мы тут с т-товарищем Алоизасом б-беседуем, – поспешил он прервать дальнейшие ее излияния. Говорил с трудом, словно признаваясь в совершенном воровстве. В их родной деревушке не было страшнее преступления. Если человек крал папаху, односельчане приносили ему свои папахи. Если кувшин, все тащили к дому вора кувшины…
– Да, да, беседуем. – Алоизас испугался, что она поймает его на лжи, хотя Лионгина, захлестнутая мутной волной бреда, ничего не слышала.
– Я ему говорил… Что я вам говорил? – Рафаэл взглянул на Алоизаса, надеясь на помощь.
– Вы, кажется, не грузин? – неохотно начал Алоизас, чтобы не слушать напряженную, как перед взрывом, тишину.
– А вам никто про меня не рассказывал? – Рафаэл ожил, ему самому потребовалось вернуться в себя, и, странно, голос не споткнулся. – Я родился, вырос и учился в Грузии. Люблю этот край – его нельзя не любить! – но грузинской крови в моих жилах не так уж много. Прадед, черкес, примкнул к повстанцам Шамиля. С царским войском сражался. Мои соплеменники даже пушку отбили. Однако успех сопутствовал им недолго. Прадеда убили. Из всего аула остались в живых только двое детей, схоронившихся в зарослях кустарника, – мой будущий дед и его сестренка. От штыков карателей их спас русский офицер, увез в Петербург, дал образование. Дед женился на русской, мать которой была грузинкой, и отправился служить в Грузию. В свою очередь мой отец, горный инженер, женился на осетинке с примесью армянской и грузинской крови. Наверно, запутал я вас?
Запутался он и сам, правда, не в генеалогии – во времени и месте. Горит электричество, он развалился в кресле, от него пахнет вином, выпитым вместе с Гурамом, а неимоверно трудный путь вниз с горы не кончается. Его шатает, валит с ног. И зачем он пускает тут пыль в глаза, заговаривая зубы этому чопорному литовцу? Он ничего не украл! Готов поклясться прадедом, которым гордится. Он спас человека. Если не от гибели, то, по крайней мере, от тяжелой болезни. Правда, этот человек – женщина, которая ему нравится. Очень нравится. Да и, скажите на милость, кому бы она не понравилась? Ее густые русые волосы, нежный пушок ее бровей… Голос, струящийся, как родник сквозь мягкий чистый песочек… Да, какому мужчине она не понравилась бы? Разве что тому, у кого в жилах не кровь, а водица. Нести ее было тяжело. Да что там тяжело! Голгофа – мука и блаженство. Поэтому он не примет папах. Ни единой папахи. В других аулах отрубали руку, выжигали глаза. А в том, откуда родом его прадед, возле водопада Намреги – теперь его загнали в трубу, и он крутит турбину, – складывали во дворе вора целую гору папах или башлыков…
Алоизас слушал и не слушал. Не лезли в голову никакие факты. Их было слишком много. Как камней на этой земле. Ощущал только гордость, звучащую между слов этого молодого талантливого и самоуверенного мужчины. Вот женщина. Даже в бреду успокаивает ее присутствие этого человека. Разглаживаются складки напряженного лба, расслабляются окаменевшие суставы, оттаивают губы, будто на всю жизнь освобождается она от страха и неуверенности. Бредящая женщина признается ему в любви, а законный супруг, все это наблюдающий, готов умолять, чтобы он не уходил, словно разверзнется бездна, когда он уберется… Безумие, думает Алоизас, но неизвестно чье: ее, обоих или всей их троицы? И еще боль в спине – будто в нее воткнули ножницы и безжалостная рука вращает их, разрывая рану. Почему ножницы? От ножа боль была бы меньше. У Гертруды среди всякого барахла валялись огромные портновские ножницы. Покойная мать любила шить – вот они откуда. Давно не вспоминал о матери. Ножницы вонзились еще глубже.
В тишине поскрипывали кресла, слышалось дыхание Лионгины. То притихавшее, почти ровное, то учащающееся, прерывистое, сопровождаемое стонами и судорожными подергиваниями мускулов. Ее уже не интересовали ни один, ни другой, отгородившиеся от нее своими заботами. Рафаэл глянул на часы, его примеру последовал Алоизас. С начала их очной ставки пролетело полчаса, но, как во сне, не ощущалось четких признаков времени. Приложив к губам палец, Рафаэл жестом предупредил, что уходит. Алоизас не стал его удерживать.
– Если что п-потребуется, то я… Мы с Гурамом… М-машина всегда к вашим услугам.
Рафаэл уже не обращал внимания на угрюмо поблескивающие черные очки Алоизаса. Видел ее, одну ее. Желанную женщину, которую судьба бросила в его объятия, не позволив прикоснуться к ней. Он еще весь горел от ее жара – никогда не забудет этой ноши! – но уйти отсюда, не вдохнув последний раз запаха ее волос? Нет! Он встал, склонился над Лионгиной.
Она зашевелилась, словно только того и ждала, и все ее спокойствие было лишь тонким, тоньше простыни, слоем. Ее рука молниеносно выскользнула из-под одеяла и вцепилась Рафаэлу в волосы. Не отпуская, тянула к себе, напрягая все силы не столько изможденного тела, сколько взбудораженной, никаких запретов и здравого рассудка не признающей души. Вцепилась в него, как тогда, когда он склонился над ней на том каменном уступе, где она лежала едва живая, сорвавшись с кручи. Как там, тянула к себе его голову, шею, плечи, и ему пришлось ниже склониться над лежащей, чтобы не вытащить ее полуголой из постели. Кровь прилила к голове, в подковке на шее застряла капля пота. Лионгина не отпускала, пока его лоб не коснулся ее лба. Тогда, оставив густую шевелюру, схватила его руку и прижала к своей обнаженной груди.
Алоизас отшатнулся и замер. Прямой, торжественный, словно приносящий жертву у алтаря, правда, странного, не своей веры, чужого бога. Из-под черного круга очков выкатилась слеза.
– Д-да уймитесь же… Уймитесь, Лон-гина… – глухо бормотал Рафаэл, и в его сдавленном голосе мешались почти физическая боль, страсть и стыд. – Ваша жена б-больна! Это не она… ее б-болезнь! – хрипел он, все сильнее заикаясь, не надеясь уже высвободиться без посторонней помощи или хотя бы оправдаться.
Это продолжалось вечность – странное их объятие и вонзившийся в Алоизаса взгляд Лионгины. Когда кончится это наваждение? Что ищет она своим жутким взглядом, что силится отыскать в его лице, превратившемся в каменную маску?
Алоизас большим пальцем стер повисшую на щеке слезу и снова застыл.
– Сдохнуть… сдохнуть бы мне! – Вновь мелькнула белая рука Лионгины, как камень, отталкивая от себя голову Рафаэла. Множество камней катилось, чтобы раздавить ее, но один она сумела отбросить. Теперь ее глаза пылали холодно, из глубин, в которых уже ничего не страшно.
– Она – ненормальная! С-сумасшедшая! – давился, отступая от постели, Рафаэл.
Стыдился поднять голову, расправить плечи. Не умел стоять в позе виноватого – лучше сражаться с настоящим врагом, а не молить о пощаде, будучи поверженным. Чувствовал, что проиграл, хотя и не понимал почему. Да, было: хотелось покрасоваться перед этой женщиной, вел себя с ней как прыгун перед планкой – хорохорился, выставлял напоказ свою грацию и храбрость, рисовался. Но в горах-то был от начала до конца безупречен! Разве нет? Женщина сама тянулась к нему, прижималась, умоляла не оставлять, от прикосновения ее груди кипела кровь и еще раз закипит, когда вспомнит он этот лед и огонь, но Рафаэл безотчетно догадывался, что страстный порыв женщины не относится к его мужской сути, метит во что-то другое, что не связано ни с каким мужчиной, а если косвенно и связано, то пугающими узами, уходящими в не подвластные человеку выси.
– Надеюсь… больше я вам не нужен.
Он повернулся и поспешно вышел.
Лионгину разбудило солнце. Пробуждение среди дня больше не было похоже на проблески в тумане. Хотя Алоизас перемен не заметил. Угрюмо сидел за столом, лицом к кровати, подперев локтями уставшие, обвисшие плечи.
Услыхав, что губы ее что-то прошелестели, засуетился.
– Позвать фельдшера? Я мигом, мигом! – Вскочил, стряхивая оцепенение.
Лионгина, повернув голову, смотрела вслед. Как и там, в вагонном коридоре, на спине Алоизаса зияла рана. Не от чьей-то – от ее руки.
– Не уходи, – попросила трезвым, однако погасшим голосом.
Голос больного. Руки, грудь больного. В ее голосе и плоти многое умерло.
– Это я, Алоизас… Не узнаешь?
Сжимало горло от ее голоса, от мутных пятен вместо глаз.
– Я… Я… сейчас…
Он снял темные очки и подошел.







