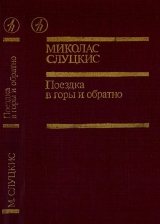
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 40 страниц)
На широкой кровати, упирающейся изголовьем в стену, еле умещается старуха, запутавшаяся в простынях и одеялах, заваленная множеством вещей, на первый взгляд странных и ненужных. Электрический обогреватель и две резиновые грелки, несколько зеркал разной величины, парик из искусственных волос, журнал «Кино», тюбики с кремами и мазью… Лионгине кажется, что глухо ворчащее существо, разбухшее от лежания, как надутый резиновый матрац, увязло в этих нагромождениях. Выбросить бы хоть часть барахла, глядишь, гора поубавилась бы и, возможно, снова прояснился бы голос матери, посветлело лицо. Некоторые вещи иногда исчезают, их место занимают другие, неизвестно как попавшие в кровать. Так, например, мать долгое время держала под рукой молоток. Отец принес с собой из тюрьмы. Что хотел этим доказать? А что – она, держа при себе? Однажды молоток пропал. Кто на него посягнул? Сама ни единой мелочи не отдаст, словно, отбирая, конечность ей ампутируют. Заранее предотвращает все попытки навести порядок. Негибкий, опухший язык все еще остер, как коса.
– О, привет, приветик! Большая для меня честь, я и не стою ее, ей-богу, не стою. Барышня, прошу прощения, товарищ… товарищ Гертруда, снова изволите, навестить? Ваш витамин «С» и впрямь помог. Скоро танцевать смогу. Прошу поближе, присядьте. Не гневайтесь, многоуважаемая Гертруда, на некоторый беспорядок. Муженек мой все возле пива толчется, сами знаете, любят мужики эти помои, с самого утра помчался, не убрал, не подмел. – Мать пытается кокетливо улыбнуться, меж мясистых щек поблескивает курносый нос. – Присаживайтесь, расстегнитесь, чтобы жарко не было. Ах, какая у вас красивая шубка, товарищ Гертруда. Нет, в помощи не нуждаюсь, истопник Феликсас прислуживает. Приносит, что надо, за глоток спиртного, соседка, барышня Тересе, варит суп или кашу, обмывает, хи-хи. Когда лежишь не день и не два, с задницей, знаете ли, проблема, почти мировая проблема. Не гневайтесь, я не политик, хватает с меня мужней политики. А куда потащился? К пивной бочке. Вот видите, не гневайтесь, товарищ Гертруда, прорвало, лью, как из ведра, – надоедает со стенами-то беседовать. Все уважают ваши заслуги перед государством и обществом, я тоже. Горжусь, что породнились мы через детей, правда, Алоизас вам брат, младший брат – не сын, но любите вы его как сына. Будь я богобоязненной, как барышня Тересе, я бы благодарила небо, что ваш Алоизас взял мою Лионгину. Не погнушался, так сказать. Что, уже? Плохо делается? Голова от вони закружилась? Разумеется, вы женщина культурная, не говорите этого, но поверьте, уважаемая товарищ Гертруда, не я испортила микроклимат. Мышей с кровати никто не гоняет, вот они и устраивают пиры. Шельмы, извините за выражение, грызут и тут же испражняются, а все осуждают меня, не владеющую собой, беспомощную женщину. Уходите уже? Говорите, важные дела? Бегите, бегите, проветрите легкие, спасибо, сердечное спасибо за визит. Муженек мой, вернувшись, будет жалеть, что разминулся с почетной гостьей, одна шубка, ондатровая шубка, чего стоит, хи-хи. Говорила же, оторвись, Тадас, от бочки, жизнь мимо протечет…
– Это я, мама. Добрый вечер. Не помешала? – механически, как каждый вечер, выговаривает Лионгина.
Опускает тяжелую авоську, прислоняет сумочку, кладет сверток с цветком. Руки шарят возле пуговиц, не находя их, она должна приказать себе снять пальто. На туфлях и рукаве еще лежат тающие крупинки. Светло было на улице, наверно, выпал снег. Первый снег, а я и не заметила, пугается она.
– А, это ты, доченька? Не слушай мою болтовню. Заговариваюсь я, чувствую, что заговариваюсь, но не могу уняться. – В голосе матери подавленная гордость – она не сдается, хотя всеми брошена и забыта. – Собакой завыла бы от одиночества. За стенки держась, ползала, если бы мне ноги. Ты умная – поймешь.
– Спасибо, мама. Неплохое представление ты мне устроила. Я даже постарела, пока слушала. – Лионгина оглядывается – за что бы приняться сначала.
– Ругай, ругай, дочка. Не стою я твоей доброты.
– Недобрая я. Над добротой в нашем доме весело смеялись. Душили доброту. Я стараюсь, делаю, что могу. А ты… Один разок не успела вовремя, и ты мне целый спектакль устроила. Я ведь не спрашиваю, зачем этот парик, крем, зеркала? Не спрашиваю?
– Что ты, что ты! Барышня Тересе натаскала. Больные ведь тоже женщины, иногда хочется пошалить, хи-хи. – В темной вмятине подушек начинает вспыхивать, словно там кто-то спички чиркает. Мать смеется, трясутся одутловатые щеки, жирный подбородок. Смехом маскирует страх, боится, что ей не поверят, заставят каяться. Посопев, на всякий случай морщит нос, Копит влагу для слез. Тут ее оплот, последняя крепость, и легко она не сдастся.
– Пойми, мама. Не о себе забочусь, мне ничего не нужно. Но ведь у меня не ты одна – Алоизас. Он пишет книгу. Я должна создать ему условия. Как ребенку. Большому, привередливому ребенку. Я не железная, мама, честное слово. А тут еще учеба. Забыла? Случится катастрофа, если все на меня навалите. Давай лучше не будем мучить друг друга, ладно?
– Иди, иди, доченька, к своему большому ребенку. Понимаю, как не понять? Ты лучшая дочь в мире, хотя я тебя, видит бог, не баловала. Приползет отец, подаст, что нужно. Есть же у бочки дно? Продукты принесла, и за то спасибо. Не изводись со старой развалиной, привередливой бабой, ступай. Отец…
– Мама, мама! Сколько раз повторять? Нет больше папы. Видела же ты посмертные фотографии, рассказывала я тебе, как нашли его в болоте. – И у Лионгины внезапно прорвалось то, что всякий раз, входя сюда, она глубоко прятала внутри. – Это ты, ты съела папу! Из-за твоих капризов он все ниже и ниже скатывался. Проворовался на фабрике? Отец? Смех один! Тебе захотелось иметь дорогую шубку, и мошенники ее раздобыли. Прикрывшись этой шубой, они славно похозяйничали за спиной отца.
– Тадас меня любил. – Мать напрягается, пунцовеет, кажется, вот-вот разорвет невидимые оковы, но только шелестит и сползает с живота журнал «Кино». – Тадас мне эту соболью шубку подарил. Любя подарил. Будешь настоящая Миледи из «Трех мушкетеров»! – Она пришепетывает, подражая голосу мужа. – Тебе-то и вспомнить будет нечего, когда станешь такой, как я. А у меня есть, есть!
– Миледи. Знаешь, кем была твоя Миледи? Да и о чем мы с тобой толкуем? Шуба конфискована, папа в земле.
– Красавицей была Миледи, красавицей! Что, я кино не смотрела? А тебе он не отец. Не присваивай, хи-хи! – Снова хитро поблескивает глазом в подушках. – Отчим. Так и говори: отчим.
– Ай, какой негодяй. Я-то считала его отцом. Цветы на могиле посадила, как настоящему отцу. Что теперь делать? Вырвать? – Лионгина лихо притопывает, вихляет бедрами, плечами, как эстрадная певичка. Лицо не дрогнуло, только замерло, побледнев. Такое можно снять и снова надеть, как гипсовую маску.
Мать захныкала. Некрасиво, отталкивающе, как старуха, хотя ей и пятидесяти нет.
– Прости, дочка, мне, грубиянке. Не только запах у меня отвратный, но и язык. Ненавижу свой жир, свое тело. Знала бы ты, как ненавижу.
– Потерпи, сейчас нагрею воду. Ты всегда была нетерпелива, мама. Не понимала отца. Но кто его понимал? Я?
Отец тут, Лионгина знает, что он тут, среди галдящих мужчин и женщин, молодых и старых. Они сплотились тесным полукругом, слышен не только гул их голосов, но и хруст суставов. Хмурый, плотно сбившийся рой магнитом притягивает к себе желтая бочка, на которой большими буквами выведено: «ПИВО». С улицы сквозь густую листву лип ее трудно заметить. Она – мерзкое пятно на новой городской окраине, поэтому затолкана между глухой стеной дома и ажурным кирпичным забором, сквозь который видно нагромождение железобетонных блоков.
Отец тут, остается прошмыгнуть мимо отдельных личностей, отползающих от роя с зажатыми в руках кружками, потом, поработав локтями, пробиться внутрь черного кома и ухватиться там за грязный рукав, все еще пахнущий чем-то родным. Лионгина огибает толпу – боязно оторваться от улицы, от привычной гармонии и порядка, частичкой которых она является, несмотря на свою растрепанную, беспросветную жизнь. Опоздаешь на работу! На лекции! Проклянет заждавшаяся мать! Будет сходить с ума Алоизас, вычерчивая каркасы кроссвордов! Подстегнула себя этим, как не желающую тянуть, выбившуюся из сил кобылу – батогом, – и появилась смелость. Несколько шагов, и она в гуще давки – в темной яме, которая мерещится ей, хотя и бочка и толпа – на открытой площадке. Так и полосуют взгляды, обдают смрадом разинутые, не стесняющиеся в выражениях рты.
– Ай да папаша! Такую кралю от нас прячет!
– Не давать ему больше ни кружки!
– Хочешь выпить, девушка, причаливай к нам!
Обрюзгшие лица, измученные внутренней засухой, оживают от опрокинутой кружки, чтобы после еще больше почернеть или побледнеть и затрястись вместе с ищущими, чего-то не находящими руками. Особенно пугают Лионгину молодые испитые лица. Мимо такого погасшего юного лица она старается прошмыгнуть, словно мимо ножа, припрятанного в безжалостной руке, – неизвестно, когда и кого пырнет. Иной молодой человек – еще чистый с виду, лишь с незаметной гнильцой внутри – не подозревает, что провалился в зловонную яму, напротив, считает, что забрался на башню, с высот которой можно весело поплевывать на головы окружающих.
– Не сердитесь, мужики, выслушаю проповедь и вернусь!
Отец не в претензии, что обижают его дочь, хотя раньше таких насмешек не потерпел бы, точно так же, как не терпел воровства. Не от страха угождает дружкам – никого он не боится, в его глазах тоже поблескивает пьяная бесшабашность! – проповедью прикрывает стыд, который охватывает его от пронзительного взгляда дочери, пусть она, как обычно, прячет глаза. Она и вправду ничего уже не видит, лишь скользкие руки продавщицы да лезущую из кружек, шлепающуюся на землю пену.
– Смотри, не выпои все без меня! – лихо подмигивает отец хозяйке бочки.
Визгливый голос этой толстой бабы то и дело рассекает гул голосов. Одному нальет третью кружку и швыряет его копейки в тарелку с липкими монетами, – молодец, соображения не пропил! – другому и второй не нацедит – накачался уже, как свинья, пошел к черту! Не решив – похвалить или отругать молоденькую женщину за то, что уводит постоянного клиента, – провожает уходящих хмурым взглядом.
– Хороший человек! – кричит вслед мокрым рукавом халата утирая потный лоб. – Не больно-то ругай его, бабонька! Попрошу – из шланга площадку побрызгает, подметет. С такими еще не самое страшное, эй, слышишь, что говорю?
Теперь их двоих, хихикая, провожает вся пьяная орава. Поскорее отсюда, туда, где не достанут грязные, как навозные вилы, взгляды, куда не долетит смрад пива и мочи, пропитавший даже кирпичи ажурного забора. Они еще не выбрались из поля притяжения бочки, слышен хлопок – кто-то, нетвердой рукой перелив в пивную кружку водку, бьет о кирпич бутылку. Со звоном разлетаются осколки, как будто ее режут, вопит продавщица:
– Раззява! Бутылку кокнул и ладонь раскроил! Не суйте мне грязные носовые платки! Марш в аптеку за йодом и бинтом, если не хотите, чтобы я милицию вызвала!
Лионгина чуть ли не бегом бежит, отец вынужден ускорить шаг, уходить ему не хочется – рядом, водрузив кружки на груде железобетонных блоков, мужчины разделывают копченую рыбу. Как бы славно подсесть к ним, тем более что мучает одышка. Боли нет – воздуха не хватает, хотя вокруг его сколько душе угодно, не так, как пива, которого порой приходится ожидать целыми часами, чтобы погасить пожар в желудке. Если Лионгина потащит черт знает куда, он заупрямится и – ни с места. Однако лишь подумал так – семенит следом, будто без нее не найдет тропы, будто шумят над головой другие, не пыльные городские деревья. Тук-тук – тонкие ножки, вьется посыпанная гравием тропинка, мелькая в отуманенных стеклах очков, пока не становится влажной, не вползает в густые заросли ольховника. Пахнет илом, птичьими перьями, и отец хрипло смеется, ожидая эха – робкого хихиканья.
А здесь – шумят машины, шелестят остриженные, не знающие птиц деревья – озабоченная девчушка ему не вторит. Трусиха, ледышка, а все видит, понимает, словно не ты – она старшая! – заблудишься, прибежит из чащи тропинка, будто ей одной послушная собачонка.
Подождав, пока уляжется покалыванье в боку, отец догоняет Лионгину. Она не удивляется, что он пыхтит и ловит ее руку. Снова греется в твердой ладони – как в те давние времена – ее рука, снова сжимает горло грустная доброта. Между ними – бочка, болезнь матери и многое другое, но, странное дело, не забылось то, что заставляло ее скользить за ним тенью, а его – смягчать голос и озираться по сторонам в поисках развлечений – тут, глядишь, пышные перья папоротника, там – прошлогоднее гнездышко! – чтобы отвести от себя ее пытливый, постоянно вопрошающий взгляд. Кто ты? Кто я, папа? Почему я должна все время напоминать себе, что твоя ладонь лишь из жалости греет мои пальцы? Или из страха, как бы я не заподозрила, что ты борешься с застарелой обидой, с постоянно кровоточащей раной? Временами мне удавалось поверить, что я тебе нужна, что, пискливо заверещав, могу тебя развеселить, но чаще – как вот сейчас! – чувствовала, что всегда остаюсь слишком тяжким испытанием для твоей доброты, твоего благородства. Знаю, ты и дня не остался бы с матерью, если бы не я – жалкий ее придаток. Не мог же ты бросить меня на произвол судьбы – такой большой, такой щедрый! Моей сиротской долей оправдывал ты свое чувство к женщине, не раз тебя предававшей, оправдывал свой проклятый негибкий характер, который ведет тебя по избранному пути, невзирая на крутые склоны и повороты…
– Как ты, папа, выдерживаешь среди этих?..
Дочь резко высвобождает руку, словно он один из тех, кому она не может найти названия. Она, ради которой он пожертвовал жизнью, гнушается им? Минуту его отекшая рука болтается ненужная, гадкая, как жаба, но тут же сердце сотрясает досада, все чаще охватывающая его возле бочки. Никому не завидует, но и его не трогайте, ничего от него не требуйте, он отдал все – что было и чего не было. Смотрите, как бы чего не потребовал от вас, боящихся испачкать холеные ноготки!..
– Люди, все мы люди.
– Некоторые из них – уже не люди.
– Лучше себя и другого душить из-за рубля, из-за вещи?
– А иначе нельзя? Только душить или пить?
Разговаривать стоя отцу трудно, озабоченным взглядом ищет, обо что бы опереться. Бочка слишком далеко, кроме того, около нее сейчас все ходуном ходит – «скорая» примчалась или милиция. Ему неспокойно, словно и он в том, что случилось, повинен. Случилось то, чего не должно было случиться. Кровь на асфальте – доказательство в пользу дочери. Бросил мимолетный взгляд в ее сторону, но так, чтобы не встретиться глазами. Ее глаза беспощадны. Она цепляется за жизнь из последних сил. Людям с такими лицами тут нечего делать. Твердая женщина, думает он уважительно, однако без обычной нежности и жалости – как о чужой.
– Не все живут так, как ты, – презрительно усмехается он, чего раньше не делал.
– Как я? – ее голос удивленно-печален. – Как же, интересно, я живу?
– Правильно, трезво. Как должно… Впрочем, что я знаю? Каждый живет по-своему.
– Ах, папа! – Лионгина отмахивается, но опускает голову. Нелегко тащить повешенный им груз. Хотя лучше колючий, чем молчащий. Он еще жив, если ему хочется ее обидеть.
Песочница, цементная тумба для мусора, три покрашенные в желтый цвет скамейки и шесть лип на вытоптанной лужайке. Одна из шести сухая, с мертво торчащими ветвями. Они плюхаются в сторонке от колясок с поднятым верхом – красной и зеленой. Шумок возле осаждаемой бочки доносится до них лишь слабыми порывами, сквозь однообразный гул троллейбусов.
– Не сердись. – Отцу мерещится берег реки. Они только что выбрались из густого леса. Возле текущей воды они ближе друг к другу, словно погрузили руки в бегущее время, которое безжалостно ко всем.
– Я и не сержусь. Живу очень хорошо. Разве есть большее удовольствие, чем гнуть спину на всех вас. Лучше бы мне не выздоравливать…
В голосе сдерживаемое рыдание. Слезами она никогда не умела плакать.
– Да, тяжко ты болела. Теперь снова красивая. – Отец еще раз глотает воздух, вспомнив, какой белой, словно гипсовой, без кровинки в лице – была она в больничной палате.
– Смотри-ка, научился около бочки комплименты говорить. – Лионгина и продолжая сердиться благодарна ему, – многое изгнав из своей жизни, не забыл о ее болезни. – Посидел бы хоть полдня дома, папа, не пришлось бы мне так разрываться. Чистую рубашку тебе принесла – переоденься. Чего тянешь? Скорее, нет у меня времени.
Отец отшвыривает сверток, вскакивает.
– Я же не просил! Чего лезете, подлизываетесь? Она… она подослала! Завидует моей свободе, глотку воздуха… что среди людей! Позора из-за нее нахлебался, рабочий класс предал – чего ей еще? Гнил в тюрьме – не желаю больше гнить! Ни ее, ни тебя видеть не желаю. Ты всегда была с ней заодно, сызмала заодно. Ее орудием служила, коварным орудием, ядом в сердце… Не то что к бочке – в ад от вас сбежал бы!
Орет и захлебывается слюною уже не он – бочка, черная пьяная сутолока, неуемные страсти погибших людей, с алкоголем вспыхивающие и испаряющиеся.
– Было время – со всем миром воевал, а теперь тебя бочка раздавила. Эх, папа!
Снова бочка, снова вытоптанный скверик, даже коляски те же – красная и зеленая, – только на деревьях желтеют листья. Время отодвинулось, и боль отодвинулась – глубже вонзилась. Что бы ты ни делана, как бы ни раскалывалась из-за отца – обманываешь себя. Ищи не ищи, все равно в бочку уткнешься. Тут его дом.
– Не стирай моих рубашек. У самого руки есть. – Отец вертит шеей в чистом воротничке переодетой рубашки. Недовольно ворчит, что от ее мыл да порошков чешется кожа, а на самом деле вспоминает, как кричал в последний раз. Не он кричал – рот раздирал ему кто-то другой, сильнее и злее его, сопротивляться которому он был бессилен. Много бы дал, чтобы забыла дочь его истошные вопли. Ведь не думает же он так гадко, как орал, ведь не последний же он скот! – Как твой? Его книга?
– Пишет.
– Не радуешься?
– Напишет. Когда-нибудь напишет. Чиню ему карандаши.
– Только-то?
– Мало? Еще мало?
– Вера женщины – великое дело, – покашливает отец, впутавшись в новую неприятность – дернул черт заговорить о зяте. Завсегдатай бочки для Алоизаса Губертавичюса – не человек. И снова отца точно науськивает кто-то, пихает в горло слова, которых не должна была бы слышать бледнеющая дочь. – Читал его последнюю статью. Мужики рыбку в ней принесли. Не обижайся, дочка, если скажу. Парит в состоянии невесомости, как теперь говорят. Не дурак парень, честный, но… не интересен ему живой человек. Я такой-сякой – не претендую… Но другие-то люди?..
– Вроде бы не видела. Ему скажи, ему! Чего вам всем от меня надо?
Лионгина выкрикивает это нервно, визгливо, и отец, привыкший к сдержанности ее тона, удивляется.
– Ты случаем не заболела?
– Здорова. Здорова, как корова, только рожать не буду. Нет никакой надежды! – и расплакалась, без всякой связи с мыслями об отце, муже, себе самой. Не хотела этого говорить, не думала так. Заставляет себя равнодушно проводить взглядом поскрипывающие коляски, полные кружев и крика.
– Жалко. – Признание дочери сжимает отцу сердце, как его собственное, в прошлый раз не высказанное, оставленное про запас. Надо ее утешить, ободрить. Роется в памяти, где все перемешалось. Было время – вытаскивал из кармана подтаявшую шоколадку. – У каждого своя судьба. Ты, дочка, была в горах.
– Нет гор, папа! Бред юности, а заплатила безумно дорого. Неизвестно за что.
– За горы, девочка, за те самые маячащие вдали горы. – Отец чертит в воздухе кистью руки – дрожащей, неприятно разбухшей.
– Что с того для человека? В одном убеждаешься – как ты мал, ничтожен. А потом…
– Это много, Лина, если убеждаешься.
– …потом понимаешь, что твои горы – лишь дрожание воздуха, мираж, обман.
– Что недостижимы – правда. Горы и должны выситься над нами. Чистые, незахватанные. Я так понимаю, девочка.
Чертит контуры хребтов дрожащей рукой пьяного? Он, молча уступивший другим сомнительное счастье подниматься и падать? Возникает злорадное желание отомстить за поражения, самое болезненное из которых – что никогда не станет матерью.
– Не мне и не тебе, папа, о горах рассуждать. Все изгадили, осквернили. Посмотрел бы на себя в зеркало. Как ты выглядишь… твой костюм… Когда-то, надев его, ты сиял. Где это на рукав чернильное пятно посадил? Кляуз вроде бы не пишешь!
Отец дергает головой, будто получил пощечину, – вылезает потрескавшаяся шея, высоко стриженный затылок, шрам возле уха. Около пивной бочки ему пробили голову. В самом начале, когда не понимал, в каком болоте тонет. Привязались двое, требуя рубль. Он бы угостил, но уступать насильникам? Его и шарахнули кружкой.
Рука Лионгины несмело тянется к шраму. Отец вскакивает, словно ему все еще больно, облизывает губы белым языком. От разговоров весь пересох, если немедленно не смочит внутренностей, упадет на месте. Так ему кажется.
– Что правда, то правда, – бормочет он, пятясь. – Но я, дочка, исправлюсь, брошу пить… Уже не лакаю с утра до вечера. Две, три, от силы четыре кружки – не больше. Что значат для мужика четыре-пять кружек?
Угодливый, плаксивый голос – не отца, а бочечной шушеры. Лионгина не может преодолеть отвращения. Это противнее, чем грязная одежда, которую приходится ей стирать.
– Ты не бойся. Никуда я не денусь. – Отец вздрагивает, потому что свистнул соскучившийся по нему дружок. – Не думай, что мне не жаль матери. Мало сказать: жаль. Во, авоську купил. Молоко смогу Лигии носить. Взял раз без авоськи, так выскользнуло из рук… Не веришь?
– Верю, папа, верю, не надо унижаться.
– Презирай меня, дочка, стою того. Сам себе отвратителен. Бочкой провонял с головы до ног – одежда, руки, язык. Открою тебе секрет: не от матери бегу – от самого себя! Тебе когда-нибудь хотелось человека… любимого человека… своими руками?
– Почему ты мне это говоришь, папа?
– Ты всегда была и остаешься мне судьей. Трудно любить всю жизнь, очень трудно… Сколько мусора, сколько ненависти надо сжечь, чтобы сохранить живое чувство… Пусть не все – частичку…
Уже не притворщик, для которого главное – вырваться и припасть к бочке. Из глубины души черпает. Из той самой, в которой вспыхнула решимость сломать хребет старому миру. Из той самой, которая не предполагала, что самое трудное для человека – ломать себя.
Остается поверить, а значит, признать, что ничем ему не поможешь. Бедный, бедный мой папа!.. Бесконечно стирал, надраивал пол, а едва уткнется в книгу, как послышится стук. Все усиливающиеся удары молотка – его тюремного молотка, не другого какого – о тумбочку. Прыгают чашки, блюдца, катаются лекарства. Больная зовет? Нет, гонит из дому, чтобы потом, когда он вернется с видом преступника, жарить на медленном огне, разбирая ступенька за ступенькой его карьеру. Точит и точит, краснея и синея, пока не перехватывает дыхание и она начинает хрипеть, будто ее душат, а рука не перестает колотить молотком, чтобы он наконец потерял терпение, подскочил и, вырвав молоток, одним ударом освободил ее от страданий, из которых самое невыносимое – как он, послюнявив палец, перелистывает страницу за страницей, будто ничего не случилось, будто не лежит она пластом, будто вся жизнь у них еще впереди!..
– Не беспокойся о молоке, папа. Я пока что справляюсь. – Лионгина бледно улыбается, хочет облегчить ему совесть, хотя возле бочки он скоро забудет свои обещания и раскаяние. Все, что она в состоянии сделать для него, так ничтожно.
От пахнувшего в глаза жара мутнеют отцовские очки. Ни улыбка, ни его умиление ничего не изменят. Они останутся чужими друг другу, как было суждено с самого начала. Шли и будут идти каждый своей дорогой.
– Прощай, цветочек! – Отец внезапно вспоминает, как называл ее маленькую. И шагает прочь, унося с собой запотевшие очки и образ маленькой, собирающей осенние листья девочки.
Лионгина смотрит вслед и чувствует, что часть ее, быть может лучшая, пошатываясь, уходит вместе с ним, чужим. О чем думает он, шагая? В другой раз спрошу, в другой…
Другого раза не будет. Его найдут через неделю – в ста километрах от города, среди большого болота, с корзинкой клюквы. За молоком так и не собрался – вспомнил, что Лигия любит клюквенный кисель.
Как уткнулся лицом в усыпанный красным кочкарник, так и не поднялся. Двое суток пролежал, неловко скрючившись, пока не стали над ним кружить птицы. Тогда его и нашли. Клюква была доставлена вместе с трупом как вещественное доказательство. Чего? Любви к матери? Всего, что было и не сплыло, а только отлетело в недосягаемые дали?
Лионгина трудится, как робот, как несколько роботов, собранных вместе. Распахивает окна, грудью и руками выталкивает прочь ненавистный запах, складывает продукты в холодильник, испорченные швыряет в помойное ведро, распутывает узел проводов от электроприборов, пылесосит, моет, стирает, греет воду. Потом, напрягшись, переваливает на бок огромное, как гора, тело матери, обмывает и растирает спиртом на перестеленном чистом белье – грязное, затолкав в наволочку, отнесет в прачечную, – расчесывает слипшиеся волосы, брызгает одеколоном, а на столик, как горящую свечу, водружает желтую кудрявую хризантему. Изо всех сил воюет с запахом болезни, одиночества и агонии, который уменьшается, но не желает убираться прочь, как пристыженная собачонка, а таится то под кроватью, то в щели между тумбочкой и газовой плитой, а скорее всего, грустно думает Лионгина, этот запах въелся в меня, в мои нетерпеливые, норовящие скорее сбежать руки, – что, если уже третья лекция началась, а вдруг Алоизас снова занялся своими дурацкими клеточками? – и, возможно, я выдумываю запах, как мать – гадящих мышей, и заранее помогаю своей совести, которая начнет грызть, как только я удеру со вздохом облегчения.
Нырнувшую уже было в дверь Лионгину удерживает не то псалом, не то какая-то песенка. Бубнит ее монотонный, притворно веселый голос больной. Обмытая, словно сбросившая с себя вместе с грязью кучу лет, мать напевает, и не как-нибудь, а по-русски:
… парень молодой, молодой…
… в красной рубашоночке…
… хорошенький такой…
Песенка, привезенная отцом из России. Мать и вправду любила его, хотя и искалечила ему жизнь? И продолжает любить, когда его уже нет?
Восхитительная Р… Лет восемь-девять назад Алоизасу и не снилось, что он будет произносить ее имя равнодушно и презрительно, собираясь de jure соединиться узами Гименея с другой. В этой другой жизнь едва тлела, таилась, съежившись в глухих закоулках души, – она сама плутала в них, ища себя. Восхитительная Р. была ей полной противоположностью. Не выше Лионгины, она казалась высокой, – возможно, из-за бойкости и соломенной челки, которая весело моталась на ясном лбу. Блондинка, как и будущая ее соперница, Р. не только сама блистала, но и щедро излучала свет. От ее улыбающегося овального лица, от голубизны глаз становилось светлее всюду, где бы она ни появлялась. Тот, с кем она заговаривала, испытывал благодарность за внимание и провожал ее восхищенным взглядом, хотя многие сразу же понимали, что свечение предназначено не им. Тем более гордился Алоизас, выделенный из всех. Когда при встрече его шляпа описывала в воздухе дугу, глаза Р. не сверкали голубыми льдинками. Она умела улыбаться холодно и раняще, даже лучась, однако Алоизасу не приходилось съеживаться под этим слепящим светом. Для него синева ее глаз разливалась теплыми озерцами, пропахшими зреющими по берегам на солнце малинниками. Р. первая подхватила Алоизаса под руку. Правда, поначалу шаловливо, в любую минуту ее ладошка могла вспорхнуть и улететь вслед за лучиками глаз. Не улетела. И пока светлая челка билась у его плеча, Алоизас чувствовал себя добродушным и уступчивым, хотя именно этих качеств ему недоставало – Гертруда растила его как будущую славу рода, которой все обязаны приносить себя в жертву. Красивая головка рядом, легкий шелест обаяния и элегантности, заставляющей встречных оборачиваться, вселяют надежду, что все мечты мальчишки, выбившегося из тенет безвестности и судьбы, исполняются. Благосклонность Р., лестная сама по себе, сулила поджидающий за поворотом дороги или за перекрестком успех, не измеряемый ни деньгами, ни карьерой – чем-то более высоким и благородным.
Вот они вдвоем плывут по праздничной, нарядной, куда-то спешащей улице. Высокий, представительный мужчина в шляпе – кто он? Знающая себе цену гордая девушка с легкой походкой и правильными чертами лица – кто она?
– It’s splendid weather, isn’t it?
– I think we couldn’t wish for finer weather.
– You can never be sure of ther weather[4]4
– Прекрасная погода, не правда ли?
– Мне кажется, лучше и быть не может.
– В погоде никогда нельзя быть уверенным (англ.).
[Закрыть].
– О чем-нибудь другом, милый. С ума можно сойти! – Негромкий смех светловолосой слышен нескольким зевакам. Если не иностранцы, то, может, артисты? Уж не балерина ли? Нет, не артистка, изучает логику в университете, уделяя занятиям больше времени, чем может показаться со стороны. Английские реплики, кое-кому режущие слух, – не обезьянничание. Приближаются госэкзамены, и страшно оступиться на пороге, за которым открываются желанные просторы.
– You speak English with a slight accent.
– I find it difficult[5]5
– Вы говорите по-английски с ничтожным акцентом.
– Мне это трудно дается (англ.).
[Закрыть].
Не артистка, однако поет в октете, принимает участие во всех больших академических торжествах. Поэтому свет рампы сливается с ее личным сиянием. Многочисленные отсветы падают и на зачетку, где выстроились одни пятерки. Самые строгие преподаватели оттаивают в свете ясных глаз. Очарованные приятным альтом, они невольно вписывают очень хорошие, не всегда заслуженные оценки. И все же подавляющее их большинство Р. заработала честно. Была терпеливой, умела трудиться, если требовалось – во время экзаменационной сессии – целыми сутками. Труднее давался английский язык – из-за злополучной щербинки между зубами, затруднявшей произношение английского the, как она сама жаловалась. С помощью Алоизаса произношение Р. постепенно улучшалось, но была в том заслуга и ее самой – не стеснялась учиться и на запруженной людьми улице, и в интимной обстановке – tête-a-tête. Завоевать именную стипендию помогли Р. не только личное обаяние и работоспособность, но и живой ум, во все стремившийся внести ясность и гармонию. Она не была, как кое-кто полагал, доченькой обеспеченных родителей. Мать умерла от рака, когда Р. кончала школу, учились еще две сестры, и зарплаты отца, занимавшего не слишком высокий пост в глубинке, для поддержки трех девиц не хватало. Выкручивалась сама да еще умудрялась со вкусом одеваться. Ее туфельки, платья, шапочки отвечали новейшей моде – не менялись лишь челка на лбу, бодро и доверчиво смотрящая на мир голубизна глаз, а также улыбка, обнажающая щербинку. Алоизас вскоре понял: очень не любит Р. свою щербинку. Ему этот небольшой дефект – не дефект, скорее индивидуальная деталь – казался милым. Не может в человеке все до мелочей быть совершенным. Хотя в ту пору он очень высоко ставил свою личность, однако себя совершенством не считал и даже слегка опасался Р. из-за ее безупречной гармоничности. Так что милая щербинка не разрушала для него блистательного облика девушки, где воедино слились правильные черты лица, вкус и элегантность. Откуда она берет деньги на свои туалеты, Алоизас узнал неожиданно, так неожиданно, что едва не рухнул созданный им идеал.







