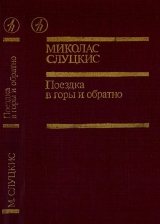
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
Значит, не только на Аудроне и Алдону хочется мне пожаловаться Н.? Ищу случай исповедаться за всю жизнь? И перед кем? Он снова увидел обитую драным дерматином дверь. Ха, рассмеялся Алоизас, ведь это дверь моей тещи, – эти выжженные полумесяцы! Ха-ха, где еще есть такая ненасытная печь? Но почему-то мне захотелось сунуть ее в жилище несносного Н. Нет, знакомство с услужливым бывшим коллегой кончено. Алоизас был уверен, что кончено навсегда.
– Все гордые, приходится кланяться мне!
Алоизас не переступил бы порога. Проходя мимо кафедры, не испытывал никакой гордости. Напротив – некоторые угрызения совести. П. не ждал, пока Алоизас сам соизволит зайти, – схватил и затащил, а он не особенно сопротивлялся. П. не коллега, которого можно послать к черту, он – завкафедрой. Это случилось на другой день после эксперимента.
– Завидую я вам, братцы. Отбарабанил свою молитву, принял экзамен – вольная птаха! Не такова наша доля. – И П. тяжело вздохнул, страдальческим выражением лица прикрывая свои намерения и то существенное обстоятельство, что уже обо всем пронюхал.
Обычно П. не уставляется прямо в глаза собеседнику, хотя придвигается вплотную и все молниеносно замечает: выбрит ли, какие на тебе туфли, сменил ли часы на более современные. Небритое лицо или модная одежда немало рассказывают ему о сдвигах в быте или даже душе человека. Ясный или мутный взгляд повествуют ему о согласии или разладе в семье, коллективе, обществе – поэтому не прозевай тени на лице, складки на одежде. Всю информацию вбирают цепкие светлые глазки, которые по большей части не видны, так как на его лоб падают прямые и жесткие клочья волос. С такой прической он похож на мыслителя, словно бы обосновавшегося за перегородкой.
– Как делишки, коллега? – Попытки вышестоящих панибратствовать, опускаться на корточки, чтобы стать вровень с ним, Алоизасом, всегда злят его. – Дела, здоровье и т. п. Что, и пошутить нельзя?
– Я, товарищ заведующий, не склонен шутить. В другой раз, ладно?
– Почему? Жизнь коротка! – Уловив морщину неудовольствия на лбу Алоизаса, П. оборвал смех. – Знаю, знаю, вы не из разговорчивых! Поэтому не буду расспрашивать. Между прочим, не вижу экзаменационного листа.
Из-за этого между прочим и затеял разговор, все остальное – дым. Жесткие, колючие глазки П. на миг рассеяли этот дым.
– Еще не сдал.
– Почему? Простите, пристаю, как пятилетний ребенок моей сестры. Почему не сгорает солнце? Почему не падает луна?
– Немногим легче ответить и на ваш вопрос, товарищ заведующий.
– Ну-ну, не будем скромничать!
– Отдельным студентам я разрешаю пересдавать. Вы отлично знаете.
– Я не посторонний, чтобы ничем не интересоваться. Кому ответственность, а кто фокусы выкидывает. – Снова остренько пробились из-под копны волос глазки.
– Смотря что называть фокусами.
– Не заводитесь, Губертавичюс. Не по адресу ляпнул. Пожаловался на собачью жизнь завкафедрой. С кого руководство шкуру дерет за проценты неуспеваемости? Не с вас.
– Сочувствую, – пробормотал Алоизас, покосившись на дверь.
– Надеюсь, все уладится, товарищ Губертавичюс? – Голос заведующего зазвучал раздраженнее. И голос, и уколы глаз свидетельствовали, что он не собирается мириться с создавшимся положением.
– Сдали все, у кого я раньше не принял зачета. Только Аудроне И., Алдона И. и еще один…
– Интересно, какого пола ваш еще один?
– Вижу, вы неплохо информированы? – Алоизас поморщился, хотя собирался язвительно усмехнуться. – В данном случае мужчина. Студент-инвалид.
– Должность! Должность заставляет интересоваться всем, включая прошлогодний снег. Должность заставляет, товарищ Губертавичюс, настоятельно вам посоветовать: поставьте in corpore и забудьте.
– Не убедившись, что нюхали материал?
– Не надоело вам возиться? Пара вопросиков pro forma, и…
– Не думаю, что смогу так возмутительно нарушить академические принципы.
– Значит, все-таки ввязываемся в холодную войну? – П. снова попытался усмехнуться, в горле у него что-то скрипнуло. – В таких случаях лучше не драматизировать обстановку! – Взмахом головы П. еще ниже опустил на лоб волосы, чтобы не видны были его истинные мысли. – Никто не виноват. Товарищ М. не вовремя полез под машину. Он преподавал так, вы требуете иначе. Отсюда и недоразумения.
– Я создал все условия. Словно каким-то недоразвитым. – Алоизас передернул плечами.
– Видимо, не всем, не всем! – Весело запрыгали над бровями заслоняющие глаза космы. – Кому создали, тот и сдал. Например, Алмоне И. Меня правильно информировали?
– Правильно. Пожалел девушку. Когда ей учиться? Она – гладиатор. Жертва спортивных амбиций института.
– Вам не нравится спорт? Впрочем, о значении спорта в деле воспитания молодежи мы подискутируем в следующий раз. В здоровом теле – здоровый дух! Не мудрость ли римлян? Ладно, Губертавичюс! Что вам мешает таким же образом амнистировать и остальных? Аудроне И. и Алдона И. – неплохие студентки. – Заведующий кафедрой усмехнулся маленьким хитрым ротиком, кончик язычка лизнул губы, как змеиное жало. Прекрасно знает, какие они студентки, и даже не скрывает этого от горящих возмущением глаз несговорчивого преподавателя. И я знаю, и ты знаешь, так и говорит его усмешка, но надо делать все для блага нашей Alma Mater и для своего собственного, всячески избегать сложностей, не диктуемых необходимостью.
– Не собираюсь основывать филиал армии спасения. – Алоизас отгородился от заговорщицкой ухмылки. – Это – первое. Второе – тут совершенно другой случай, чем с Алмоне И. Злоупотребление своим положением, попытка использовать привилегии, на которые они вряд ли имеют право.
– Что вы, что вы! В нашем обществе привилегий нет ни у кого, за исключением, как утверждается в одной песенке, детей. Студенческие привычки не особо отличаются от школьных: заболел преподаватель – ура, от радости никто не учится! Разве мы были другими? Вы славились, Губертавичюс, благородством. Кто мог подумать, что вытащите нож?
– Элементарная требовательность – не нож.
– Я гиперболизирую, конечно, однако в конкретной ситуации ваша непреклонность… – П. опять тряхнул космами, улыбнулся снисходительно, почти отечески, хотя был всего на несколько лет старше. – Оба мы заговорились! Вручите мне красивый экзаменационный лист, Губертавичюс, и инцидент исчерпан.
Алоизас, не скрывая презрения – ведь П. извивается ужом! – отрицательно мотнул головой.
– Фу, устал. – Заведующий потянул вниз узел галстука – миролюбивый, зовущий к компромиссу жест, – однако проглянувшие сквозь завесу глазки обожгли Алоизаса белым, безжалостным огнем. – Понятно, мы порядочнее, честнее всех остальных, которые продаются за злато, за ложку вкусной еды, как сказано у поэта. Упоминавшейся уже Алмоне И. за тупость ставим четверку, двум другим за то же самое – двойку. Какие же тут принципы? Не выдерживают критики и ваши новации. Экзамены – не самое подходящее время для экспериментов. Что вам взбрело в голову? Студенты растерялись, занервничали. Если узнает ректорат…
– Что тогда, товарищ заведующий? Пугаете?
– Что вы, милый мой Губертавичюс! Предлагаю еще раз подумать в спокойной обстановке, не горячась…
– Я все обдумал.
– Не все! Втянули нас всех в отвратительную историю, будьте любезны исправить дело. – Сквозь завесу волос вновь посыпались злые огоньки.
– Исправить я согласен, только честно.
– Ладно! Прикинемся детишками-почемучками и будем спрашивать, почему не падает луна. Почему-то умалчиваете вы о студенте-инвалиде. С ним, скажите, вы поступили честно?
– Не о нем речь. Ему готов вывести тройку. Парень из самолюбия примкнул к Аудроне И. и Алдоне И. Покинул аудиторию с двумя красотками!
– Понимаю, вы обижены выпадом девушек! – П. обрадовался, задвигался, заряженный новой энергией. – Они немедленно попросят прощения. Да, немедленно.
– Пусть лучше повторят курс! И – как следует.
Алоизас поднялся, отупев от беседы. Голова гудела, еще минут десять такой обработки – и отступил бы.
– Минуточку! – П. задержал его в дверях. Еще не все свои заряды выпустил. – Посоветуйте, Губертавичюс, если не хотите помочь… Что мне делать, если пойдут разговоры, дескать, кафедра преследует студентку Алдону И.? Преследует лишь за то, что ее отец – влиятельная персона?
– Оригинальный поворот!
– Что вы, только советуюсь. Между прочим, – и снова между прочим было для него самым главным, – отец Алдоны И. и наш проректор Эугениюс Э. – приятели. Известно вам это?
– Жизнью великих людей не интересуюсь. Однако даже зная… Не будем клеветать на них. Неужели вы думаете, что Эугениюс Э. дружит с отцом студентки потому, что тот занимает высокий пост? А занимающий высокий пост – с проректором потому, что в институте учится его дочь?
– Я сказал: между прочим. Комментарии – плод разгоряченной фантазии. Не зря студенты отмахиваются от ваших экспериментов. Сомнительных! Более чем сомнительных! Нарушающих экзаменационную инструкцию! Об этом вы подумали?
– За меня, как выяснилось, думает начальство. А разгоряченную фантазию я не променял бы на мозг, запрограммированный на хамелеонство!
– Настряпали брака, заставляете других исправлять его да еще и оскорбляете людей, желающих вам добра! – П. окончательно разъярился.
– Группа М., а брак стряпаю я? Продолжайте, продолжайте.
– Не иронизируйте. За экзамен отвечаете вы!
– За дифференцированный зачет.
– Тем более не следовало поднимать шум. Хотите заслужить славу пустопорожнего гордеца?
Алоизас зажмурился. Мотивы заведующего бились перед глазами цветными лентами, как на сеансе иллюзиониста. Протяни руку хоть к оранжевой, хоть к смарагдовой, П., ухватившись за другой конец ленты, по-приятельски похлопает тебя по плечу.
– Эй, вы что, спите? – П., подбежав, встряхнул его. – О чем вы думаете?
– Думаю, почему Эугениюс Э. дружит с отцом Алдоны И.
П. всплеснул руками.
– Кто вы, Губертавичюс? Обнаглевший честолюбец или святая простота?
– Изволили похвалить меня, заведующий?
– Браво, коллега. Чувство юмора вам пригодится!
– Еще больше пригодится сознание того, что не поступил по-свински, хотя кое-кто и склонял меня к этому.
Мафия! Что, если не мафия? Подлейшие предложения, неслыханный нажим! И во имя чего? Чтобы процветал блат, чтобы никто, не дай бог, не помешал нескольким лентяям вести развеселую жизнь, и не где-нибудь, а в стенах Института культуры! Спросим самих себя, оставив на минуту в покое этих бездельников и их покровителей: что значит хорошая оценка, которую у нас зубами вырывают, вместо неудовлетворительной? Подобным образом можно потребовать от врача, чтобы он не лечил больного, а занимался здоровым, от судьи – чтобы оправдал виновного и осудил невиновного, от заготовителя – чтобы заприходовал непоставленное зерно, а привезенное спрятал, и т. д. Но это же все равно что ночь объявить днем, зло – добром и наоборот! Неужели П. и его сообщники сознательно стремятся к этому? Невероятно. Он мог погорячиться, исказить мои намерения или до конца не понять их, но сознательно, понимая все, предлагать подлость? Что касается его, Алоизаса Губертавичюса, то он без колебаний будет защищать академические ценности, пусть и сам провинился, пожалев Алмоне. Приходится, как это ни печально, признать, что из-за жалости и доброты тоже можно пойти на преступление… Как сочетать чувства и принципы? Может, решить неразрешимое – задача людей будущего? До того времени нам придется самим защищать пядь земли – это постулат, – чтобы не выскользнула из-под ног…
Остывали вспотевшая спина и раздражение. Стук двери, – уходя, так ударил, что загремело! – слабел в ушах. Не почудилась ли ему вся эта кутерьма? Чего-то не понял и сделал неправильные, далеко идущие выводы? Хорошо бы посоветоваться, услышать трезвое суждение. Однако я так одинок!.. Впервые упрекнул себя Алоизас в излишней сдержанности, в неумении общаться с людьми.
Пока стоял и размышлял о своем неловком положении, подскочил юноша в синей нейлоновой куртке и кепочке из той же материи. Таких молодых людей тысячи, не отличишь одного от другого.
– Мне?
– Вам, вам!
Вскрыл конверт, выпала визитная карточка бывшего коллеги Н.: домашний адрес и номер телефона.
– Эй, мне это ни к чему! – крикнул Алоизас, но молодой человек уже затерялся в толпе студентов.
Не прячется ли сам Н. где-нибудь неподалеку? Алоизас принял строгое выражение лица. Все-таки утешало, что кто-то его поддерживает. Достаточно моргнуть, и зарычит стервозная собачонка, готовая укусить кого угодно. Образ не понравился – вызывал ассоциации с запаршивевшими бродячими собаками, которые, бороня мордами обочины дорог, разоряют и гнезда невинных пташек. Он чувствовал себя облитым нечистотами – наглое поведение студенток, отвратительный торг с завкафедрой, который не хуже его понимает, кто прав, но не колеблясь держит сторону неправых! Н. посочувствует, бросится поздравлять неизвестно с чем, поносить Эугениюса Э., душить запахом старой одежды и чеснока.
Сверкнуло разбитое стекло телефонной будки. Алоизас опустил монету, набрал четыре цифры пятизначного номера, но пятой не одолел. Не смей клещом впиваться в Лионгину! Пусть хотя бы пару деньков подышит, вырвавшись из материнской каторги. Свобода, которой она наслаждается, призрачна. Пустить к парализованной матери девку с улицы для Лионгины то же самое, что привести туда хищного зверя. И еще он безотчетно понимал, что, погружаясь в туман подсознания – в черные сны, ничего не оставляющие воспоминаниям, – Лионгина прячется от приближающегося нового кошмара. Не от хорошей жизни ищет она провалившиеся горы – позорный финал юности. Ведь если трезво все обдумать, то в горах она испытала лишь стыд и унижение. Неужели то черное пятно для нее светлее, чем сегодняшний день? И он, Алоизас, в этом виноват? Его нерешительность, его неспособность вырваться из мелочей и взять быка за рога? Даже пустячная история с зачетом выросла в грозовую тучу…
Гудела, трещала телефонная линия, ожидая, когда же наберет он последнюю цифру. Так близко тепло щек и губ Лионгины, ее исхудавшее сорокадевятикилограммовое тело, в последние дни все больше его трогающее. Чувство это было для Алоизаса непривычно, отвлекло мысли от опасного положения, в которое он сам себя загнал, от необходимости бороться и победить. Надо было собрать силы, вырваться на вольный простор, а не расслабляться, плакаться Лионгине…
Надо было действовать.
Например, давно назрела необходимость побывать в больнице. Как там коллега М.? Вдруг удастся расспросить его о группе. Почему в ней такой букет бездельников? Так или иначе, М. вел эту группу и лучше всех может поведать о каждой из трех И. Прекрасные оценки у всех и почти по всем предметам – на самом деле фикция? Быть может, им овладела мстительная мания величия – и он набросился на невиновных? Самое подходящее и точное название такому поведению – мания. Он с радостью согласился бы на роль маньяка, лишь бы не отступить от порядочности, превращая справедливость в несправедливость, хлеб в камень.
Навестить искалеченного в автомобильной аварии коллегу ему хотелось и раньше. Этому намерению сопротивлялся застарелый страх перед больницами и другими подобными учреждениями. Ему казалось: стоит побыть в атмосфере, насыщенной запахом лекарств, и тебя облепят бактерии, невидимые возбудители болезней. Волнуясь, не зная, как держать банку персикового компота, он вступил в белый, скорее даже серый мир, где самые яркие пятна – пижамы ходячих больных. Алоизас шарахался от них, как от свежеокрашенного забора.
– Ваш М. в тяжелом состоянии, – сообщил невысокий коренастый врач в расстегнутом халате, глядя куда-то мимо локтя посетителя с судорожно зажатой под ним банкой компота.
– И на пять минут не пустите? Мне поговорить надо.
– Мумию себе представляете? – Врач поднял руку, будто мумии стоят, а не лежат.
– Да. – Алоизас втянул ртом большой глоток воздуха, хотя решил дышать только носом. – Можно будет прийти к нему в другой раз?
– Можно, если он еще будет здесь.
– Собираетесь куда-то перевести?
– Нет, почему. – Голос врача оторвался от далей, которых он не мог видеть – только воображать. – Простите, я не объяснил вам. М. подключен к аппарату.
Фраза прозвучала мрачно и двусмысленно, словно сам М. стал неодухотворенным предметом – какой-то принадлежностью аппарата.
Проходя мимо старичка в фиолетовой пижаме, Алоизас сунул компот ему.
– Не тут ли проживает… живет?..
Алоизасу показалось, что он заблудился, спутал номер дома, хотя все время сверялся с визитной карточкой. Не извивалась отвратительная выщербленная лестница, не чернели изрисованные мальчишками стены. Поверхность двери сияла чистым желтым ясенем, металлическим номером и глазком.
Он усомнился во всем, включая свое право стоять тут, но его не изучали, как сквозь прицел, в глазок. Не преградили ему путь, и когда дверь отворилась – без скрипа, который должен был послышаться и убедить, что он пришел туда, где его ждут.
– Вам профессора Н.? Тут, тут. Проходите, пожалуйста, – пригласил приятный женский голос, неясно – жены или дочки, и запахло не тушеной картошкой, а паркетным воском.
Профессор? Почему профессор? Коллега Н. не поднимался выше звания и. о. доцента. Удивление прошло несколько позже, когда освоился с набитыми книгами полками и ковровой дорожкой малинового цвета.
– Проходите, пожалуйста, проходите. – Воркующий женский голосок мягко ласкал его барабанные перепонки, чтобы не звенело в ушах от тишины, блеска паркета, дорогой мебели и других неожиданностей.
В гостиной его встретил камин, выложенный темно-рыжими изразцами. Вместо печки, давящейся дымом? К стене льнула старинная софа на гнутых ножках, секретер на таких же ножках и над ним картины темного колорита в нарядных рамах, отражающие блики из окон. На одной из них, написанной в стиле довоенного реализма, копирующем манеру Калпокаса[10]10
Пятрас Калпокас (1880–1945) – известный литовский художник.
[Закрыть], топырил губы сам Н., в вазе черной глины торчали под ним пасхальные вербы. Домашний алтарь? Подвергающийся на людях насмешкам, Н. берет реванш дома, где безраздельно господствует? Потому и профессор?
Рядом с романтическим пейзажем мерцала крупная фотокопия тициановской «Кающейся Магдалины». Алоизас с интересом рассматривал потрескавшуюся, поблекшую фактуру, мысленно сопоставляя с известной цветной репродукцией. Казалось, кто-то невидимый замышляет посредством этой неожиданной копии разрушить его намерение ни к чему тут не прикасаться. Он оглянулся на хозяйку. Ее пухлое лицо ласкал тот же свет, что и картину. Темные, слегка вьющиеся волосы делали нежным широкий лоб. Сопротивляясь неясному сходству Магдалины и женщины, Алоизас отвернулся к окну. Меж двумя каменными стенами тянулись сучья голых деревьев, тоже как бы подчеркивавших вкус Н., которому тут соответствует все, даже природа за стенами.
– Если угодно, полистайте пока альбомы. Профессор обещал не задерживаться. – Похожая на Магдалину женщина с нежно вьющимися волосами и мягкими линиями фигуры положила на столик стопку альбомов. Клод Моне, Сезанн, Эль Греко, Гойя. О таких репродукциях Алоизас мог только мечтать.
– А тут эстампы художников. – Женщина неловко развязывала огромную папку. От ее полноватых, обнаженных до локтей рук веяло уютом, к эстампам были они не очень привычны – листы выскальзывали, сворачивались. – Думаю, сами лучше меня справитесь.
Алоизас хотел спросить, кем доводится она хозяину дома, но его внимание привлек лист с необыкновенно грациозной и вызывающе белой линией на черном фоне. Фигура человека парила в воздухе, а может, в космосе, а может, в просторах чистой мысли. Несли ее не взмахи птичьих крыльев, не динамика ракеты, а исходящее из самой линии могущество идеи. Алоизас удивился, как смело населяются сферы чистой мысли, в которые сам он стремился, да все никак не получалось. Стасис Красаускас? Этого художника следует запомнить, заметил он себе.
– Я – секретарь профессора, – сказала женщина. – Профессор общается с молодыми художниками.
– Очень интересное собрание, – похвалил Алоизас.
– О да! – Скользнувшая по ее лицу улыбка была не весела, скорее – печальна.
– Им можно гордиться. Особенно этим листом. – Он подержал ладонь над гравюрой Красаускаса, словно опасаясь прикоснуться пальцами к хрупкому сплетению линий.
– Да, да! Я тоже так думаю! – В ее грустном голосе послышалась нотка восхищения.
Из дальнего уголка квартиры донесся металлический стук.
– Там работает другой секретарь. Машинистка, – поспешила объяснить женщина, хотя он не собирался спрашивать.
Два личных секретаря? У бедного коллеги Н., запросто выставленного из института? Из какого, интересно, кармана уважаемый профессор оплачивает этот суперсовременный сервис? Стучит машинка, реальный – реальнее, чем множество других, – звук, сросшийся с Лионгиной. Значит, это мне не снится, решил Алоизас, я сижу в квартире Н. Зачем же тогда его убогий вид, старое пальто? Кто же Н. в действительности – принц или нищий?
В коридоре зазвонил телефон. Женщина тряхнула головой, вздохнула. Когда прошуршали прекрасные волосы Магдалины, Алоизаса охватило еще большее недоумение.
– Интересанты. Спрашивают и спрашивают профессора. Звонки не дают работать, – пожаловалась секретарша, вернувшись.
– Простите, а над чем вы работаете?
– Разбираю, классифицирую собранный материал. Перевожу немецкие и итальянские источники с оригинала. Профессор пишет сразу две книги. Об отголосках европейского Ренессанса в Литве и о роли сатиры в Великой французской революции. Кроме того, веду разные досье.
– Какие досье?
– Разные, в основном – персональные. – Она не пожелала объяснять дальше. – Связанные с общественной деятельностью профессора.
Досье? Его общественной деятельности лучше соответствовали бы какие-то другие формы. Досье?
– У вас, если не ошибаюсь, имеется досье и на товарища Эугениюса Э.? – почему-то понизил голос Алоизас.
– Да. И немалое. – Секретарша опустила глаза, чтобы он не рассмотрел в них своего виноватого, налившегося кровью лица. Больше рассказывать об Эугениюсе Э. она не собиралась.
Алоизас почти благодарно вдохнул воздух, пахнущий паркетным воском и рамами картин. Еще не вполне придя в себя, заподозрил, что его заманили в ловушку. Чуть не рассыпал рассматриваемые листы.
– Зажечь свет?
– Нет, нет, не нужно! – Алоизас замахал руками, цепляясь за сереющий свет дня, за реальность, которая должна была быть если не тут, то за окном, где топорщились голые сучья и молоденькие сосенки лезли на взгорок.
– Вам неспокойно, да? – Женщина улыбнулась, приглашая забыть тревожащие его вопросы. – Профессор ждал вас еще вчера. Сварю кофе.
– Спасибо, не беспокойтесь.
Она не обращала внимания на то, что гость явно собирается сбежать.
– Мне велено занять вас и угостить. Чтобы, не дай бог, не скучали. – Ее блуждающий взгляд, как на нечто неожиданное, наткнулся на вазу с яблоками, стоявшую на буфете. – Кофе не хотите, так, может, – яблок?
– Спасибо. Сейчас – нет.
– Профессор очень ждал вас. Утром, перед уходом, предупредил. Сказал, узнаешь сразу, представительный и благородный человек.
Сумасшедшая, мелькнуло в голове Алоизаса при виде ее расширенных зрачков. Может, Н. – тоже сумасшедший? Может, я и сам тронулся?
Тело вросло в мягкое кресло. Он угодил в западню.
Заставят лаять собакой или мяукать кошкой, а я решу, что так и надо.
– Не могу ждать. Дела. Куча дел, – бормотал Алоизас, продолжая сидеть.
– Не уходите! Профессор рассердится, что я не удержала вас. Будет очень расстроен. Подождите, я вам камин затоплю. Только вот спичек что-то не вижу. – Женщина хлопотала возле камина, ни на полке, ни возле березовых чурок не находя спичек. – Пока отыщу, вас согреет глоток вина.
– Я не пью. Почти не пью. – Алоизас отказывался, она снова не обращала внимания. Открыла одну дверцу буфета, другую, стукаясь костяшками пальцев, вытащила скрипящий ящик. – Не знаю, куда вино подевалось, – плачущим голосом пожаловалась она, не находя бутылки. – Профессор, честное слово, разгневается. С работы выгонит. Что мне тогда делать?
– Ладно, будет! – Алоизас вскочил, выкриком разрывая невидимые оковы. Удивился, что головой едва не касается потолка. – Почему вы называете Н. профессором? Никакой он не профессор.
– Он так велит. – Она вздохнула всей грудью, печально покачала головой и сразу перестала быть таинственной. Запуганная красивая сорокалетняя женщина. – Если бы, говорит, не выгнали из института, давно был бы профессором.
– Кто вы? Почему представились как секретарь? – Голос Алоизаса громыхал, не умещаясь в комнате, в его собственной голове. Надо было разрушить наваждение, которого все еще опасался.
– Он так хочет.
– Кто же вы, простите, на самом-то деле?
– Я его неофициальная половина.
– Неофициальная?
– У меня взрослая дочь. Он ждет, когда она оставит нас.
– Жены у него нет?
– Умерла бедняжка. После облучения.
– А… квартира? – Он хотел сказать – декорация.
– Это все моего брата-холостяка. Он художник.
– Ясно. А машинка? – В один момент рассеялось наваждение, и мебель, и картины показались ненастоящими, но стук машинки, странное дело, не прекращался.
– Это в соседней квартире.
– Последний вопрос! – Алоизасу было жалко чего-то исчезающего и рассеивающегося, как в детстве – купленного Гертрудой и лопнувшего воздушного шарика. – Досье – тоже бутафория?
– Досье – настоящие. Горы материалов. Только, смотрите, никому! – Женщина умоляюще приложила палец к пухлым губам и снова стала частью странного, абсурдного и опасного мира, с которым ему, Алоизасу, не по пути. Ни сегодня, ни завтра – никогда!
Окно искрится, как десятки окон, сверкает и ходит ходуном все строение в стиле модерн, на которое почему-то до сих пор не вешают таблички охраняется государством, хотя того стоят и его балкончики, и карнизы, и выдержавшие несколько бомбардировок кирпичи. Это – не пожар из-за ветхой проводки или воткнутого в мусор окурка, вообще ничего тут не горит, даже не тлеет довоенная, облупившаяся, как березовая кора, обивка дверей. Гудит, трещит и вопит во всю мощь не пламя, а проигрыватель. Он-то и взрывает пережившее несколько войн здание, словно буйствует в нем воинство Вальпургиевой ночи, которое поутру ускачет на огненных конях, чьи следы еще долго будут тлеть в небе, предсказывая всяческие беды.
Обиталище матери взрывается неистовством танца. Не комната – танцзал. Она же тебя предупреждала. Войти и крикнуть, чтобы сник, превратился в пепел огонь! Квартирантка со своими дружками еще больше разойдутся. Стоял бы рядом мой Алоизас…
Мелькнувший силуэт Алоизаса немножко остужает гнев. Что, отделалась от матери-инвалидки? Нет, выбрала Алоизаса. Она отступает от дома, от сумасшедшей музыки. Все – ради его спокойствия. Взвалила ношу и тащи, не жалуйся. Мертвую ношу. Как выдуманное очарование гор.
– Танцы? Потолкалось несколько пар. – Квартирантка не смутилась. Лионгина застала ее утром за уборкой – набивала в сумку пустые бутылки. – Вы не волнуйтесь, а я не буду каяться.
– Это ужасно, я потрясена!
– Давайте договоримся не горячиться, ладно? – После бессонной ночи фарфоровое личико пожелтело – уже не казалось таким юным. – Сами же рассказывали, что мамаша любила в молодые годы погулять. Вот и надумала я повеселить старушку.
– Разумеется, ей было очень весело?
– Не берусь утверждать, что очень, но не скучала.
– Представляю себе.
– Не видя, трудно себе представить. Весело было, как в цирке. Васька Цыган разошелся, все хотел мамашу водкой угостить – влить стакан. Хорошо, гонщик Эдька не позволил. Вот это мужик, одни мускулы! А вино мамаша охотно отхлебывала. – Воспоминания развеселили девицу.
– И все-таки танцев я не потерплю.
– Каждый вечер я и не собираюсь…
– Вы – жестокая!
Квартирантка перестала греметь бутылками.
– Не кричите. Не глухая. Думаете, приятно день и ночь на паралитичку любоваться? Слушать ее бессмысленное кудахтанье? Уж не говорю о том, что невелико удовольствие подтирать ей задницу! Чуете? Сколько дезодоранта изведешь, пока вонь уничтожишь. Потанцевали, пошутили, мамашу развеселили. Гонщик за пьяным сантехником гонялся! Смех. Не скучали, мамаша, правда же?
В материнский угол полетела заговорщицкая улыбка кривого ротика. Будто по велению дрессировщика тяжелая масса заколыхалась, выдавила что-то похожее на смех. Веселья надолго не хватило – застряло, как пила в гнилом дереве.
– Она – тоже человек! Чтобы такое – в первый и последний раз!
– Не собираюсь от скуки помирать. Ладно уж, Ваську Цыгана, скандалиста этого, больше не пущу. Не бойтесь, он не цыган – просто чернявый.
– Я буду заходить чаще.
– Если у вас есть время…
– Есть или нет – буду!
Заходить чаще не удается. Хочется глубоко вдохнуть и ни о чем не думать, не грызть себя, идти, будто ты безымянная, увлеченная потоком времени былинка. Манит улица – длинная конфета в цветной обертке, которой ей так хотелось в детстве. Минутку между работой и лекциями проглатывает какое-нибудь необязательное дело – парикмахерская или кафе. Забившись в уголок, бесцельно глазеет. Не все женщины дежурят около больных или хлопочут дома, создавая уют мужьям. Не все рады мучиться в очередях, таскать сумки с продуктами. Наверное, где-то служат, но и в рабочее время урывают часок, чтобы развлечься. В модно взбитых головках полно небудничных забот: импортные товары, пикники, легкий флирт. Почему легкий? Они не стесняются болтать об удовольствиях и посущественней. Прихлебывают исходящий паром деготь – черный кофе, в стенных зеркалах скрещиваются взгляды конкуренток. Рядом с чашечками поблескивает порой бокал шампанского или рюмочка коньяка – распалившиеся женщины жадно впитывают беззаботное дуновение свободы. Если бы и я могла прыгать, как легко преодолевающая препятствия козочка! Хорошо бы выкинуть из головы не только свои страхи, но и машинку, на которой стучишь до умопомрачения, и сводящую скулы зевоту на лекциях. И что, смогла бы запросто порхать? Тайком от своего мелового лица, от высящихся вдали мертвых гор? Мучаюсь, что кокетство – не для меня? Вбила себе в голову, что должна за всех болеть? Была бы не такой, как все, разве стала бы прислушиваться к беспокойному и непристойному шепоту? Вбила себе с детства, что я другая – дурочка, по родничку стукнутая. Глушила свои желания и чувства, как тюльпаны, которые суют в холодильник, чтобы не распустились слишком рано. Боялась себя и собственной тени, как бы кого не заслонила! Улыбнись, наклони ухо к незнакомке с модной прической, которой в этот момент больше всего нужна собеседница – только что завела любовника! – и станешь своей среди своих. Чего медлишь?
Очухавшись, Лионгина ужасается – кто-то, беззаботно поигравший с ней, наорет и погонит к матери, в глазах которой застыл ее настоящий образ – неблагодарной дочери, отступницы, приближающей конец. Когда бы ни пришла туда с гвоздикой, яблоками или конфетами, ее встречают угрюмые упреки, вернее – суровый приговор. Пока мать спит или прячет глаза под набухшими веками, Лионгину насквозь пронзают стены, потолок, вещи. Особенно невыносима квартирантка: чистота, терпимый воздух, кривая ухмылка опекунши. Зачем тратитесь, выбрасываете деньги на шоколад? Его у нас навалом! За дармовым шоколадом, корицей, миндалем и другими ароматными редкостями к нам соседки ходят. Конечно, не бесплатно, не за ласковое словечко. И торты заказывают, словно кондитерский цех ее собственность, а ведь она ворует! Ну и что? Все-таки… Надо бы с Алоизасом посоветоваться.







