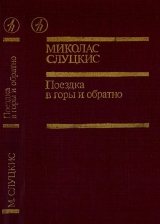
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 40 страниц)
– Запахло королевской кухней! – принюхивается к аппетитным ароматам Пегасик.
– Кое-что и вам перепадет, если и впредь останетесь верным рыцарем.
– Хоть на край света, мать-начальница!
– Зачем на край света, лучше в серединку. Притормозите, пожалуйста, возле автомата. Пора сигнализировать домой, что не похищена. – Лионгина очаровательно улыбается, хотя знает, что в темноте ее улыбка пропадает втуне. Не видно улиц, мостов, домов – одни фонари. То как светлые стежки на темном холсте, то как собранные в кучу раскаленные угли. Взрезающая тьму машина разбрызгивает по сторонам не только грязь и дождь, но и огоньки, которые постоянно перестраиваются, сбиваются в соты, вновь рассыпаются.
Среди черных, расчесанных осенними ветрами деревьев на обочине тротуара торчит покосившийся железный скворечник с выбитыми стеклами. Пегасик чуть не врезался в него от вящего желания лихо остановить.
Липкую и холодную трубку противно прикладывать к уху.
– Ты, котик? – выпевает на телефонном жаргоне. Без этого беззаботного, ласково-доверительного тона Лионгина пропала бы и на работе, и дома.
– Допустим… я, – вяло бурчит мужской голос.
Алоизас не сразу взял трубку. Может, ждал, что трезвон утихнет большинство нарушающих домашнюю тишину звонков – от попавших «не туда». А может, лежал с книгой на животе и незаметно задремал?
– А здесь, допустим, я, – безобидно дразнит Лионгина.
Если удастся втянуть его в игру – это заменит живую радость. Алоизас не собирается подхватывать шутливую пикировку. Под мягкими шлепанцами поскрипывает пол, слышно затрудненное, с присвистом, дыхание, словно дышит не один, а сразу двое. Лионгина так и видит расстегнутую на груди рубашку из толстой фланели. Шурша, трется об нее седоватая шерсть, которой оброс подбородок. Алоизаса тянет к тахте, как медведя к берлоге, уже истосковался по теплу и неподвижности.
– Затянулся просмотр. Так что, котик, скоро не жди!
Он не спрашивает, какой просмотр.
– Бригада на нефтяной гигант в Мажейкяй, ансамбль «Лилии», трио Йонайтиса! – Алоизас молчит, и ее служебная скороговорка обрывается. Лгу, оправдываюсь, а ему безразлично. Нет, не одобряет. Раз и навсегда. Интересно, была бы у него возможность бесконечно дрыхнуть, если бы я не разрывалась за двоих, – сердится она.
– Тебе, кажется, не в новинку.
Его бормотание доносится через добрую минуту. Нащупал мягкое кресло, плюхнулся. Дыхание успокаивается, но все еще кажется, что дышат двое, один – глубоко, другой – верхушками легких. Сейчас уткнется в какой-нибудь журнал.
– Хоть бы притворился, что огорчен, котик.
– Я огорчен. – Голос звучит глухо из-за того, что он полулежит.
– Другой радовался бы свободе! – остается кольнуть, чтобы не уснул.
– Я и радуюсь. Разве нет?
– Так радуешься, что забыл спросить, когда вернусь.
– Вернешься. Куда ты денешься.
– Постараюсь не мешать как можно дольше!
Лионгина берет реванш за его равнодушие, неповоротливость, за не желающую прийти на помощь инертность. И все равно постоянно ощущает Алоизаса – как время, когда останавливаются часы, как подкрадывающуюся сквозь бесконечный туман зиму. Нет, иначе. Эта его инертность, независимая от ее воли, действий и слов, – словно тормоз в быстро несущейся автомашине. Войдя во вкус, умчалась бы невесть куда, если бы не тормоз.
И Лионгину снова охватывает игривое настроение.
– Еще тысяча дел, не волнуйся. Летаю на новенькой «Волге»!
– Так и надо было сразу говорить. Я горжусь тобою.
Она видит бледную, заблудившуюся в его бороде кривоватую усмешку. Похожую на неожиданную находку – старую игрушку или давно потерянную брошь.
– И я – тобою, котик! Не поленись заварить себе чай. В холодильнике, в зеленой мисочке – котлеты.
– Ладно, – не споря, соглашается Алоизас. Слышится шорох – свободная от трубки рука листает журнал.
– Хотя постой, не затрудняйся! Попроси Аницету. Она разогреет. Поешьте оба, не дожидаясь меня.
– Нет ее, твоей… Аницеты. – Голос такой, будто Алоизас старается сохранить дистанцию, не прикоснуться ненароком к постороннему человеку.
– Где же она?
– Откуда я знаю? – И уже с досадой: – Не таскаться же мне за ней.
– Бедный мой котик. Всеми, всеми покинутый! – прыскает в трубку Лионгина, сама не понимая, чему смеется. – Придет она, прибегу я. Пока что посмотри телевизор. Хорошо, котик?
– Подожди, кто-то там топчется у дверей. Может, эта твоя Аницета. – Алоизас беспокойно шевелится – снова шуршит борода и страницы журнала.
– Всего! Не скучайте там, ладно? – отпускает его Лионгина.
Он не сразу положит трубку, долго будет распутывать скрученный длинный провод. Аницета или какая-нибудь другая женщина – неважно. Его раздражает чужой человек в квартире, и это хорошо, очень хорошо, думает Лионгина. Совсем мхом оброс, если бы не приходилось хоть изредка поприличнее одеваться, быстрее управляться в ванной или клозете, улыбаться из вежливости.
Трудно свыкнуться с мыслями о чужой женщине в квартире. Особенно с тем, что она – Аницета. Встретились с ней после десятилетней разлуки, что равнозначно вечности. Обеденное время, на проспекте толпы народа, возле ресторанов и кафе гомонят очереди, а сверху чистое небо и красиво парящие, наполняющие город живительным шуршанием, медные листья. Оторопев от неожиданности, они едва коснулись взглядами друг друга, своих новых, много и одновременно мало что говорящих обликов и разошлись в разные стороны. Вынырнув через минуту, уже разделенные островком толпы, обе спохватились, что не сообразили остановиться. Оглянулись с сожалением, глаза снова встретились. Лионгина вздрогнула, давно не испытывала такого волнения – я что, я с головы до пят другая, но Аницета? Неужели могла так измениться черная, как головешка, дылда, лицо которой всегда безобразил нос? Глаза маленькие, нос длинный, тонкий, не нос – ножик, хлеб резать, а тут интересная, худощавая, знающая себе цену женщина! В тот же день снова мелькнула былая приятельница, шляпка и грим принадлежали Аницете и вроде бы не Аницете – все по последней моде, все как у всех – свидетельство вкуса и возможностей женщины, неустанно следящей за собой. Они вторично разминулись, если встречная действительно была Аницетой, а не кем-то похожим на нее, то черные глаза молча подтвердили, что это она и что готова узнать подругу.
Коллега из московского Гастрольбюро конфиденциально сообщила по телефону, что испанская танцовщица Нуньес весьма средненькая, и все-таки с осаждаемой просителями Лионгины в тот вечер лился пот.
– Вам что? – бросила она из-за окошечка администратора, не вглядываясь, словно там зияла пустота, – научилась так смотреть на жаждущих во время вечерних нашествий, – и наткнулась на лицо, которое, пожалуй, не могло принадлежать длинноносой чернявой Аницете, однако принадлежало именно ей.
– Здравствуй, Лина! Не узнаешь?
– Господи, ты? Нет, нет, это сон! – искренне изумилась Лионгина и застряла в окошке, как в ячее сети. Время застыло, она – во времени. Нет, время бешено скакало, но не вперед – назад. Или еще куда-то, в непонятном направлении. – Чего это я уставилась?
Простонав, Лионгина оторвалась от окошка. Больше нечего было сказать, нечего предложить – разве что билетик на вечер Нуньес? Радость и удивление, что по прошествии десяти лет снова видят друг друга, были сильнее, чем недоверие, которого не могло не быть, после того как беспричинно оборвалась их дружба…
– А ты похорошела! – искренне одобрила Лионгина, захлопнув свое окошечко и выскочив в вестибюль. – Похорошела – не то слово. Неужели ты, Аницета?
– Я, Лина, я! Только называй, пожалуйста, Аней. Аницета – прошлое. Но и ты… Ну прямо артистка!
Они с любопытством и критически осматривали друг друга, полные расположенности, заменившей безрассудную студенческую дружбу. Где-то текла черная река, обе чувствовали ее темную глубину, поэтому не собирались сразу нырять туда.
– Где бросила якорь? Почему раньше не появилась?
– Приезжала и раньше, но… ты, ты! Глава Гастрольбюро. Захочешь ли и глянуть-то в мою сторону?
– Подумаешь, чисто административная работа. Воюю с уборщицами, шоферами, рабочими сцены. Ты, Аницета милая, рассказывай… Ах, прости, Аня! Где, в каких краях свила гнездышко? Выскочила замуж за американского бизнесмена и прилетела из аэропорта Шереметьево?
– Все куда проще и скучнее, Лина. Живу в Шяуляе. Приехала на курсы. На курсы усовершенствования. – Аницета с некоторой иронией подчеркнула слово «усовершенствование», не теряя веселого настроения.
– В Шяуляе? Прекрасно, прекрасно! Говорят, Шяуляй очень похорошел. А дальше? Да рассказывай же!
– Тут, Лина, рассказывать?
На них глазела толпа не доставших билетика на вечер Нуньес. Яркая брюнетка и яркая блондинка, они смотрелись очень эффектно, чувствовали это и смаковали. Если и мелькнуло у кого-то из них, как бледно выглядели бы сейчас рядом с ними силком притащенные былая Лионгина и былая Аницета, то об этом они и не заикнулись.
– Прости, совсем голову потеряла от радости. – Лионгина потянула к себе чемоданчик подруги. – Оставим в гардеробе!
– Мы сюда вернемся?
– Зачем тебе вещи?
– Ночная сорочка, зубная щетка и тому подобное.
– Заскочим в «Нерингу». Оттуда позвоню Алоизасу.
– Не сердись, что спрошу. Все еще живешь с ним?
– Почему бы и нет? – Лионгина рассмеялась от пощекотавшего самолюбия намека, который мог значить и многое, и ничего.

Аницета смотрела внимательно, ожидая, что она еще скажет, и минутное удовлетворение испарилось. Заколыхались черные воды прошлого, черный неуспокоившийся омут. Страшно было, зажмурившись, вновь нырять туда.
– Думаю, как нам добраться. Машина в ремонте.
– Ого!
– Служебная, просто вожу сама. Совсем развалилась, отдала ремонтировать. – Лионгине почему-то захотелось немного разочаровать приятельницу.
– Здорово! Никто за тобой не шпионит, правда? – Такой вариант – без личного шофера – Аницете понравился.
Лионгина пропустила комплимент мимо ушей, хотя была довольна тем впечатлением, которое производила на подругу.
– Поголосуем, ладно?
– Ого! Тебе повинуется даже легковой транспорт столицы! – пошутила Аницета, когда вскоре их подхватил черный лимузин.
Элегантный шофер гордо отстранил протянутые монеты, поэтому был вознагражден очаровательными улыбками и ароматом французских духов.
– Даю голову на отсечение, в машине этого напыщенного филина никогда так вкусно не пахло! Я не чувствую себя в долгу, – хмыкнула Аницета.
Взвизгивая от смеха, как и молодой не хохотала, Лионгина втащила приятельницу в «Нерингу». Пробилась сквозь толпу длинноволосых юнцов. Миновала разинувшего рот старого швейцара.
– Ого-го! Значит, и сильные мира сего перед тобой падают ниц? – удивилась подруга, – уже несколько раз просившая называть себя Аней – не Аницетой. От бывшей Аницеты в ней осталось мало, разве что торчащий, острый нос, но и он не разрушал интересного целого.
Столик в уголке интеллектуалов, горячий кофе, рюмочки с коньяком.
– Как же ты, господи? Откуда? – не могла надивиться Лионгина, хотя моментами уже хотелось выскользнуть из импонирующей, все еще ни к чему не обязывающей игры.
Извинись, сбегай к телефону и вернись с опечаленным лицом. Непорядки за кулисами, напортачили электрики – видишь, какая собачья работа? – давай встретимся завтра, или нет, лучше позвони, вот моя визитка. Она увидела свою изящную надушенную визитную карточку возле Аниной рюмки. Мысленно убрала ее. Игра нравилась, что-то сулила и тянула туда, куда одной скользить страшновато. Краем глаза следила за соседними столиками, ловила тайком бросаемые взгляды. Они были неожиданностью не только для самих себя. Сидя визави, очаровательно подчеркивали достоинства и недостатки друг друга. Последних, кстати, было немного. Чуть длинноватые и сухие руки Ани. Слишком выбеленные волосы Лионгины – перестарались, стремясь угодить, в парикмахерской.
– Я ж говорила. Из Шяуляя. Слыхала о заводе телеузлов? Там работаю. Не на конвейере, разумеется. Главным экономистом.
– Ты, Аня, кончила институт? – неосторожно спросила Лионгина. Аницета сбежала, не кончив. Сверкнула и беззвучно нахлынула черкая вода.
– Разве диплом – самое главное для женщины? – ловко ушла от вопроса Аня.
– Что же тогда самое главное, скажи!
– Могла бы ответить, как пишут в «Советской женщине». Любовь, семья, чуткость, нежность и так далее. Отвечаю коротко и ясно: удача!
– За твою удачу, Аня!
– За твою!
Чокаясь и выпивая – Аня отхлебывала больше, – смакуя сигарету, они так и ели друг друга глазами. Что изменилось за десять лет в Анином лице, Лионгина еще не поняла. Грим, да, грим, но ведь других женщин грим превращает в кукол, во фрагменты оштукатуренной стены. Анино лицо, даже с большим носом, отбрасывающим тень, когда она поворачивает голову, выглядывает словно из старинной рамы – с таким вкусом пострижены и уложены черные волосы. Вместе с тем чертики в глазах не перестают убеждать: длинный нос и маленькие глазки – не главные детали портрета. Тем более что разрез глаз с помощью косметики умело увеличен, а острый нос торчит загадочно, как у француженки или итальянки. За ними – за этими яркими чертами лица, могущими одних восхитить, а других оттолкнуть, – скрывается нечто непонятное, трудно объяснимое, и губы Ани, сложенные наподобие бутона, все время вздрагивают, чтобы не раскрыться широко и не выдать хозяйку. Поэтому создается впечатление, что она иронизирует над попытками сразу раскусить ее.
– Знаешь, что я заподозрила? – призналась Лионгина, когда коньяк ударил в голову. – Что ты надо мной смеешься.
– Многие так говорят. Но ты, Лина… Я просто обмерла, увидев тебя! И, еще не узнав, подумала: вот идеал женщины! Не осуждаешь меня? Все кажется – осуждаешь.
– Ты смеешься, не смеясь, я осуждаю, когда не думаю осуждать. Какие мы, Аня?
– Судя по стрелам бородачей, кое-чего стоим! – Аня игриво улыбнулась.
Было неспокойно и странно приятно ходить на цыпочках над пропастью откровенности.
– Где думаешь приткнуть свой чемоданчик?
– Есть общежитие.
– Будешь куковать в общежитии? Могу легко устроить тебе гостиницу.
– Ого-го! Я не наследница сокровищ Онассиса.
– Слушай, может, поживешь у нас?
– А твой дворянин? Не встанет на дыбы?
– Правда, ты называла его дворянином. Как давно это было, Аня!
– Не помешаю твоему ученому? Хорошенько подумай.
– Ему никто не помешает.
– Недовольна им?
– Почему? Довольна. Мы прекрасно ладим, правда, Алоизас немножко… Как бы это сказать? Ну, раздражителен, что ли.
– Прости, ему уже стукнуло полсотни?
– Сорок восемь.
– Тогда ясно – нелегко, когда жена молодая и деятельная.
– Не думай обо мне так. – И Лионгина вздохнула, отбрасывая в сторону более тяжкие грехи. – Поехали к нам? Увидишь, как мы устроились. Сдается, не так уж плохо.
– К общежитиям мне не привыкать стать, а вам будет хлопотно. Смотри, чтобы потом не пожалела.
Из-под черной челки глянула совсем незнакомая Аня, непроницаемая ее жизнь. Уютно вздрогнул бутон губ, и чужую женщину вновь заслонила подруга юных дней, полная добрых воспоминаний.
По дороге домой Лионгина усомнилась в своем скоропалительном решении. Увидишь, как мы устроились. Сдается, не так уж плохо. Постаралась убедить себя, что ни к чему другому не стремится – покажет три просторные, оклеенные обоями комнаты, облицованную цветной плиткой ванную, финскую мебель в гостиной и чешскую люстру. Показать хотелось – разве мало усилий затрачено на ковры, дорогую посуду и прочее, без чего уважающий себя человек сегодня не уважаем другими? – однако настораживало ощущение, что все происходит не по ее, Лионгины, желанию, а подталкивается чьей-то безжалостной рукой. Кто-то – вероятно, своевольный баловень – время! – ткнулся в затылок стальным коготком и, больно царапая, убеждал, что она поступает правильно, заглушал возражающий голос разума, без которого полчаса назад Лионгина и шагу не ступила бы. Потерянной казалась и Аня, в тесноте троллейбуса ее шарм несколько поблек.
Пегасик сопит, навалившись на руль, – не успевает открыть дверцу.
– Куда теперь, мать-начальница? – Его глазки испуганно моргают – чуть не проспал свое счастье.
Готов облететь весь земной шар, только бы включила в гастрольную бригаду. Еще не заслужил, посмотрим. Она закрывает глаза, откидывает назад отяжелевшую голову. Небо вросло в землю, ничто не движется, не едет, только огни фонарей больно чиркают по зажмуренным векам.
– Никуда! – Ответ неожидан для нее самой.
– Чем не угодил? От всей души, мать-начальница. Куда угодно и когда угодно. Только свистните!
– Хорошо, свистну. А теперь…
Домой, куда же еще. Давно пора домой. Машина везет и убаюкивает не ее – ее усталость. А вдруг они подумают, что шпионю? Велела не ждать, ужинать, ворковать, и вот вам – прискакала… Нет, милые. Любезничайте себе на здоровье. Алоизасу полезно подвигаться. Располнел, еле дышит.
– … в «Хронику»! «Земляничная поляна» Бергмана, если не ошибаюсь. Хочу еще разок посмотреть.
– И я!
– Вы? Почему вы? – Голос у нее злой.
– Хотел и я… еще разок.
– Тогда не надо, нет.
– Пошутил я, мать-начальница.
– И не ждите меня. Курсируют троллейбусы.
Пять спин возле кассы и пять минут до начала. Успею! Забыться в темноте, тебя нет, не ты сдерживаешь дыханием или вздыхаешь – кто-то другой, проще и лучше тебя, хотя у него сотня глаз, сердец и ног, которые начинают ожесточенно топать, если пропадает звук. Тащила своего чурбана – не вытащила. Не выносит давки, духоты. На самом деле боится расслабиться, дышать вместе с растворившимися в темноте безликими людьми. Что, и в кино уже никогда вместе не сходим, как нормальные люди? И мне с тобой – в барсучью нору? Не полезу! Она слышит свой голос, громко требующий у кассирши билет. Через полтора часа ринусь домой. Буду благодарить в душе землю и небеса, что есть у меня дом. Какой-никакой, а дом… нора.
Когда Лионгина, с головной болью, пошатываясь, вываливается во влажную темноту – на экране все время шел дождь, старая, затрепанная копия! – к тротуару льнет «Волга». Со щелчком распахивается дверца, высовывается взъерошенная, дремавшая на руле голова Пегасика.
– Садитесь, мать-начальница. Я подумал… Небезопасно, нагрузившись дефицитом.
– Каким дефицитом?
– Пакет дайте. В руках держите, ха-ха.
Она разжимает пальцы и падает в теплую мглу, не заботясь о смятой пелерине, потной шее.
Милый Пегасик. Милый? Как бы ни было, но в такой час лучше ехать, чем топать ногами, трезво думает она, стряхивая охватившее ее в кино освежающее и одновременно отупляющее настроение. Ничего не поделаешь, придется посылать Пегасика в Мажейкяй, хотя строители нефтяного гиганта достойны лучшего вокала. А дефицита и Бергман не выбил из рук. Там-тарарам, тарарам-там-там, как напевал Алоизас.
– Ужин на столе! По приказанию Лионгины и вашему повелению, милый Алоизас!
Я – не милый. Не домашняя собачка или кошечка, которую гоняют из угла в угол. Как раз теперь, к примеру, я мыслю. Тела существуют вне сознания, то есть они не сознание (mind), но от него отличаются. Тем самым я принимаю, что сознание в свою очередь отличается от них. Беркли так все запутал, что до сих пор не удается распутать.
В действительности Алоизас очень давно не читал Беркли. Лежал, уткнувшись в книжонку фантастических приключений, автор которой тужился представить себя философом. Аня прервала не вовремя – главный герой бежал из космической тюрьмы, захватив с собой в портативную фотонную ракету дочь начальника тюрьмы, почитателя философа провинциальной планеты Земля Беркли. Дочь была златовласой. Ее из особого сплава золотистые волосы звенели на космическом ветру.
– Милый, милый Алоизас! Слышите, что я вам пою?
Ох, уж эта гостья, эта Аня… Черная каркающая ворона – нет, куда более шумная, чем ворона! – если сравнить со златовласой Берклианой, та выражает мысли не словами, а взглядом и золотым звоном. И звенят ее волосы не просто так, они – чуткие антенны.
– Слышу, как не слышать. – Алоизас засовывает свою книжонку под том энциклопедии.
Аня величественно вступает в кабинет. Такое явление уместнее было бы для сцены или парадного зала, простая комната снижает торжественность картины. Она не в халатике, как обычно, а в вечернем, отдающем провинциальностью, абсолютно черном платье. В глубоком вырезе не бог весть сколько найдешь – грудь у Ани плосковатая, – однако антрацитная чернота платья подчеркивает белизну кожи. Алоизас, хотя и не смотрит, видит длинную белую шею, на которой пульсирует нежная жилка. Плечи у нее костлявые, но шея гладкая, грациозно поднимающая и откидывающая назад голову.
– У вас праздник, Аня? День рождения, именины?
– Мне было велено разогреть вам котлеты. Разве не прекрасный повод? – Она берет верную ноту, и торжественный наряд больше не стесняет.
Она не приближается, но и убираться не думает, а Алоизас конфузливо ежится на тахте. Фланелевая рубашка, пузырящиеся на коленях спортивные штаны – просто мешок мякины по сравнению с ее сверкающим, вызывающим обликом.
– Не поздно ли наряжаться в десять часов вечера?
– Перед нами вечность, если настроиться философски. По мне, можете не наряжаться. Только, боюсь не понравитесь Лионгине.
– Гм, гм, – хмыкает он, тщетно озираясь в поисках причины, которая дала бы ему возможность не переодеваться. – Сколько у меня есть времени?
– Пять минут! Ведь бриться не надо. Борода вам очень к лицу. Не говорила еще? Бородатый вы похожи – угадайте, на кого! – на викинга.
Покорнейше благодарю. Кровопийцы, разбойники, насильники — вот кем были эти ваши хваленые викинги. Выманила, как барсука из норы, а теперь будет подлизываться. Алоизас с сожалением оглядывает свою тахту, заваленную книгами и журналами. Голубеет включенный телевизор – иногда смотрит на дикое прыганье, именуемое танцами, слушает вопли в микрофон, именуемые современными песнями. Как саркофаг, мрачно громоздится письменный стол, на него лучше не смотреть.
Открывает стенной шкаф. В квартире только стенные – каприз Лионгины. В старой хватало одного, четырехстворчатого. Так уютно веяло из него ландышем. Мало того, внутри на дверцах сверкают зеркала. В родительском доме зеркало было предметом гордости, висело в красном углу. А тут чирикают, как бритвы, раздевают догола. Сквозь редкие волосы просвечивает череп. Серо-седые клочья бороды не скрывают морщинистых щек, дряблой шеи. Старик, настоящий старик! С неприязнью к самому себе стаскивает Алоизас фланелевую рубашку, снимает с плечиков наглаженную выходную: 60 процентов хлопка, 40 процентов полиэстера. И хомут надевать? Не с Аней же советоваться, поэтому, ворча, накидывает петлю галстука.
В гостиной слишком торжественно, будто вступил в большой, ожидающий гостей зал, где следует быть изящным, вести любезные беседы. Гордость Лионгины – чешская люстра – сверкает, словно Лионгина тут ни при чем, ярче, чем в другие вечера. Низенький столик выдвинут с обычного места на середину комнаты, покрыт кружевной скатертью и уставлен сервизными тарелочками. Из терракотовой вазы свисают пышные желтые хризантемы, тоже Лионгина позаботилась – она часто возвращается домой с цветами, можно подумать, что в оранжерее работает! – однако вновь кажется, что все создали худые и проворные Анины руки.
Вчерашних котлет не узнать – разрезаны, поджарены, присыпаны листиками петрушки. Сервизная масленка, вазочка с красной икрой, а в самом центре стола бутылка венгерской «Бычьей крови».
– Не коситесь на икру и вино. Мой скромный вклад. Подарок одного поклонника.
– Настоящий пир. – Алоизас растерян, хотя он в собственном доме, при галстуке и в праздничном пиджаке.
– Не хватает свечей, – прочувствованно произносит Аня, довольная своей деятельностью. – Нашла их, а подсвечников нет. Видела у одной художницы. Серебряные, старинные, тяжелые! Ничего не пожалею – приобрету два таких же. Разве вас огорчает, Алоизас, что я стараюсь угодить вашему эстетическому вкусу?
– Не огорчает, но и не радует.
– Надо, чтобы радовало. Заставьте себя радоваться.
– Заставить?
– Конечно! Потому что жизнь короткая и свинская! На каждом шагу норовит обидеть человека. Не поверите, Алоизас, однажды чуть с собой не покончила. Сегодня сама смеюсь, но тогда… Кинулась к воде. Мечусь, как безумная, а вокруг травка шелестит, цветы распускаются, птицы гомонят. Вода сомкнется надо мной, не поинтересовавшись, кто я такая, почему такая. Какого черта, сказала я себе! Если все бессмысленно, то и моя жертва – тоже бессмысленна?
– Вы философ, Аня. Я и не знал.
– Единственный мой тезис.
– Значит, никаких границ, никаких внутренних тормозов?
– Не собираюсь похищать солнце, как говорят литераторы. Жить, Алоизас, жить! Позвольте мне жить, как я хочу, и пальчиком вас не трону. – Она поводила кроваво-красным ногтем мизинца.
– А другие не хотят жить?
– Пожалуйста!
– Вы не поняли меня. Скажем, я и вы, и еще кое-кто… ухватим один и тот же кусок?
Аня задумчиво коснулась своей упругой шеи.
– Что ж, побеждает сильнейший. Разве в природе по-другому?
– В пещерах первобытных людей, хотели вы сказать?
– Люди со времен Адама не изменились, просто мудрецы вроде вас внушили им, что они изменились, – поэтому сначала поплачут, а потом замахиваются, чтобы ударить своего ближнего. Ударят и снова – ах, ах! Человека, видите ли, совесть мучает. Плачет и когда его бьют, и когда сам бьет – вот результат вашего милосердия.
– Простите, я категорически с вами не согласен! – Алоизас откинулся на спинку стула, чтобы быть подальше от крашеного, сыплющего наглые непристойности рта, от длинной, гибкой, казалось, в такт словам извивающейся шеи. – Было бы очень печально не иметь альтернативы.
– Ах так! Наблюдать со стороны, как молотят друг друга правые и неправые, сильные и слабые?
– Просто не творить свинств!
Алоизас выпалил и спохватился, что выполз на открытое пространство, где не вполне безопасно. Вокруг понатыканы непонятные символы, спросят, что они означают, а он и не знает. Что такое – свинство? Что – не свинство? Прав был Игнас Губертавичюс, когда влепил юной Гертруде символическую пощечину. Символ соответствовал своему содержанию, назначению. А когда был прав я? Лионгина? Мы были правы и не правы сотни раз. Понавешали множество всяческих знаков, заблудились среди них и уже не находим выхода. Встретившись со свинством, вежливо раскланиваемся и отводим глаза.
– Меня устроила бы котлета без философского соуса, – проворчал он, отворачиваясь от Ани. Его хитро выманили на мерцающий, гудящий простор, где он бессилен. Сбежать! Как-нибудь сбежать!
– Ах, Алоизас, не портите вечер, ладно? Я нарядилась, не пожалела духов, которые стоили ползарплаты. Единственная моя ошибка, что, желая вам понравиться, красиво поговорила. Хотите, прокручу ленту назад, и мои минусы превратятся в плюсы. Нет? Тогда похвалите как хозяйку: холодные котлеты превратились в изысканное блюдо. Взгляните и убедитесь!
Черт побери, зачем она выставляет свою длинную шею, сыпля банальности? Алоизас заставляет себя уткнуться в тарелку.
– Я знаю, чего не хватает для хорошего настроения. Музыки! – Аня хлопает костлявыми ладонями, звук неприятный, словно треснула сухая ветка. – Видела, есть у вас Прокофьев. Очень люблю Прокофьева!
Алоизас растерянно наблюдает, как большие руки ставят пластинку. Стереозвуки окутывают, пронизывают окружающее пространство, то раздвигают, то стискивают его. Кто ей сказал, что меня от Прокофьева бросает в дрожь? Каждый его такт, даже самый легкий, соприкасается с тем, что за дверью, за линией горизонта. Что-то должно случиться, шепчут скрипки, неумолимо надвигается страшная неизбежность, оповещают тромбоны. Барабанов можно не слушать, все пройдет без грохота – судьба подкралась на цыпочках.
Аня, испугавшись грома ударных, бросается приглушить. С музыкой она обращается, как с тарелками, которые переставляет с места на место. Лионгина музыку чувствует, хотя слушать ее отказывается. Музыка, говорит, из ушей капает, ха-ха! Где она, Лионгина? Кто посмел хихикать? Не о ней ли шепчут скрипки, оповещают тромбоны, готовые оплакать чью-то гибель? Целую вечность нет Лионгины. Давно должна быть дома. Если бы не белая длинная шея Ани – колышащаяся, как удав! – не волновало бы так отсутствие Лионгины. Незачем волноваться. Возят ее в новенькой «Волге». Куда возят? Кто? Почему? Может, села, не поинтересовавшись, чья это «Волга»?
Подстегивая его беспокойство, по улице приближается свист машины. Не машина, а сплав металла и скорости. Вот-вот взревет под окнами, и посыплются тремоло ее каблучков. О, я попала на бал? Автомобиль проносится с невообразимой быстротой, давит и расшвыривает звенящую в голове фальшивую фразу. Не останавливается. Пронзительный визг. Ее? Алоизас бросается к окну и, откинув гардину, вонзается взглядом во тьму. Рядом с мужской головой – головка женщины. Бьется о стекло. От напряженного вглядывания, от тактов Прокофьева, приближающих падение занавеса, в глазах – зигзаги молний. Ее пелерина! Там она, там! Куда ее везут?! Словно от взрыва, рассеивается, разбрызгивается лед пространства. Алоизас набирает в легкие воздух, в один прыжок минует коридор, другим преодолевает каскад ступеней.
Темно и мокро на улице. Жуткий час, когда ни стены домов, ни мокрый асфальт и голые деревья, ни все отчужденное от тебя, спокойно ужинающее человечество ничем не в состоянии помочь. Когда-то он уже выскакивал на улицу при подобных обстоятельствах. Теперь стал хитрее. Нет безвыходных положений, теперь он ко всему готов. Как маленький метеор, накатывается поджарый «жигуленок». Алоизас, растопырив руки, выскакивает на середину мостовой. Пронзительно визжат прекрасно отрегулированные тормоза.
– За «Волгой»! Не упускайте из виду!
– Дорого будет стоить, шеф, – скалит зубы рыжий парень в кожаной куртке.
Алоизас выхватывает из бумажника четвертную, бросает парню.
– Йес, шеф! Не волнуйтесь, мы их и в аду настигнем. В случае надобности крылья выпущу. Видели фильмы о Фантомасе?
– Получил свое и заткнись, – сквозь стиснутые зубы цедит Алоизас.
Какое-то время ничего не слышно – только бешеный свист раздираемого воздуха. И не видно ничего, кроме летящего впереди света. Два упругих световых кома рвутся вперед, то сливаясь, то разъединяясь. «Волга» выжимает бешеную скорость и на склоне повисает в воздухе. Прыгает и парит следом их метеор.
– Шеф, они кинулись в горы! – визжит рыжий. – Я не могу с такой скоростью по этому серпантину! Боюсь…
Серпантин между Вильнюсом и Неменчине? Может, сгрудились сгустки тьмы, может, черные сосняки на холмах? Или придавившие землю тучи?
Алоизас швыряет водителю еще одну четвертную.
– Теперь порядочек, теперь самому черту хвост прищемим! – сливается с ревом мотора алчное дыхание рыжего парня. – Впереди разобранный мост. Они прозевали знак!







