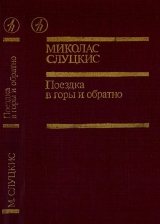
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Алоизас – вот кто удерживает руку Лионгины, поднявшуюся было, чтобы изящно подозвать официанта, обносящего рюмками. Ради покоя мужа мнет она свое бессовестное желание свободы до тех пор, пока оно не уменьшается до макового зернышка. Как там выпутается Алоизас из этой дурацкой истории с экзаменами, отвратительно обрастающей всякой всячиной? Кое-что рассказала коллега Алоизаса Ч. – встретилась ей на улице. Вместо того чтобы глянуть сквозь пальцы на студенческие проделки, он сцепился с кафедрой, деканатом, со всем миром. Обломается, станет сговорчивее. Нет, не для него постепенно гнуться, – всякий раз дает трещину…

Встретив в другом месте, Лионгина и не узнала бы такую нарядную. Серебристая лиса на курточке, черная, посаженная набекрень шляпка, импортные, облегающие икры черные сапоги. Вместе с возгласом удивления – ах, это вы? – скривился ротик и прокусил дырку в пленившей Лионгину оболочке элегантности и молодости. Под шляпкой таяли эфемерные черты незнакомки и проступало жесткое, готовое встретить любую бурю лицо квартирантки.
– Сто лет жить будете – не узнала! – От неожиданности голос Лионгины дрогнул.
– Идет? – Элегантной перчаткой квартирантка взбила лисий мех.
Старинной декорацией вставал за спиной фронтон в стиле модерн: балкончики, дуги, карнизы. В высоком и узком, ничем не отличающемся от других, но мучительно с детства врезавшемся в память окне мелькнула тень. Мать? Подползла, с грехом пополам поднялась и прильнула к окну? Безумные, безумные мысли.
– Что вы туда смотрите? Кошка спрыгнула с подоконника.
– Кошка?
– Жила в кладовке. Ну, переселила бедняжку в комнату.
– Мать… ничего не сказала? Не любит она кошек.
– Разве мы с вами все любим? – Девушка снисходительно усмехнулась. – Такова жизнь – приноравливаемся.
– Да ладно, кошка – ваша. – Лионгина собрала все силы, чтобы устоять против наглого ротика. – А шляпка-то, мне кажется, мамина.
– Разве я говорю, что нет?
– Сама дала?
– Соврать нетрудно, только я привыкла говорить правду. Понравилось, освежила и напялила. Что, не подходит? Сами же сказали.
– Мама меня по рукам била за эту шляпку. Никому свою одежду и трогать не позволяла.
– Не знала, что она такая важная. – Девица презрительно поморщилась. – Когда массирую спину, вроде бы терпит.
– Нет, вам этого не понять. – Лионгина отрезала бы злее, если бы не тяжелое чувство вины. Заранее знала, что наносит матери смертельный удар, когда отдавала ее в чужие руки. Волевой жест – извольте познакомиться, квартирантка! – и страданиям конец, так сотни раз говорила себе, пока не решилась, но не сердцем говорила, губами. Теперь мать живьем режут на части, хотя нет больше тяжкого зловония и не приходится отдирать его от пола, со стен, с рук. – Ни за что не понять. Любимая одежда, ее украшения – для безнадежно больной…
– Я достаточно сообразительна, но что с того? Моль все источит.
– Пусть моль. А вы не трогайте, хорошо?
– Должна пообещать письменно?
– Послушайте, я вам запрещаю! И шляпку, и лису… – Лионгина крепко прижала к бедру сумочку, чтобы не замахнуться ею. Еще никогда не испытывала такой жажды исхлестать живое существо своими слабыми руками.
– Драную лису пожалели, – покорно пробормотала квартирантка. – Может, съехать? Общежитие обещают. Есть кухонька и уборная.
– Никто вас не гонит. – Лионгина взглянула на дом, ее подавила тишина. Ни одна дверь не скрипела, не кричали дети. Станет еще унылее, если съедет обиженная кондитерша. Может, в самом деле не хвалится и не шантажирует? – Поймите, друг мой, есть вещи, которых женщины… Даже такие немолодые и больные, как мама… Например, эта лиса…
– Ладно, договорились, – уступила квартирантка – миролюбивая улыбка Лионгины скользнула, не задев ее. – Вещи и украшения вашей матери буду брать, когда по ее делам хожу, в магазин там или в аптеку. Постараюсь быть хорошей, примерной девушкой.
– Вы и теперь примерная. – Лионгине был противен собственный слащавый голос. – Немножко чувства к несчастному человеку…
– Ха-ха, чувства!..
Зацокали каблучки. Удаляясь и тая в синеве вечера, наглая девица вновь превращалась в очаровательное таинственное существо. Лионгина не шелохнулась, мрак отвердевал в камень, сдавливал виски. Догнать? Броситься к матери? Над головой скрипнула ветка, роняя ледяные капли. В огромной опустевшей комнате, наверно, так же скрипят распахнутые дверцы шкафа. Словно ржавой пилой скребут по сердцу матери. Сберегла лису от моли, от конфискации после ареста отца. Лису подарил он, но не тогда, когда был директором и мог швыряться дорогими вещами…
Теплушка набита, как бочка – сельдью, кошмар – не вагон. Душит жар от раскаленной железной крыши, от потных тел, нестираных носков, узлов, постелей, а главное – от дыры в углу – общественной уборной вагона. Все закутаны кто во что, в основном – одежка на одежке, словно за дощатыми стенами уже трещит мороз, только они с матерью – с бабушкой Пруденцией – полуодетые. Ведь самый разгар лета, у них зонтики от солнца и сумочки, если не считать чемодана с нижним бельем и летними платьями. Бабушка немногим практичнее своей дочери, прихватила шубу, подбитую хорьком, но мужскую. Только то и осталось от трех каменных домов, не бабушкиными были эти дома – ее третьего мужа, нотариуса польских времен, однако кто поверит, что она – лишь бывшая его служанка, если нотариус под мраморной плитой, а хозяйка скользит по паркетам? Резко завизжал железный засов, скоро поезд загромыхает к белым или бурым медведям, из-за масти этих медведей в вагоне яростно спорили, изливая безнадежность и злобу, одни утверждали – заревут, встречая их, белые, другие – бурые. Д этим двум все равно, отправляются к белым или бурым в чем стоят, с пестрыми зонтиками и в шелковых чулочках, такие обе легонькие, красивые, бабушка-то еще хороша собой – недаром мужчины из-за нее теряли головы, а дряхлый нотариус не пожалел полквартала старых, полных мышей домов. Что увезут их невесть куда, что страшно душно и не дают пить – еще полбеды. Главное – ни тебе причесаться прилично перед зеркалом, ни в картишки перекинуться, а тут еще напротив пялится с горы узлов закутанная в шубу мымра, тычет обвитым четками пальцем в молодую – прямо в вырез платья метит черным своим ногтем – и шипит: погоди, нарадуешься своим белым сугробам, когда железный мороз досиня изжарит, высыплет язвами на беспутном теле, из-за таких шлюх и катим на край света – за их грехи небо с нас взыскивает!.. Жует, выудив из мешка копченую колбасу, сальными губами славит господа, постукивая четками, словно счетами, и снова, придвинувшись, колет черным ногтем в грудь младшей – ты, ты, развратница, грех содомский, хоть носовым бы платком прикрылась! У мымры этой было большое хозяйство – всем успела надоесть своими полями, лугами да молочными коровами, – муж бросил ее перед самым крахом, перед этим безбожным красным расцветом улиц и площадей, сошелся с батрачкой и перебрался в лачугу на самый край волости. Его не тронули, пошел работать в кузницу простым молотобойцем, а ее ночью выгнали с узлами… Все можно вынести, думала молодая с зонтиком и в шелковых чулках, ведь и там живут люди – не одни медведи, – отыщется местечко где-нибудь в столовой или больнице, если не в парикмахерской, но нестерпимы этот вызывающий слюну запах домашней колбасы, это ханжеское бормотание – прикройся, бесстыжая, грех содомский, чего не прикроешься! – эта пика почерневшего ногтя, которая вонзается прямо под ребро. Никак не удавалось отделаться от злобной бабы, лишь Пруденция видела муки дочери, другие, собственными бедами занятые, не слушали – кто латал порванную одежду, кто плакал или тихонько напевал. Попыталась задобрить ведьму, предложила городских конфеток – та только зашипела! Тут взбеленилась Пруденция: сложила кукиш, нагло сунула его под нос старухе, с большим удовольствием и голую бы задницу показала, да не разденешься в такой давке – лихой была бабушка Пруденция! Мымра закрестилась, словно дьявола увидела, и ткнула свинцовым крестиком бабушке в нос. Кровь, проклятия, кто хохотать, кто стравливать, только цирка и не хватало в тот страшный день, другие бросились разнимать, стыдить смеющихся, тут загрохотали в стену ружейным прикладом. До сего времени молодая еще крепилась, хотя и была печальна, мысленно посмеиваясь над своим багажом – зонтик, летние платья! – а тут ее прорвало от струйки крови на подбородке у матери, от стука в стену – разрыдалась. Все, казалось ей, прощай, жизнь, прощай, молодость не распустившаяся, стоит ли на что-то надеяться, если все так мерзко? Не только эта ханжа, но И мать с распухшей губой показалась ей отвратительной – улучит момент, сиганет под колеса… Не успела додумать до конца эту горькую мысль, как заскрипел засов. В вагон хлынули небо, желтое солнце, черный пакгауз и клубы верного дыма из паровоза на соседнем пути. И повелительный молодой голос, как гром, возвещающий ясную погоду:
– А ну, кто здесь гражданка Ричкаускайте Лигия? Выходи!
– Как это выходи? За что? – завизжала молодая, будто кошка, которой отдавили хвост, не понимая, почему ее снова обижают, ведь она-то и была этой гражданкой Ричкаускайте Лиги ей, хотя все, кто знал ее, называли Лялей, Лялькой. – Что я вам сделала? Это же она, старая ведьма, мою маму избила! Ее и хватайте! – визжит и указывает на женщину в шубе, которая трясет и трясет своими четками, беззвучно шевеля посиневшими губами.
– Дура ты, велят – иди. Потом поздно будет! – ткнула молодую в бок незнакомая женщина, пожалев глупую девчонку. Бабушка Пруденция быстрее дочери учуяла свободу – подхватила пожитки и стала пробиваться к выходу, дочь – следом. Едва ли пролезли бы они, когда бы не помощь услужливой бабы, толкавшей их сзади. – Будь добра, возьми и моего кота, пропадет он тут! – И, не ожидая согласия Лигии, сунула ей своего полосатого.
Так и спрыгнула на перрон с мяукающим котом, тот царапается, она не пускает. Стоят с матерью ни живы ни мертвы, всего боятся – даже местечко в вагоне потерять – и вдруг видят: с почерневшим, обливающимся потом лицом бежит к ним отец Лионгины. Лионгины? Не было еще никакой Лионгины. И никто не знал, отцом или отчимом, когда она издаст свой первый крик в этом мире, будет ей этот малознакомый, заходивший в парикмахерскую, где работала Лигия, мужчина. Все норовил в ее кресло сесть. В парикмахерши дочь толкнула Пруденция, дескать, от кого теперь не пахнет трудом, от того скоро, фу-фу, плохо запахнет. К Лигии Ричкаускайте, хоть и не была она лучшим мастером, почему-то всегда выстраивалась очередь. Бывало, пощелкивает она ножницами, а мужчина, много старше, солидный, глаз с нее не спускает. Стоит как вкопанный, время от времени переминаясь с ноги на ногу, большие руки шапку теребят – рабочий, у кого еще такие коряги? Лялька, смотри, твой! – кричит подружка, издеваясь над ним, а ему хоть бы хны – уставился на ножницы Лигии, словно это залетевшая в салон ласточка, а не ножницы золингеновской стали. Казалось, шагнет вперед, пусть и не его очередь, распахнет окно и выпустит ласточку, которой тут не место, а потом и сам улетит. Ричкаускайте Лигия, или Лялька, им не интересовалась, хотя тогда, в первый советский год, у таких простачков была сила и власть. Больше всего интересовали ее переехавшие из Каунаса студенты в цветных шапочках – конфетами угостят, веселый анекдотик расскажут. Даже злилась, чего этот зануда привязался, – заставляет его ждать дольше всех, а потом обкорнает, как пень, или хохол на макушке оставит, как у казака в ее любимой книжечке «Тарас Бульба». А он хоть бы словцо против – делай с ним, что хочешь. В шутку предложила ему отращивать усы, через неделю явился в усах. Эти-то усы и были мокры от пота, когда женщины увидели его бегущим с почерневшим лицом. Черный, будто землю грыз, дрожит весь, а в руках прыгает казенная бумага. Таким Лигия и Пруденция увидели будущего отца Лионгины.
– Твое счастье, что успел, парень! – соизволил пошутить старший из охраны. – Ягодка – вполне понятно, но зачем тебе теща?
– И теща, и невеста, и кот! – Будущий отец Лионгины схватил свою судьбу в охапку вместе с котом, которого Лигия не выпускала из рук, и понес к машине с невыключенным мотором.
– Никак заводиться не хотела. Хлам, – бурчал он, пиная ногой покрышки. Не производили впечатление надежных и они.
Невеста? Этот мужлан смеет называть ее невестой? Слезы полились ручьем – было отчего поплакать в то утро Лигии Ричкаускайте, или Ляльке, которой через несколько дней должно было стукнуть девятнадцать. Чтобы перестала реветь, спаситель бросил ей на колени прекрасную чернобурку.
– Не конфискованная, не бойся – купил на днях на барахолке за всю зарплату, – гордо сказал он, опечаленный, что у красавицы не высыхают слезы.
Зарплату, скорее всего, получал немалую, потому что был комиссаром или заместителем комиссара на большом заводе. Их это не больно интересовало, гораздо важнее, что без них укатил страшный поезд, дырка, зияющая в углу теплушки, невыносимая жара, вонь и старуха ведьма.
Кот терся около ног, хотя мог удрать куда угодно. Будущая мама Лионгины – без нескольких дней девятнадцатилетняя – поглаживала черно-бурый мех все более медленными и нежными движениями.
В перерытый, поставленный вверх ногами дом нотариуса возвращаться было неразумно. Это поняли даже женщины. Сначала остановились на улице со странным названием. По обе стороны чистой, видимо, ранним утром подметенной мостовой стояли красивые двухэтажные особняки, дощечка на углу сообщала, что это Аллея Роз. В палисадниках и на самом деле цвели розы, распространяя живительный аромат остывающего чая. В двухэтажном коттедже – ни единой живой души. Раскрытые шкафы из орехового дерева со скрипящими дверцами, буфет с осколками стекол, побитые хрустальные люстры, затоптанные ковры… Даже холодильник белел в сумраке коридора. Покойный нотариус был настоящим плебеем по сравнению с хозяевами коттеджа. Однако – ни присесть, ни лечь – на кожаных креслах и диване толстый слой пыли. Пыль покрыла и зеркала, и полированную мебель, и эмаль ванны. Но и сквозь слой пыли ощущалась роскошь. Будущий папа Лионгины решительно обшарил все углы, чердак. Его шаги тонули без эха, со сбегавшей вниз улицы долетало приглушенное цоканье лошадиных копыт, в другое окно, открытое, с болтающейся портьерой, веяло запахом вянувших роз.
– Тут ты жить не будешь, Тадас, – пожевал он ус, словно советуясь с кем-то более мудрым, чем сам. – Знаю одно местечко. У своих людей. Поехали?
Не спрашивая, согласны ли они, затолкал обратно в машину. Пруденции жаль было покидать шикарный, утопающий в зелени коттедж. В садике пылали невытоптанные клумбы с цветами – рви и ставь в вазы! Лигии же было все равно, куда они укатят. Тадас? Его зовут Тадас? Она должна будет ласково шептать это мужицкое имя? Никогда!
Свои люди – рабочая семья – радушно приютили, уступили им комнату – даже с круглым столом и двумя расшатанными стульями! – но по квартире носилось сопливое, пищащее на нескольких языках племя. Дети путались под ногами, нахально клянчили конфеты.
– Вот что, – решил Тадас, посоветовавшись с хозяином, таким же пролетарием, как и он сам. – Мадам Пруденция останется ночевать тут, а мы махнем в Павильнис!
– Не оставляй меня среди этих байстрюков! Слышишь, Ляля? – цеплялась за дочь Пруденция.
Теперь я погибла, теперь уж точно вынуждена буду любить этого усатого остолопа! Будущая мама Лионгины хотела вновь расплакаться, однако потянула носиком не слишком усердно, а когда они выбрались из тесноты города в простор полей и дорога полетела между поросшими сосной холмами, то уже довольно перевела дух. Как можно дальше от страшного города, от воспоминаний о вагоне, как можно дальше от Пруденции!
С любопытством, чуть ли не с уважением смотрит она теперь на Тадаса, сжимающего руль. Под ветром развевается над плечом сползший в сторону галстук, пятнами пота чернеет пиджак на спине. Ей пришло в голову, что ему необходима иная жена, которой не важно, как завязан галстук, и сердце кольнула неожиданная ревность к этой воображаемой. Хоть и гулял у нее ветер в голове, не могла не почувствовать, что Тадас – человек добрый, на редкость надежный. Много позже, когда испарилось опьянение тем неспокойным днем, она оценила и его смелость. Не много нашлось бы людей, которые в такой или подобный день решились бы поступить, как он. Ведь только едва имя ее знал, когда бросился вызволять из вагона, рискуя собственной шкурой, положением, всем. Доверился своему чувству, и этого хватило, равно как и позже достанет ему сил отстрадать по благородству души. А теплушка ему скоро аукнулась – всякий раз, когда он спотыкался, ему поминали связь с социально чуждыми элементами, их переплетшиеся на мрачном перроне тени тянулись за ним всю жизнь. Немного таких мужчин было и будет, скажет позже мать подросшей Лионгине, мечтательно поглаживая мех чернобурки, настоящий человек и настоящий, дочка, коммунист. Мать Лионгины не особенно жаловала коммунистов, так что ее слова не были пустым звуком. Вытащу эту лисоньку, поглажу мех и вижу себя молодой, красивой, правда несколько помятой в вагоне, и его вижу твоего отца, трясущегося от любви и страха, чтобы у меня и волосок с головы не упал. Что может случиться со спасенной из ада – хуже, чем в вагоне, не будет нигде, а тут сосны шумят, ягодники цветут, крашеные ставни поблескивают…
– Кот! Где кот? – вдруг спохватилась, запричитала Лигия, хотя не кот был у нее на уме, и ткнулась подбородком в крепкую, потную спину. Казалось, о нагретую солнцем гору оперлась, сил лишившись.
– Сейчас будем на месте, сейчас! – Гора изо всех сил нажала на педаль. В его могучих жилах гудела кровь, и Лигия слышала, как стучит, словно перегруженный мотор, не вмещающее чувств сердце.
– Много воды утекло, уж и сосны те не шумят, а я все слышу, как раскатываются по его телу волны и захлестывают меня, и хочется уже не реветь – смеяться от счастья.
– А я, мама? Когда я появилась? – пристала Лионгина, когда мать снова принялась гладить чернобурку.
– Ты, ты! Только тебя не хватало! Долгий разговор… Началась война, пришли в Вильнюс немцы, твой отец укатил с Советской Армией на Восток. Обещал заскочить на военной машине, забрать нас. Ждали, собрав вещи, а он не появился ни в тот, ни на другой день, только через три с половиной года!
– Подожди, мама, не спеши. – Пришло время развеять туман неясностей, чтобы не застили они больше неба. – Если отец уехал в июне сорок первого, то, значит, не он мой отец. Не носила же ты меня четырнадцать месяцев! Родилась я в августе сорок второго. Значит… или я от святого духа зачата, или…
– Не путай сюда господа. И отцу не лгала, и тебе не стану, что от святого духа… Был один франт, тоже клиент нашей парикмахерской. Из тех веселых каунасских студентов. Он меня и сломил: или ляжешь со мной, или сообщу куда следует, что муж у тебя – большевистский комиссар. Выкручивалась, как могла, все на небо поглядывала – не свалится ли оттуда Тадас с парашютом, не ворвется ли, как тогда на станцию, сильнее судьбы? Мало того, Пруденция стала грызть, соль на раны сыпать: такая страшная война, не вернуться твоему муженьку живым, невесть где косточки его разбросаны, тут, если кому и улыбнешься, и комар носа не подточит. Хорошей сводницей была твоя бабка, франт ее продовольственной карточкой купил, без карточки, по правде говоря, в то время – голод. Не хотела я ни его ласк, ни карточек, но живьем в землю не полезешь. Едва округлилась, кудрявый в кусты – больше его и в глаза не видела. Как хочешь, дочка, можешь плюнуть мне в глаза и отчима своего больше не называть отцом…
– Мне он – отец, больше чем отец. Особенно после твоей исповеди. Зачем было скрывать от меня?
– Зачем, зачем! Что ты поняла бы – малявка?
– Я чувствовала, все чувствовала, хоть и ты скрывала, и отец… Такую тяжесть на меня взвалили, не знаю когда, не знаю кто, а сбросить не дают. Глянет отец, кажется, в землю вобьет, заговорит, даже ласково, а сам в сторону смотрит…
– Брось болтать. Малявкой была и – чувствовала?
– Малявкой, говоришь? Пускай малявкой. Пяти лет не стукнуло, а чувствовала: стоит между нами то, чего не должно быть… скользкая, мерзкая стена… стоит. И отец понимал, что я это чувствую. Так тяжко бывало…
– Не выдумывай! Скрытницей ты стала позже, в пору созревания. На девочек такое находит. Да наконец… если бы ты и возненавидела меня – я ответила бы: ведь он-то не попрекал!
…Эх, парень молодой, молодой…
в красной рубашоночке…
хорошенький такой, да такой!
– Вижу, не оставляете чернобурку в покое?
– И не стыдно шпионить за мной? – Квартирантка сердито швырнула шляпку, лису и стала поспешно облачаться в халат. – Должна сказать вам вот что, уважаемая…
– Учтите, эта лиса…
– Есть дела поважнее. Вы знаете, что ваша мать – симулянтка?
– Как вас понимать?
– Я больше не кормлю ее с ложечки.
– Голодом морите? Хорошенькая история. И давно?
– Сама ест.
– Не понимаю.
– Очень просто. Кладу на кровать и отхожу. У нее левая-то рука не отнялась.
– Болтовня!
Лионгина хотела рассмеяться, но не услышала своего голоса. Горели щеки, а корни волос кололи, словно в иголки превратились.
Квартирантка метнулась на кухню, тут же возвратилась.
– Видите, что у меня в руках? Нашла в щели за кроватью.
Квартирантка помахивала молотком, отцовским молотком, привезенным из заключения. С его помощью мать заставляла отца прыгать, с его помощью погнала к бочке, а может, и на смерть. Нет, умер он просветленным, ликуя от обилия клюквы, которая должна была порадовать мать, пробудить воспоминания о необыкновенной их любви.
– Чего вы так переживаете? Раньше стучала молотком, теперь прекрасно держит ложку. Разве лучше было, когда она голодала, надеясь на благодетелей?
– И она… согласилась?
– Пришлось согласиться, пришлось!
Квартирантка замкнула ротик. Лионгина отстранилась, словно опасаясь укуса. Знала и она, что мать владеет левой рукой, хотя притворяется, будто и пальцем шевельнуть не может. Это притворство – желание ничего не брать, чтобы по-прежнему кормили с ложечки! – было единственной ее хитростью. Чем беспомощнее казалась, тем больше могла вытребовать у отвернувшегося от нее мира. Левую руку мать заморозила в бешенстве, что отец отбился от дома. Позже она таким способом продолжала мстить всем здоровым, своей болезни, превратившей нестарую и жизнелюбивую женщину в гнилушку. Теперь у нее вырвано последнее оружие, ока растоптана и выставлена на осмеяние. Она и Лионгина, которая терпеливо сносила ее капризы, словно заранее зная, что обман рано или поздно обнаружится.
– Здравствуй, мама, – сказала, подойдя. – Я слышала, ты поправляешься?
Огромное тело не шевельнулось, лишь стихло свистящее дыхание.
– Как себя чувствуешь, мама?
Затрещала кровать, разбухшее тело напряглось, как бы пытаясь сжаться, исчезнуть. Не оставаться на поверхности – здесь она легко уязвима – провалиться туда, где когда-то ей было безопасно и спокойно рядом с незадачливым, однако крепко любящим мужем, нет – еще глубже, где шаловливую, не чурающуюся амурных приключений девчонку ждали всепрощающие объятия Пруденции. Стоило обеим, матери и склонившейся над ней Лионгине, вспомнить о судьбе бабушки, как тяжелое тело со скоростью брошенного из катапульты камня вновь всплывает.
– Не удивлюсь, если в один прекрасный день окажется, что она и ходить может, – паясничала квартирантка, стоя за спиной.
– Замолчите! Не ваше дело, – почти умоляла Лионгина.
– Можно подумать, что я тут посторонняя.
– Спасай меня, дочка. – Голова матери дрогнула, в набухшем тесте лица бочажками блеснули глаза. – Защити меня от этой грязнухи… от этой уличной девки!
– Успокойся, мама. Никто не собирается обижать тебя. – Лионгине тоже нелегко было отказаться от последней, связывавшей их, многое объяснявшей тайны. Когда саднило совесть, она оправдывалась этой левой рукой – вот что терплю, а ведь никто не знает! Теперь рука свидетельствовала не столько против матери, сколько против нее. Заведомо выдавала аванс, платила за будущую позорную зависимость от чужого, случайного человека. Платила за неминуемое предательство…
– Заставляет есть левой, – пожаловалась мать детским голоском, взывая к их молчаливому договору – не посягать на ее последнюю хитрость. – Не умею. Обливаюсь. Больно мне…
– Хватит притворяться, мама. Я терпела твои капризы. От чужого человека этого требовать нельзя.
– А Тересе? Почему Тересочка?..
– Тересе умерла, мама.
– Не говори, что умерла! – Мать не хотела этому верить. В кончине подруги угадывала свою – и сопротивлялась ей из последних сил. Дрожь сотрясла тело, вот-вот вырвется из сковавших его тисков и, шатаясь, пойдет проверить, действительно ли нет больше Тересе. Лионгина не стала убеждать, молчание больше, чем слова, приучало к правде. Мать стиснула веки, чтобы ничего не видеть. По неровным буграм щек скатилась слеза, из глубины груди вырвался стон. Еще и еще… Стоны, сначала приглушенные, едва слышные, постепенно усиливались, становились похожи на вой зверя, смертельно раненного зверя, и у Лионгины от них стыла кровь. Снова сверкнули на лице матери грязные бочажки, уже не сопротивляясь, как прежде, – сдаваясь. – Пора и мне… Давно пора туда… Я преступница, страшная преступница… Отцу сердце извела… Родную свою мать в приют затолкала… Твое детство… твою юность загубила… Сама, дочка, зарежь, не давай кондитерше… Возьми нож и зарежь… Закончи, дочка, что начала после смерти отца… Сделай только, чтобы подохла я не от нее… не от пахнущей ванилью руки…
– Не слушайте, она не знает, что говорит. – Лионгина повернулась к квартирантке, заслоняя телом мать.
– Вы и сами похоже думаете.
Встав на табуретку, квартирантка стаскивала со шкафа свой чемодан. Уйдет и не вернется.
– Я не хотела вас обижать. Не уходите. Очень вас прошу. – Лионгина подошла к ней, хотя с радостью схватила бы чемодан и вышвырнула прочь.
– Просите или извиняетесь?
– Что ж, согласна извиниться.
– Извиниться вы должны сердечно.
– Самым искренним образом прошу извинить меня.
– До сих пор капельки сердечности от вас не видала.
– Послушайте, вы! – Лионгина подскочила вплотную, чуть не вцепилась ей в волосы. – Я покорная. За меня все делала и улаживала она, которая теперь так беспомощна. Я не умею бороться. Но, будьте уверены, скоро научусь. У меня в сердце тоже немало железа накопилось. Вы не просто так упрямитесь. Пользуетесь случаем, когда больная воет…
– Очередной каприз старухи. Не собираюсь терпеть ее истерик.
– Ей действительно страшно. И мне страшно. А вам… Скажите наконец, что вам нужно? Деньги?
– Гарантии.
– Какие, извините, гарантии?
– Что комната останется за мной.
– Смерти ее ждете? Может быть, даже ускорить хотите? – Лионгина никогда ни с кем так не говорила и удивлялась самой себе.
– Я пока молодая. Подожду, сколько потребуется. Ведь и теперь хозяйничаю тут, как мне нравится.
– Так зачем же вам гарантии?
– Осторожность – не порок.
– И я так считаю!
– Вот и возились бы со своей мамашей. Зачем тогда мне ее всучили?
– Вы откликнулись на объявление в газете. Сами пришли.
– Сама. Медведь и тот сам на велосипеде ездит. Что, от хорошей жизни?
– Сравнение меня убедило. Скажем, я принимаю ваше условие. Не соображу только, каким образом смогу обеспечить ваши притязания на жилплощадь.
– Оформите опекуншей.
– Самое большее – временно пропишу.
– Так что же, товарищ Губертавичене? Не согласны на мое условие?
– Ищите дураков в другом месте.
– Тогда давайте простимся.
– Мысленно я с вами уже давно распростилась! – Такой, складно и метко отвечающей, Лионгина себя еще не знала. Говорю из будущего, из сверкающих грядущих дней, которые тяжело, тяжелее, чем черные горы, навалятся на мое сердце. Меня там еще нет, но нет уже и здесь.
Ничего подобного не доводилось слышать и квартирантке. Улыбнулась смущенно. Казалось, порвется криво сшитый неопытным хирургом уголок губ.
– Когда познакомились, думала: квочка. Оказывается, вы настоящая лиса. Лиса!
– Лисой мне больше нравится быть, чем квочкой! Даю вам время подумать. Видите, не такая уж я плохая. – И Лионгина очаровательно улыбнулась одной из своих будущих улыбок.
Квартирантка смолчала, еще не убежденная, но ошеломленная.
Браво, ты победила! Твоя улыбка и в самом деле необыкновенна, но как повернуться и выскользнуть, не покачнувшись? Стены, пол станут на дыбы, едва шевельнешься. Притворись, что закуриваешь на ходу…
Очухалась она на лестнице, всем телом повиснув на перилах. Висела между небом и землей, и некому было протянуть ей руку помощи.
Беззвучно открылась дверь кабинета, хотя не должна была открываться – за порядком следила зоркая и услужливая секретарша. Гертруда стояла в дверях и оглядывала приемную, как полководец – поле боя. Интуиция шепнула, что в сети может оказаться редкая рыбка. Только бы ее не спугнули! Холодноватый, все видящий и словно бы ни на ком не останавливающийся взгляд пригнул головы, заскрипели стулья. Боятся ее посетители, подумала Лионгина, а я больше всех, хотя пришла не просить, а в глубине души она боится меня.
– Следующий?
Повелительным жестом Гертруда преградила дорогу мужчине с высоким белым лбом и вялыми, словно от жары набухшими ушами.
Она молниеносно оценила и посетителя, и протянутую им бумагу.
– У вас не слишком срочное дело. Подождете!
– Я уже полдня сижу! – вскочила со стула женщина в огромном желтом берете, выросла, как экзотическое растение.
– Вы ждете всего двадцать минут. Ваша соседка справа пришла гораздо раньше. – Гертруда по-деловому взглянула на свои мужские наручные часы и улыбнулась женщине деревенского вида в платочке, которая от уважения разинула рот.
– Я с работы! Поймите, мы работаем! – взвизгнула франтиха.
– А эти люди, по вашему мнению, баклуши бьют? – Гертруда повела головой на сидящих вдоль стен, на раскладывавшую бумагу секретаршу, которая только что устанавливала очередь, и крикунья обмякла под своим беретом, как трухлявый гриб.
– Я подожду… когда кончите прием… – Лионгине было неловко, что суровая начальница, раскидав всех по сторонам, подняла ее и ведет под руку.
– Как вам у нас нравится, Лионгина?
– Трудно сказать… не понимаю. – На Лионгину удручающе подействовала приемная – какие-то безликие люди: огромный берет, набухшие уши, грубый платок – больше ничего не запомнилось. Удивилась, что кабинет Гертруды столь велик, мебель под орех, много стекла. Гертруда была в темно-синем шерстяном платье, перетянутом блестящим пояском, выглядела молодо и элегантно – иначе, чем дома, где суровела и сковывала других.
– Тебе, детка, следует прийти в себя. – Обогнув огромное кресло, присела на стул. – Кофе будешь пить? Чай?







