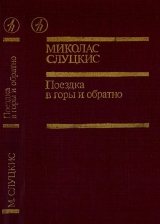
Текст книги "Поездка в горы и обратно"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 40 страниц)
Гертруда встала, опираясь о стол.
– Чего нам тут не хватает? Сдается, чашечки крепкого кофе… – Улыбка цепляется и никак не может уцепиться за судорожно дергающуюся верхнюю губу. – Кто голосует за кофе?
Воскресная обеденная церемония все-таки завершится последним аккордом.
Лионгина – не та, которая сквозь туман слез поглядывает на дрожащую верхнюю губу золовки, а женщина завтрашних далей – дивится Гертруде. Запомни это мгновение, твердит она себе. Пригодится. Сумеешь ли ты улыбаться, стоя на костре, как она?
Поднимается, следует за ней, побуждаемая трудно определяемым чувством. Что это: жалость, любопытство, удивление? Впопыхах разобраться невозможно. Подам стакан воды, если потеряет сознание.
– Как твоя квартирантка? – Гертруда произносит это с трудом, но все остальное в норме. – Уже собираешь… бумажки? Поспеши. Видела? Не меня – его жалей… его!
Ее удержал стук. Пока стояла и тревожно прислушивалась, внутри непрерывно стучала пишущая машинка.
Освещаемый зеленоватым абажуром, окруженный облачком ароматного дыма, за столом попыхивал трубкой Алоизас. Так увлекся, что вздрогнул, лишь когда ее дыхание взъерошило волоски на его макушке.
– Не поверишь, Лина, милая! Шпарю без черновика! Пальцы за мыслями не поспевают. Давно не ощущал такой силы, такого подъема!
Вскочив, вынырнул из дыма, обнял. Вместе с холодком улицы и ношей, с искорками тревоги и недоверия в глазах.
– Таскаешь изо дня в день, как муравей былинки! — Он проворно сунул нос в покупки. – А я тебе – сюрприз. Ужинать не будем!
– Я не против, можно и не ужинать.
– Нет, поедим. И еще как! Отправляемся в ресторан. Столик заказан. Хватит киснуть!
– Что случилось? Объясни!
У Лионгины посерели губы – добрых вестей не ждала и сама их не сулила. В сумочке шуршали с огромным трудом добытые справки. Несколько из множества необходимых для того, чтобы обменять квартиры и съехаться с матерью. Устроить ее в инвалидный дом будет куда труднее, чем она думала и чем предполагал бюрократический опыт Гертруды. Бесконечная голгофа. Каждая бумажка вынуждает выкручиваться, лгать, унижаться. Все это стоит столько крови…
– Взгляни-ка на себя. Хорошее настроение мужа перепугало, как несчастье! – Алоизас кинулся к машинке, чтобы закончить фразу, сделал несколько ударов по клавиатуре и снова очутился возле нее.
Потому что улыбка в наш дом не заглядывает, Алоизас. Потому что мы давно прогнали легкомыслие и радость. А может, никогда и не впускали их, но вслух произнесла только:
– Потому что устала… Устала!.. Понимаешь?
Делаю то, чего не хочу, – то, что противно моей природе, убивает чувства! Понимаешь ли, Алоизас?
– Что все-таки случилось?
– Ничего, абсолютно ничего! – Он провел по ее волосам кончиками пальцев, делал это редко и, вместо того чтобы успокоить, вновь вызвал опасения.
– Перед тобой извинились… за группу М.?
Он мотнул головой, улыбнулся открытым, выпустившим мундштук ртом. Нисколько не заботился о позе, более подходившей для особого случая.
– Решил плюнуть на интриги и целиком отдаться работе?
Алоизас опять отрицательно замотал головой. Подбородок и шея блестели от пота, словно он не на машинке печатал, а топором махал.
– Интриги, говоришь? Не интриги, дорогая. Придется срыть насыпь и вместо нее навалить новую, еще выше! Когда начал распутывать интригу, наткнулся на такое, что у меня волосы дыбом встали… За снисходительностью и ошибками упрятана антиобщественная деятельность, настоящие преступления. От группы М. ниточки тянутся к ректорату!
Лионгина не ожидала подобного залпа, особенно после воскресного обеда, когда Алоизас публично отказался от борьбы.
– Ниточки?.. А где факты, милый?
– Послушай! Мне такого порассказали… Не только экзамен по эстетике сдается с помощью прямых или косвенных взяток, как, например, комнаты в сезон на море или цемент для строительства садового домика! Жалуются и преподаватели других дисциплин, что их ласково обходят, постоянно давят сверху. И не одни доченьки больших начальников, но и детки заведующих базами, председателей колхозов, торговцев пролезают к диплому, не занимаясь. Мало сказать – пролезают! Поступают неизвестно каким образом и кончают с отличием, и самые лучшие места при распределении – им. Да, да! Не веришь? – Алоизас поднял указательный палец, что было непривычно для него, выглядел грозно и наивно. Несмотря на эгоизм, все еще ребенок, кольнуло Лионгину, прямой, честный. Не умеет уступить, приспосабливаться, а когда раздразнят… Хорошо, что со своей бедой сама справляюсь.
– Факты, милый, где факты? – не собиралась она сдаваться, все более тревожась из-за его возбуждения.
Я – гадкая, разрушаю построенный ребенком песочный замок. Почему не дать порадоваться на хрупкие башни? Пусть себе…
– Мне такого порассказали! Люди все видят, все слышат. Не я один по справедливости истосковался! Не сомневаюсь, что меня поддержат, сплотятся вокруг педагоги с чистой совестью. Их большинство, но они забиты. В одиночку с нашей институтской мафией не повоюешь, понял это на своей шкуре. Как только запахнет жареным, чик, и выключается предохранитель!.. Испортился? Прочь! В ресторане увидишь кое-кого из моих единомышленников. Я их пригласил, не сердишься?
– Значит, прощай, книга? – Подбородок Лионгины дрогнул.
Отказывается, напрочь отказывается от своей великой цели, ради которой они оба принесли столько жертв? И веря в успех, и не веря – да, часто теряя надежду! – она все же не решалась отступать, пока в нем тлела хоть какая-то искорка.
– Подожди, Лина! Что я делал, когда ты вошла огорченная, будто землю продала? Расстроилась, что не достала апельсинов для своего большого ребенка? Угадал? Я не ребенок. К черту цитрусы! Наши родители без них жили и детей рожали. Я писал, когда ты вошла… Писал, Лина, и буду писать! Только иначе, повернувшись лицом к миру, в котором мы живем! – Его палец уперся в ямочку на ее подбородке, приподнял голову. Зашуршали и рассыпались волосы, и он подставил свою ладонь, словно под нежный песок или теплую воду. – Этика красоты… Зачем идеал, если у тебя пол носом процветает подлость, безнаказанно хозяйничают хапуги и стяжатели? Повздыхаем, успокоим совесть и снова громоздим башни из высоких слов. Так что к черту выдуманную, нежизненную книжонку, пишем другую – более нужную, правдивую… Этика красоты? Да! Но не витающая в заоблачных мирах, питаемая не химерами – вскормленная суровой повседневностью…
– Снова от нуля? Прожив полжизни – и с нуля?
Если бы не торжественно-вдохновенное лицо Алоизаса, она бы расплакалась.
– Когда начинаешь понимать, что ничего не знал… что был слеп и глух, разве это нуль? Это очень много, Лина. Отныне буду по-другому писать, по-другому жить! Ведь тебе трудно со мной? Не упрекаешь, не говоришь – вижу. Лампочку вместо перегоревшей не я – ты вворачиваешь. Разве трудно вынести табуретку, поупражнять пальцы? Мне с детства внушали: с молотком и гвоздями, с электричеством и всякой прочей ерундой возиться суждено другим, твое дело – высокие материи, идеалы, чистый, похрустывающий лист бумаги!.. И стал я таким стерильным, избалованным, нежизненным, что чуть тебя не потерял, добрая моя Линочка! И больше ни слова об этом! – Увидев мелькнувшую в глазах жены тень воспоминаний, он зажал ей рот влажной, пахнущей табаком ладонью. – Было и сплыло! Не смеет есть нам глаза дым того костра! Однако скажи, дорогая, чем отличается стерильный, боящийся прикоснуться к грязи гражданин от несознательного животного? Лишь тем, что не галит в публичном месте, а накопившуюся желчь изливает в четырех стенах, когда посторонние не видят, как я в воскресенье… Ломал не только Гертруду, но и тебя, тебя! Поняла?
– Не могу прийти в себя, Алоизас… Не могу охватить все… Очень хочется тебе помочь. Сделаю все, что в моих силах, даже сверх сил. – Лионгина уткнулась ему в грудь. Сильно, мужественно билось под ребрами его сердце. – Но позволь усомниться… единственный разочек. Отступив от одной ветряной мельницы, не вступаешь ли ты в борьбу с другой?
Руки Алоизаса слегка стиснули ее талию.
– Я ждал этого вопроса, Лина. Ты никогда мне не лгала. Твою прямоту не смогли сломить ни мой дутый авторитет, ни несносный характер. Я счастливый – у меня есть нелгущее зеркало. Знай, я готов бороться против реального зла. Также против зла в себе самом… Не отправляюсь искать справедливости в другие миры, не буду призывать на помощь летающие тарелочки. Зло произрастает, как сорняки, на всех обочинах… Его надо рубить… рубить… рубить…
Лионгина прижималась к мужу все крепче, чтобы не слышать шума улицы, шороха с лестницы, не желающих униматься своих собственных возражений. Верю тебе, Алоизас… Хочу верить… Стараюсь верить! Ведь я пожертвовала всем, что имела… Теми горами, из-за которых чуть не сошла с ума и не умерла… Черным их негативом… Теперь вот собираю унизительные справки… а ты… Откуда мне знать, может, завтра ты узришь новое светило?..
– Боюсь, Алоизас, что ты говоришь фразами из своей книги.
– Может быть. Еще не научился думать и говорить иначе. Научусь! – Алоизас разжал свои крепкие руки, невольно оттолкнул жену от себя. – Ступай-ка, приведи себя в порядок, Лина. Сегодня ты должна быть красивой!
– И с кем же мы будем ужинать?
– Я пригласил коллегу Ч., ты ее знаешь, такая беленькая. И коллегу, бывшего коллегу Н. Многие его недолюбливают, он со странностями, но… За справедливость, учти, и сражаются чудаки!
Не хочу твоего коллеги Н. …Ой, не хочу! Как болезни!
Вслух Лионгина ничего не сказала. В шкафу шуршали платья, пахнущие ландышем.
Часть третья
Трагикомическая
Смолк рев турбин авиалайнера – «ТУ-124» преодолел расстояние, равное поперечнику Европы. Словно гигантский, выброшенный на берег кит, застыл он на фоне вильнюсского неба, почти такого же темного, как земля. Если бы не разноцветные огоньки сигнализации, было бы даже неприятно видеть, как в его бок мелкой хищной рыбой впивается трап, как, поеживаясь и пряча в воротники лица от мороси, из вспоротого и, наверное, еще теплого брюха чудовища извергаются проглоченные им живые существа. По глади аэродрома сновали различными человеческими руками управляемые машины, будто грязный снег, сдвигая в сторону внезапно навалившийся мрак. Снега не было – только казалось, что под ногами вот-вот захлюпает грязная жижа. По мере того как под плавником самолета все гуще становилась толпа пассажиров, напряжение встречающих понемногу спадало. От лайнера к краю поля потянулась длинная, из разрозненных звеньев цепочка – мужчины, женщины, дети, военные; машущие руками, гомонящие, топтались они на багажной площадке, перед выходом в город. Кто-то из этих беспокойных, еще не пришедших в себя после полета людей должен был именоваться Ральфом Игерманом.
Инспектор гастрольного бюро Аудроне И. – замерзшая голубоглазая женщина с цветком в руке – профессиональным взглядом ощупывала вещи пассажиров. Завернутую в целлофан гвоздику она держала чуть ли не над головой, а взгляд ее, точно щетка, сметающая пыль, шарил по бокам чемоданов, по сумкам и узлам. Она, чтобы меньше трепал ветер, жалась к проходу, за спиной крупной женщины в форменном кителе. Лицами прилетевших Аудроне интересовалась мало, потому что в такой давке вещи больше могли сказать о своих владельцах, чем лица. Тем более багаж артиста: инструменты в чехлах, реквизит.
Но никаких инструментов видно не было. Проплыло мимо несколько красивых, явно иностранного происхождения, поблескивающих никелем чемоданов.
– Простите, вы – не Игерман? Вы не на гастроли? – все более тревожась, кидалась Аудроне к владельцам приличных чемоданов.
Неужели не прилетел?
А может, разминулась с ним?
Господи, что же я начальству-то скажу?
Эта мысль привела ее в ужас. Нервы Аудроне и так были изрядно потрепаны беспокойной должностью и женскими заботами, о чем свидетельствовали ее бегающие голубые глаза, не способные сосредоточиться на чем-то одном.
А начальство, то есть Лионгина Губертавичене, та самая Лионгина, которую мы знали, и уже едва ли та же самая – ведь со времени последней нашей встречи пролетело около десяти лет! – в тот пасмурный осенний вечер даже и не думала о Ральфе Игермане. Днем, в служебное время, ее мысли, простиравшиеся далеко и широко, цепляли и его, прибывающего гастролера. Непривычное имя, больше подходящее для иностранца, чем для советского артиста, шелестело в телеграммах отклеившимися полосками – их на столе лежала целая груда! – мелькало в графах квартального плана на стене, наконец, било в глаза красным и синим на афише над головой мужчины с прилизанными черными волосами, с кольцом на картинно отставленной руке. Отретушированный зачес, а особенно – толстое кольцо с большим камнем приглушали интерес, возбуждаемый необычной фамилией, скорее всего псевдонимом. Телеграммы возражали против Малой сцены, требовали Большой, люкса или двухместного номера в гостинице и т. д. Между тем гастроли ничего интересного не сулили. Отрывки из ролей в кино и театре. Художественное чтение. Пародии. Иначе говоря, объедки, оставшиеся от торжественных пиров…
…Не будь циником, одернула себя Лионгина Губертавичене. Так как чувствовать себя циником не очень приятно, она постаралась выкинуть из головы Ральфа Игермана, заслуженного артиста Туркменской ССР и Якутской АССР. Это было тем более нетрудно, что у них в Гастрольбюро давно разработан неизменный ритуал. При встрече перед носом неизвестного маэстро вырастал цветочек в целлофане. А если знаменитость – в целлофане шуршит уже не одна, а три гвоздики. Разница только в этом. И еще… Знаменитости цветочки вручала бы она сама, коммерческий директор бюро, наведя перед тем красоту в парикмахерской.
Лионгина смахнула бумаги со стола – легкое, грациозное движение доставляло ей удовольствие. Так же привычно и ловко заперла ящик. На столе не осталось ничего, что могло разжечь любопытство уборщицы, когда она утром примется тут орудовать. Можно отправляться. Встала, потянулась к выключателю. Плечо свело от усталости – не нажала. Что же я сегодня делала? Два вызова в министерство. Переговоры с ремонтниками, испохабившими все помещение бюро своими заляпанными известкой спецовками. Авария – рабочего сцены чуть током не убило. Конечно, сам виноват – с утра набрался. Артисты, их претензии. Заседание месткома. Абонементы, общественные распространители билетов и т. д. и т. п.
Лионгина вновь опустилась в кресло, еще теплое от ее тела, вытащила ключики. В ящике блеснула целлофаном пачка сигарет «Таллин». Утром было две. Одну, только одну сигаретку. Курила жадно, давясь дымом, будто кто-то мог подскочить и отнять. Под ложечкой тлело что-то радостное, запретное. Хватит, уже хватит, приказала себе после второй сигареты. Сердце билось учащенно, кровь пульсировала волнами. Остро воспринималось все окружающее, шумно рвущийся в окна город. Что-то запоет Алоизас? Несет, как от пепельницы! Ничего, пока дотащусь, выветрится.
Странно, никто сегодня не преподнес коробки конфет, духов или иного «сувенирчика». Особенно приятно получать цветы. Процокала по увешанному плакатами коридору. Помнится один, много раз виденный: над яйцевидной планетой навис готовый растоптать ее солдатский башмак на огромной подошве. Прошмыгнула мимо, едва покосившись.
Никто не обратил на Лионгину внимания и у выхода, где красным и синим кричала афиша: РАЛЬФ ИГЕРМАН. Если бы несла букет, ели бы глазами. Подумала о себе, как о посторонней. Прохожие стремительно проносились по улице, не поворачивая голов. Невежды! Одни ее сапожки чего стоят – итальянские, последняя мода, приспущенные голенища! Она откинула головку и зашагала словно на ходулях, вслушиваясь, как поскрипывают мягкие, кокетливо собранные в складочки голенища. Наконец-то на ней желанные сапожки! В ФРГ купила. Не так-то легко было напроситься в няньки детского ансамбля, подтирать носы и задики. Не легче из валютных грошей выкроить на такое чудо. Сапоги есть, а необходимый антураж: перчатки, сумочка? С ног сбилась, пока выцарапала у вильнюсских торгашей. Сказка без конца, вздохнула она. Выходит из моды пальто, хотя с перелиной, что стройнит фигуру. Долго бушевавший циклон моды сменился антициклоном. Ничего, что-нибудь придумаю. Шубки всегда в моде. Как видение яркого заката, полыхнула в мозгу шубка. Еще не план, не наметки – так, розоватая рябь в луже, которую разбрызгают ноги прохожих. Тсс, пока что об этом ни звука, товарищ коммерческий директор! Титул новый, как и должность, поскрипывает и слегка пьянит.
Вновь красным и синим мазнула по глазам афиша. Вторая и тут же третья. Весь город увешали. Какой-то Игерман. Она приостановилась, опять двинулась. Гигантская реклама… Твоя работа! Сама с собой кокетничаешь? Не придется ли каяться? Завтра кто-нибудь непременно подложит свинью. Обязательно напортачит или, от вящего усердия, сделает, чего не следовало. Подтрунивая над собой, Лионгина почти жалеет, что не поехала на аэродром сама. Совсем бы расстроилась, знай, как все сложится дальше.
Ветер швыряет в лицо брызги моросящего дождя, носит туда-сюда почерневшие листья. Лионгина Губертавичене встряхивает головой, отгоняя заботы прочь. Конец дня принадлежит ей. Она любит этот съежившийся, как шагреневая кожа, отрезок времени, когда еще не темно и уже не светло. Когда перины облаков наглухо закладывают в небе блеклые разводья. Когда фронтоны домов и лица людей теряют от мглы и порывистого ветра определенные очертания. Сорвавшийся с вяза листок остро царапнул Лионгине щеку, мгновение, и чьи-то пальцы сорвут с лица маску. Невидимую. Так приросла, так эластична, что уже неразличима. Сама ее не чувствует. Разве что в такой час, когда все спуталось: может пойти снег, может дождь, может и гром загреметь. Лионгина успела поймать порхающий лист и растирает его пальцами. Сама себе доказывает, что нет ничего, не зависящего от ее воли.
Кончилась минута сомнений. Интересно, пахну ли еще куревом? Вдыхает и выдыхает во всю силу легких. Снова четко видит окружающее сквозь мелькание фонарей и отражений. Этой четкости ни на что бы не променяла. Видит посеревшие, замкнутые и усталые лица. Темные ржавые пятна на ярко декорированных фасадах средневековых домов. На стоянке, в скопище автомобилей, замечает прогал, которого не было бы, стой тут ярко-желтый «жигуленок», ее «лимончик». Отогнали на СТОП. В ремонт. Лионгина озирается, будто, учуяв хозяина, «лимончик» все же появится, как верная собачонка. Позвякивая ключиками, пусть и не собственными – машина служебная! – чувствуешь себя человеком. Не так, как в битком набитых троллейбусах, где превращаешься в злобное бесполое существо. Впрочем, это хорошо, что «лимончика» нет. Хотя бы один вечер. Тащиться домой пешком ей не суждено, это она тоже предчувствует.
– Вижу, без своего пегасика? Садитесь, садитесь, мать-начальница, подкину!
Синяя «Волга» с распахнутой передней дверцей трогается с места. Дохнуло приятным теплом, блаженством отдыха. Лицо водителя тоже приятное, по моде обросшее – борода и усы. Ни молодой, ни старый, под пятьдесят. Лионгина не помнит: тенор или баритон? Днем эти младенчески-голубые глаза мелькали в коридорах бюро, шептались о чем-то с бухгалтершей, кассиршей. Терпеливо, незаметно караулил ее, чтобы никому и в голову не пришло, что преследует определенную цель. Расставил капкан там, где она парковала свой «лимончик», и поймал.
– Ваша? Эта лебедь – ваша?
– Лебедь? – Бородатое лицо расплывается от гордости и благодарности. – Машинка как машинка. Моя, конечно. Неужели пригласил бы такую женщину в краденую?
Румянец пробивается сквозь заросли бороды – до чего распалился! Может ли быть, что эта услуга – от чистого сердца? От мужского легкомыслия, без надежды на выгодный концертик?
Голубые глаза продолжали излучать нежную, обволакивающую преданность и когда он захлопнул дверцу. Цок! – замкнулся ремень, стянув ей грудь. Лионгина заерзала, как пойманная, он успокаивающе похлопал себя по колену – ее не решился, – и стало понятно, что вся его любезность и предупредительность, равно как и фамильярно-обтекаемые словечки – пегасик, мать-начальница, машинка, – для дела. Слова и движения подобны буйно вьющейся бороде, которая скрывает его истинный облик – маленькую головку на могучих плечах.
– Баиньки? На Антакальнис? – Прекрасно осведомлен, где она живет – недаром постоянно трется в коридорах бюро, готовый сломя голову мчаться на завод, на инкубатор, в дом престарелых, даже в лесничество, если по возвращении его будет ждать выплатной лист. Он и в костелах певал, по-заячьи прижимая уши. Оказывается, и я о нем кое-что знаю, не только он обо мне. Есть у него и фамилия, красивая и звучная, но отныне буду называть его Пегасиком. Милый мой Пегасик!
– Пожалеете, что посадили. У меня масса дел, – лукаво улыбается Лионгина – Губертавичене заученной, не оставляющей морщин улыбкой.
– Что вы, счастливый денек для меня!
– Не будете потом поминать лихом, а?
– Такое счастье улыбнулось, такое…
– Ладно, ладно! Если вам приятно гонять по городу в час пик, двинем в ателье «Бытовые услуги». Месяц чинят зонтик!
Они пересекают Старый город, минуют длинную центральную улицу, втискиваются в узкий рукав переулка.
– Обождите. Надеюсь, не задержусь.
– Да хоть целую ночку!
Не целую, но подождешь, Пегасик.
Уменьшительные словечки так, кажется, и затолкала бы ему назад в горло. Все-таки по-своему приятна услужливость крупного, унижающегося – ведь унижается, точно унижается! – мужчины, его полные фальшивого восхищения возгласы, извлекающие из могучей груди басовые ноты.

Приемщик ателье лениво шарит по полкам, где, как хворост, навалены зонтики. Слепят лампы дневного света, тесное помещеньице пропахло клеем, кожей, дерматином.
– Темно-синий с голубями? – угрюмо переспрашивает бледный узкоплечий парень. Жирные, грязно-серые пряди скрывают шею и уши, падают на глаза, лезут в рот, то одной, то другой рукой приемщик нетерпеливо откидывает их. – С голубями мира? – переспрашивает.
– С обыкновенными. Японский зонтик.
– Так бы и говорили. – Он не решается поднять на Лионгину покрасневшие от резкого света глаза. – Японские на другой полке.
Зонтика с голубями нет и на другой полке.
За спиной начинают волноваться клиенты, особенно ярятся женщины.
– Я сама, можно? – Она давно заметила свой зонтик, еще тогда, когда стояла в середине очереди.
Легко, как девочка, перешагивает через провисший, обшитый потертым бархатом шнур, демонстрируя тем самым свои итальянские сапоги.
– Вот он, мой зонтик, – доверительно-успокаивающе шепчет она.
Приемщик ошеломлен, будто фокус ему показали. Вытаскивая зонтик из пестрой груды, Лионгина легонько касается свернутым нейлоном его худой, впалой щеки. От ласкового прикосновения у парня разъезжаются в улыбке губы. Слышится женское шипение:
– Артистка. Ишь, кривляется!
Приемщик, как лунатик, перешагивает следом за Лионгиной через шнур, провожает до дверей.
Сорок пять рубликов, думает она, дура я, что ли, выбрасывать в помойку? Надо же было забрать в конце концов.
Ошарашенный парень не сводит с нее глаз. Пелерина, аромат дорогих духов и сигарет. Госпожа Кеннеди-Онассис, а не вильнюсская дамочка, которая вот-вот потащится под зонтиком в магазин за молоком и творогом. Господи, пусть бы снова сломался ее зонтик!.. Потом он с подозрением проводит по горящей щеке, словно змеей ужаленной. Даже ладонь разглядывает, нет ли крови.
– Выбросите! Малейший ветерок сломает! – оживляется Пегасик, ободренный появлением Лионгины.
– Наверно, выброшу. – Она не спорит, внезапно ощутив тяжесть дня. Парень-то принял за молодую, а я старая, настоящая старуха. – Разве они починят по-человечески?
Не она – усталость ворчит. Ей не жалко зонтика, который, вероятно, придется выбросить.
– Платишь за ремонт. Потом платишь мусорщику, чтобы увез. С телевизором так намаялся. Халтурщики! Стрелять их надо!
Ни одного уменьшительного словечка. Два раскаленных острия выскакивают из голубизны Пегасиковых глаз. Кто отточил? Раскалил? Ведь тишайший человек – с уборщицей Гастрольбюро раскланивается. Ах да, большая, плавно покачивающаяся машина… Усевшись на мягкое сиденье, по-иному воспринимаешь мир. И меня через ее стекла другой увидел. Доступной. Которую можно купить, подбросив домой.
– Не слишком ли круто берете, любезный?
– Шуткую, мать-начальница. – Ему хочется смахнуть тень, омрачившую лоб коммерческого директора, но совладать с собой не в силах. – Расплодились, как тараканы. Бездельники, халтурщики!
Интересно, ведь сам из той же породы. Исполнитель современных песенок и дешевых, псевдонародных дайн. Кроме того – надомник, шарфы вяжет. Не своими руками – загнанной жены и пугливой, как белка, падчерицы. А заработок – ему.
И я не лучше, глазом не моргнув, осудила человека. Кто теперь не ворчит, хотя все живут лучше, чем десяток лет назад? Высадил бы из машины и был бы прав. Только не посмеет – ведь я мать-начальница! – но кому-нибудь другому этого зонтика не простил бы, разгромыхался: трах-тарарах, бум-бах!
Очень уж не вязалось с образом Пегасика подобное, Лионгина даже рассмеялась. И мигом снова приободрилась. Какие же мы смешные люди. Вот как я его накажу – сожжет по моей милости полбака бензина!
– Куда теперь прикажете?
– Дайте подумать.
– Думайте хоть целые сутки. Я нынче самый счастливый автовладелец в Вильнюсе.
Лионгина Губертавичене не спеша думает. Прежде всего о том, что, куда бы ни поехала, не найдет никого, лишь саму себя: ошеломляюще элегантную, вводящую в заблуждение своим не по годам моложавым видом, равно как и другими столь же сомнительными добродетелями. К чему эта игра? Зонтиком она пользоваться не будет, ничего не принесут и другие визиты, которые придумает экспромтом, чтобы подразнить Пегасика, теша собственное пустое тщеславие. И еще она думает о том, что домой не тянет. Больше, чем в другие вечера, а это непонятно и немного пугает. Лучше, не разбираясь, окунуться с головой в необязательные дела-делишки.
– Давайте к новому ресторану.
– Хорошо придумано. И кавалер налицо.
– Благодарю за честь. Неофициальный визит к буфетчице.
– А… Зеленый горошек?
– Не только. Советую развивать воображение.
Они проезжают полгорода, пока наконец не подкатывают к ресторану.
– Провожу, мать-начальница? Всякие тут шляются.
– Сидите! Если торопитесь, вернусь на такси.
Буфетчица в белой крахмальной наколке и не сходящемся на груди халате живо расталкивает в стороны подносы официантов. Она такая толстая, что кажется надутой. Отдельно надута голова, отдельно грудь и руки. Маленький ротик тщетно старается стянуть все части лица воедино, как маленький замочек – огромный чемодан с отделениями и карманами. А была стройной, симпатичной девушкой, всякий раз удивляется, глядя на нее, Лионгина. Не столько удивляется, сколько гордится своей стройностью и легкостью.
– Господи, Лионгина, все хорошеете и молодеете!
– Вы, Вильгельмина, цветете!
Не умещающаяся в самой себе и белом халате женщина – бывшая квартирантка матери. Кое-чему научила меня, думает Лионгина. Но ученики побеждают учителей.
– На здоровье не жалуюсь, но тело не в подъем, – стонет Вильгельмина. – Отомстили мне сливки, шоколады и пирожные. Да, да, Лионгина! Теперь одну воду пью, и все равно разносит.
Курносый, все время приглаживающий черные усики официант что-то недовольно бурчит, и буфетчица клацает замком ротика. Злоба не испарилась из нее вместе с худобой и молодостью.
– Цыц ты! – рявкает она, от чего вздрагивают мясистые шары щек, и парень сразу смолкает. – Молодые, а хамы. Воспитывай не воспитывай, тупоголовых не прошибешь. Что будете брать, Лионгина? Окорок есть, нежирный, вареный, лосось, апельсины. Может, икорки? Говорят, для мозгов хорошо. Кормите Алоизаса, не жалейте!
– Полнеть стал мой Алоизас. Обойдется без икры.
– Сто лет его не видала. Располнел, говорите? Мужчинам солидность не помеха. Помню… – Толстуха пытается что-то вспомнить, но не может ухватить и извлечь что-нибудь подходящее к случаю. Не дают сосредоточиться яркие блики света, отражаемые бутылками и коробками конфет от вращающейся люстры.
– Дайте икры! – Лионгина не призналась бы – особенно бывшей квартирантке, – что икра и теперь ей не по карману.
– На колесах? Эй ты, козел, – буфетчица шлепает сосисками пальцев усатого официанта по рукаву фрака, – снеси-ка в машину!
– Мои клиенты взбесятся! – злобно огрызается он.
– В ресторан люди повеселиться приходят – не скандалить. Вот если я взбешусь…
У парня топорщатся усики, но возражать не смеет.
– Спасибо! Даже не знаю, Вильгельмина, чем смогу с вами расквитаться, – меланхолично выпевает Лионгина. Так или иначе, ошиваться по буфетам не особенно приятно.
– Это я у вас в долгу, я! Кто моей Бригите помог?
– Пустяки. С одним преподавателем поговорила, с другим. Они ведь все у нас концертируют. – Лионгина покровительственно и вместе с тем скромно улыбается. – Все никак не привыкну – такая большая дочка у вас!
– Чему удивляться? Забеременела в пятнадцать лет. Шрам на губе с тех пор, во! – Вильгельмина языком выталкивает запавший уголок губ. – Бригита у бабушки росла.
Лионгина вздыхает, как положено в таких случаях, хотя эта история для нее – не новость.
– Рада, конечно, что сумела малость помочь. Когда-то не особенно красиво с вами поступила, правда?
– Что вы, милая, с лихвой расплатились. В консерваторию или – в реку! Жизнь, можно сказать, моей Бригите спасли, а заодно и мне, подошв ее туфелек недостойной!
По жирной складке между щекой и носом скатывается счастливая слеза. Тогда, когда явилась умолять о помощи, по ее колышущемуся лицу тоже катилась слеза. Больше не способна выжать – одну. Прозрачный бриллиант надежды или мутный кристалл отчаяния – эта ее единственная слеза.
– В консерваторию или – в реку. Чуть с ума не сошла.
Будто кто выпотрошил ее, эту до неприличия жирную, обозленную на весь мир женщину, – такая она ясная. Ничего другого и выпотрошив в ней не найти, кроме самопожертвования ради дочери. Во имя нее была безжалостной квартиранткой, во имя нее теперь хищная бой-баба, бессовестно разбавляющая крепкие напитки. Будь Лионгина смелее, призналась бы, что завидует этому ее всепоглощающему чувству или инстинкту. Мурашки от него по спине бегают.
– Для вас, для ваших друзей, – завсегда, Лионгина. Какой бы дефицит ни понадобился! – глыбится за стойкой, как распахнутый платяной шкаф, Вильгельмина. – Не будет у меня – товарок мобилизую. Алоизас любит языки? Эй ты, ротозей, – тычком гонит она ворчливого официанта, – сбегай-ка на кухню, принеси два маринованных.
Лионгина спускается по лестнице в сопровождении взбешенного парня, не переставая думать о том, что следовало бы выкинуть из головы. Надо бы вино подобрать к маринованному языку! – а она распутывает странную метаморфозу своих взаимоотношений с Вильгельминой. Я – гадкая, знаю, что гадкая, однако иногда люблю делать добро. Не только ради икры и маринованных языков. Ей-богу, не знаю, какая муха меня укусила, когда взялась ее дочь протолкнуть. Может, захотелось блеснуть перед бывшей квартиранткой своим могуществом? Может… получить отпущение за грехи, которых набралось преизрядно? Лионгина ощущает, что двигавшее ею чувство сложнее, чем нынешнее объяснение. Как бы там ни было, но дефицит под забором не валяется, мысленно отмахивается она от своих сомнений и бодро цокает каблучками.







